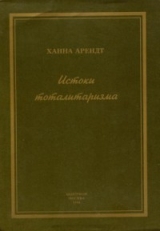
Текст книги "Истоки тоталитаризма"
Автор книги: Ханна Арендт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 49 страниц)
То, что движение в пользу экспансии ради экспансии возникло в национальных государствах, которые, более чем какие-либо иные политические организмы, основывались на точном определении границ и пределов возможных завоеваний, представляет собой один из примеров того на первый взгляд абсурдного расхождения между причиной и следствием, что стало отличительным признаком современной истории. Дикая путаница в современной исторической терминологии является лишь побочным продуктом этого расхождения. Проводя сравнения с Древними империями, путая экспансию с завоеванием, игнорируя различия между имперской федерацией (Commonwealth) и империей (которые доимпериалистические историки называли разницей между поселениями колонистов и владениями, или колониями и зависимыми территориями, или, несколько позже, между колониализмом и империализмом), [293]293
Первым ученым, употребившим термин «империализм» для различения между империей и имперской федерацией, был Дж. А. Гобсон. Но сущность этого различия была известна всегда. Например, принцип «свободы колонии», чтимый всеми либеральными британскими политиками после Американской революции, сохранял силу только в том случае, если колония была «населена британцами или… содержала такую пропорцию британского населения, что в ней можно было без опасений вводить представительные институты» (см.: Schuyler K. L. Op. cit. Р. 236 ff.).
В XIX в. следует различать три типа заморских владений Британской империи: переселенческие территории или колонии, подобные Австралии и другим доминионам; торговые фактории и владения вроде Индии и морские и военные базы типа мыса Доброй Надежды, содержавшиеся для обеспечения предыдущих. В эпоху империализма все эти владения претерпели изменения в том, что касается их административной и политической значимости.
[Закрыть] игнорируя, другими словами, различие между вывозом (английских) людей и вывозом (английских) денег, [294]294
Barker Е. Op. cit.
[Закрыть] историки пытались отмахнуться от того будоражащего факта, что столь многие важные события новой истории выглядят так, как если бы мухи собрались вместе и образовали собой слона.
Современные историки, взирая на зрелище того, как кучка капиталистов снует по земному шару в хищническом поиске новых инвестиционных возможностей, играя при этом на стремлении к прибыли сверхбогатых и на азартных инстинктах сверхбедных, замыслили облечь империализм в тогу славы и величия Рима или Александра Македонского, в тогу величия, которое сделало бы все последующие события более терпимыми с человеческой точки зрения. Несоразмерность причин и следствий была раскрыта в знаменитом и, к сожалению, точном замечании о том, что Британская империя была обретена в минуту рассеянности; это нашло жестокое подтверждение в наше время, когда для того, чтобы покончить с Гитлером, понадобилась мировая война, что постыдно именно потому, что одновременно и смешно. Нечто подобное проявилось уже и во время Истории Дрейфуса, когда лучшие силы нации понадобились для того, чтобы завершить борьбу, начавшуюся в виде гротескного заговора и закончившуюся фарсом.
Единственно, в чем состоит величие империализма, так это в том, что национальное государство проиграло ему свою с ним битву. Трагизм этого неумелого противостояния состоял не в том, что многие из представителей нации оказались купленными новыми империалистическими дельцами; хуже коррупции было то, что некоррумпированных удалось убедить в неизбежности империализма как средства мировой политики. Поскольку морские базы и доступ к сырьевым ресурсам были действительно необходимы всем нациям, они поверили в то, что спасение нации зависит от аннексий и экспансии. Они были первыми, кто не смог понять фундаментальной разницы между старыми основаниями торговли и поддерживающими ее фортами на морских путях и новой политикой экспансии. Они поверили Сесилу Родсу, когда тот призвал их «осознать тот факт, что нельзя жить, если не овладеть мировой торговлей», что «торговля – это весь мир и ваша жизнь – это весь мир, а не только Англия» и что поэтому «нужно решать вопросы экспансии и удержания мира». [295]295
Millin S. G. Op. cit. P. 175.
[Закрыть] Не желая того и иногда даже не зная об этом, они не только становились пособниками империалистической политики, но и оказывались первыми, на кого пали обвинения и разоблачения в «империализме». Так было с Клемансо, который – по причине своей отчаянной озабоченности судьбой французской нации – стал «империалистом» в надежде, что людские резервы колоний помогут защитить французских граждан от агрессоров.
Совесть нации, представленная парламентом и свободной печатью, продолжала действовать, вызывая неудовольствие у колониальных администраторов во всех европейских странах, обладавших колониями, – будь то Англия, Франция, Бельгия, Германия или Голландия. В Англии, чтобы проводить различие между имперским правительством, находящимся в Лондоне и контролируемым парламентом, и колониальными властями, это влияние было названо «имперским фактором». Тем самым империализм наделялся достоинствами и признаками правопорядка, который он так жадно стремился изничтожить. [296]296
Происхождение этого выражения, вероятно, связано с историей британского владычества в Южной Африке и восходит к временам, когда местные правители Родс и Джеймсон вовлекли «правительство империи» в Лондоне в войну с бурами. "На самом деле Родс или даже, скорее, Джеймсон был абсолютным правителем территории, в три раза превосходящей по размеру Англию, которой мог управлять «без ворчливых согласий или вежливых отказов Верховного комиссара», который был представителем правительства империи, сохранявшего лишь «номинальный контроль» (Lovell R. I. The struggle for South Africa, 1875–1899. N.Y, 1934. P. 194). A что случается с территориями, где британское правительство передает свою юрисдикцию местному европейскому населению, лишенному всех присущих национальным государствам традиционных и конституционных сдерживающих начал, лучше всего можно увидеть на трагической истории Южно-Африканского Союза после получения им независимости, т. е. после того, как «правительство империи» утратило право на вмешательство.
[Закрыть] Политически «имперский фактор» нашел выражение в представлении о том, что колониальные народы не только защищены, но как бы и представлены в английском «парламенте империи». [297]297
В этой связи представляет собой интерес спор в палате общин в мае 1908 г. между Чарлзом Дилком и министром по делам колоний. Дилк предупреждал против предоставления самоуправления колониям, так как это приведет к порабощению плантаторами цветных работников. Ему было сказано, что туземные народы также имеют представительство в английской палате общин (см.: Zoepfl G. Kolonien und Kolonialpolitik // Handworterbuch der Staatswissenschaften).
[Закрыть] Здесь англичане подошли очень близко к французскому опыту построения империи, хотя они никогда и не заходили так далеко, чтобы дать подвластным народам действительное представительство. Тем не менее, они, без сомнения, надеялись, что нация в целом будет служить своего рода опекуном покоренных народов, и действительно, она неизменно делала все от нее зависящее, чтобы предотвратить возможные худшие варианты.
Конфликт между представителями этого «имперского фактора» (который точнее было бы назвать национальным) и колониальными властями проходит красной нитью через всю историю британского империализма. «Мольба», с которой Кромер во время своего правления в Египте в 1896 г. обратился к лорду Солсбери: «Избавьте меня от английских ведомств», [298]298
Zetland L. J. Lord Cromer. 1923. P. 224.
[Закрыть] повторялась вновь и вновь, вплоть до 20-х годов нашего столетия, когда экстремистская империалистическая партия уже в открытую обвинила нацию и все ее принципы в создании угрозы потери Индии. Империалисты всегда испытывали неудовольствие по поводу того, что правительство Индии «должно оправдывать свое существование и свою политику перед общественным мнением в Англии»; этот контроль сделал теперь невозможным прибегнуть к тем мерам «административной резни», [299]299
Carthill A. Op. cit. P. 41–42, 93.
[Закрыть] которые сразу по окончании первой мировой войны были опробованы в качестве радикального средства умиротворения[300]300
Пример «умиротворения» на Ближнем Востоке подробно описан Т. Э. Лоуренсом в статье «France, Britain and the Arabs», написанной для газеты «The Observer» (1920 г.): «Арабы добиваются первоначального успеха, английские подкрепления выступают в качестве карательной силы. С боями они продвигаются… к своей цели, которая тем временем подвергается обстрелу артиллерией, с самолетов и канонерок. В конце сжигается какая-нибудь деревня, и район умиротворяется. Странно, что мы не применяем в таких случаях отравляющие вещества. При бомбардировках домов женщины и дети гибнут местами… Газовыми атаками можно аккуратно уничтожить все население непокорных районов; а как метод управления все это не более аморально, чем существующая система» (см.: Lawrence Т. Е. Letters / Ed. by D. Garnett. N.Y., 1939. P. 311 ff.).
[Закрыть] в отдельных местах и которые могли действительно предотвратить движение Индии к независимости.
Подобная же вражда между представителями национального государства и колониальными администраторами в Африке существовала и в Германии. В 1897 г. со своего поста в Юго-Восточной Африке и с государственной службы – из-за его жестокости по отношению к местному населению – был уволен Карл Петерс. То же самое случилось и с губернатором Циммером. А в 1905 г. племенные вожди впервые обратились со своими жалобами в рейхстаг, и в результате, когда колониальные власти бросили их в тюрьму, за этим последовало вмешательство германского правительства.[301]301
С другой стороны, в 1910 г. министр по делам колоний Б. Дернбург был вынужден уйти в отставку, так как своим покровительством туземцам восстановил против себя плантаторов (см.: Townsend М. Е. Rise and fall of Germany's colonial Empire. N.Y., 1930; Leutwem P. Kampfe um Afrika. Luebeck, 1936.)
[Закрыть]
То же самое относится и к французскому управлению. Губернаторы, обычно назначавшиеся правительством в Париже, либо испытывали мощное давление со стороны французских колонистов, как это было в Алжире, либо просто отказывались проводить реформы в сфере отношений с местными жителями, так как, по их мнению, эти реформы были продиктованы «мягкотелыми демократическими принципами (нашего) правительства». [302]302
Слова Леона Кайла, бывшего генерал-губернатора Мадагаскара, друга Петена.
[Закрыть] Повсюду империалистические администраторы ощущали контроль нации как непомерное бремя и угрозу колониальному господству.
И империалисты были совершенно правы. Современные условия властвования над покоренными народами были известны им лучше, чем тем, кто, с одной стороны, протестовал против управления указами и бюрократическим произволом, а с другой – надеялся сохранить свои владения навсегда во имя славы нации. Империалисты лучше, чем националисты, понимали непригодность политического устройства национального государства для построения империи. Они отлично осознавали, что победное шествие национального государства и его завоевания, если предоставить все это на волю внутренне присущих такому государству законов, закончится подъемом национального самосознания колониальных народов и поражением завоевателей. Поэтому французские методы, пытавшиеся сочетать национальные чувства со строительством империи, были гораздо менее успешными, чем английские, которые, начиная с 80-х годов прошлого века стали открыто империалистическими, хотя и сдерживаемыми метрополией, сохраняющей свои национальные демократические институты.
5.2 Власть и буржуазияЧего действительно хотели империалисты, так это распространения политической власти без создания при этом политического целого. Империалистическая экспансия была вызвана необычного рода экономическим кризисом – перепроизводством капитала и появлением «лишних» денег, явившимся результатом перенакоплений, которые не могли больше находить сферу производительного инвестирования в рамках национальных границ. Впервые не инвестирование могущества прокладывало путь инвестированию денег, а экспорт власти смиренно влачился за экспортом денег, поскольку бесконтрольное помещение капиталов в отдаленные страны грозило превратить широкие слои общества в азартных игроков, превратить всю капиталистическую экономику из системы производства в систему финансовых спекуляций и заменить прибыли от производства комиссионными доходами. Десятилетия, непосредственно предшествовавшие империалистической эпохе, являли свидетельства невиданного роста мошенничества, финансовых скандалов и биржевых спекуляций.
Пионерами в этих предымпериалистических свершениях были те еврейские финансисты, которые нажили свое богатство вне капиталистической системы и в которых растущие национальные государства нуждались для получения международно гарантированных займов. [303]303
Это и последующее перекликается с сообщенным в главе второй настоящего издания.
[Закрыть] После установления твердой системы налогообложения, обеспечившей надежное финансирование государственных расходов, эта группа имела все основания бояться полного устранения. В течение столетия, зарабатывая деньги посредством получения комиссий, они, естественно, были первыми, кто соблазнился приглашением участвовать в помещении капиталов, которым не находилось прибыльного места на внутреннем рынке. Еврейские международные финансисты действительно представлялись наилучшим образом приспособленными для этих, по сути своей международных, деловых операций. [304]304
Интересно, что все ранние исследователи империалистического развития делали очень большое ударение на этот еврейский элемент, в то время как в более поздней литературе на него почти не обращают внимания. Особенно примечательна, ввиду его надежности как наблюдателя и честности как аналитика, эволюция в этом вопросе Дж. А. Гобсона. В первом написанном на эту тему своем эссе «Capitalism and imperialism in South Afrika» (Contemporary Review. 1900) он писал: «В большинстве своем (финансистами)… были евреи, ибо евреи – это международные финансисты Божьей милостью, и, хоть и говорившие по-англйиски, они в большинстве своем были родом с континента… Они пустились туда (в Трансвааль) за деньгами, и те, кто поспели раньше и заработали больше, сами покинули страну, оставив в теле добычи свои экономические клыки. Они впились в Ранд, как они готовы впиться в любое другое место на земном шаре… В первую очередь они – финансовые спекулянты, извлекающие свою выгоду не из результатов работы промышленности, пусть даже чужой, но из строительства компаний, их проталкивания и финансового ими манипулирования». В более поздней работе Гобсона «Imperialism», однако, евреи даже не упомянуты; с течением времени стало очевидно, что их влияние и роль были временными и несколько поверхностными. О роли еврейских финансистов в Южной Африке см. главу седьмую настоящего издания.
[Закрыть] Более того, и сами правительства, чья помощь в той или иной форме была необходима при вывозе капитала в далекие страны, вначале были склонны предпочесть известных еврейских финансистов новичкам в области международных финансов, многие из которых были авантюристами.
После того как финансисты открыли избыточному богатству, до этого обреченному на бездействие в узких рамках национальной экономики, каналы экспорта капитала, быстро прояснилось, что далекие от источников получения прибыли держатели акций готовы идти на громадный риск, соотносимый с их громадно увеличившимися доходами. При таком риске живущие за счет комиссий финансисты даже при благожелательной поддержке государства не могли обеспечить надлежащих гарантий – их могла дать только вся материальная мощь государства.
Как только выяснилось, что за экспортом денег понадобится экспорт государственной мощи, позиция финансистов вообще и еврейских финансистов в особенности сильно пошатнулась, и ведущее место в империалистических деловых операциях и предприятиях постепенно перешло к отечественной буржуазии. Весьма показательна в этом отношении карьера Сесила Родса в Южной Африке, где он, будучи абсолютным новичком, в считанные годы сумел оттеснить с первого места всемогущих еврейских финансистов. В Германии Блейхредер, который в 1885 г. еще был основателем «Ostafrikanische Gesellschaft», 14 лет спустя, когда Германия начала строительство Багдадской железной дороги, был вместе с бароном Гиршем вытеснен такими растущими гигантами империалистического предпринимательства, как «Siemens» и «Deutsche Bank». В каком-то смысле нежелание правительства уступать евреям действительную власть и нежелание евреев погружаться в бизнес с политической подоплекой настолько удачно совпали, что, несмотря на огромное богатство этой группы евреев, когда кончился начальный этап азартной погони за наживой и обогащения посредством комиссионных, за ним не последовало настоящей борьбы за власть.
Различные национальные правительства с неудовольствием взирали на растущую тенденцию превращать бизнес в политический вопрос и отождествлять экономические интересы сравнительно небольшой группы с национальными интересами как таковыми. Но дело рисовалось так, что единственной альтернативой экспорту мощи была уступка значительной части национального богатства. Только путем экспансии национальных средств насилия можно было рационализировать поток инвестиций в далекие земли и реинтегрировать в экономическую систему нации бешеные спекуляции с избыточным капиталом, побуждавшие ставить на карту все сбережения. Государство стало прибегать к силовой экспансии, поскольку, будучи поставлено перед выбором между потерями (большими, чем может выдержать экономический организм любой страны) и выигрышами (большими, чем те, о которых может помыслить любой народ, предоставленный самому себе), оно, естественно, выбрало последнее.
Первым следствием экспорта мощи было то, что государственные органы насилия, полиция и армия, которые в рамках национального государства существовали рядом с другими национальными институтами
и контролировались ими, выделились из этой структуры и обрели статус представителей нации в нецивилизованных или слабых странах. Здесь, в отсталых регионах, без промышленности и политической организации, где насилие применялось с большей свободой, чем в любой европейской стране, так называемым законам капитализма была предоставлена возможность творить реальность. Пустое желание буржуазии сделать так, чтобы деньги рождали деньги, подобно тому как люди рождают людей, оставалось недостижимой мечтой до тех пор, пока деньгам приходилось проходить долгий путь через помещение в производство; не деньги рождали деньги, а люди делали вещи и деньги. Секретом новой счастливой ситуации было как раз то, что экономические законы перестали загораживать путь алчности имущих классов. Наконец-то деньги смогли рождать деньги, потому что сила, отбросив все законы – и экономические, и этические, – стала присваивать богатство. Только когда экспорт денег подтолкнул и спровоцировал экспорт мощи, сбылись замыслы владельцев этих денег. Только неограниченное накопление могущества могло обеспечить неограниченное же накопление капитала.
Иностранные инвестиции, экспорт капитала, возникшие в качестве чрезвычайных мер, становились постоянной чертой всех экономических систем, как только попадали под защиту экспорта мощи. Империалистическое понимание экспансии, согласно которому она есть сама по себе цель, а не временное средство, появилось в политическом мышлении после того, как стало очевидным, что одной из важнейших постоянных функций национального государства станет расширение сферы могущества. Стоящие на службе государства распорядители насилия скоро образовали внутри государства новый класс, и, хотя деятельность их протекала вдали от родины, они оказывали значительное влияние и на политическую жизнь метрополии. Поскольку они были не кем иным, как функционерами от насилия, и мыслить они могли только в терминах политики силы, они были первыми, кто со своих классовых позиций и исходя из своего повседневного опыта провозгласил, что могущество есть сущность всякой политической структуры.
Новым в этой политической философии империализма было не то, что она отводила такое преимущественное место насилию, и не открытие, что сила является одной из основополагающих политических реальностей. Насилие всегда было ultima ratio в политическом действии, и могущество всегда являлось наглядным выражением господства и управления. Но никогда ни то, ни другое не выступало осознанной целью политической власти или конечной задачей какого-то определенного политического курса. Ибо мощь, предоставленная самой себе, не достигает ничего, кроме еще большей мощи, а насилие, осуществляемое во имя достижения этой мощи (а не во имя закона), превращается в разрушительный принцип, продолжающий действовать до тех пор, пока не останется ничего, что уже не подверглось его воздействию.
Это противоречие, неизбежное для любой вытекающей отсюда политики силы, приобретает, однако, видимость осмысленности, если поместить его в контекст якобы нескончаемого процесса, не имеющего иной цели, кроме самого себя. В этом случае действительно бессмысленно ставить вопрос о пределах достигнутого, и могущество может представляться не имеющим конца, самообеспечиваемым двигателем любого политического действия, подобным мифическому накоплению денег, где деньги якобы рождают деньги. Доктрина неограниченной экспансии, которая одна только и может осуществить мечту о неограниченном накоплении капитала, ведет к бесцельному накоплению могущества, делает почти невозможным создание новых политических образований, что до наступления эры империализма всегда было результатом завоеваний. На деле ее логическим следствием является разрушение любых живых сообществ – как у побежденных народов, так и у народа метрополии. Ибо любая политическая структура, старая или новая, будучи предоставлена самой себе, вырабатывает стабилизирующие силы, стоящие на пути непрерывного преобразования и расширения. Поэтому все политические образования представляются временными препятствиями, если глядеть на них как на часть бесконечного потока возрастающей мощи.
Если распорядители постоянно растущей мощи в прошлую эпоху умеренного империализма даже и не пытались поглотить побежденные территории и сохраняли существовавшие отсталые политические сообщества в виде опустошенных развалин ушедшей жизни, их тоталитарные последователи разоряли и уничтожали все политически устойчивые структуры: и свои собственные, и принадлежащие другим народам. Голый экспорт насилия превращал слуг в господ, не наделяя их при этом господской прерогативой – создавать нечто новое. Монополистическая концентрация и громадное скопление средств насилия в метрополии превращали слуг в активную разрушительную силу, пока в конце концов тоталитарная экспансия не начинала разрушать государство и нацию.
Власть и могущество становились существом политического действия и помещались в центр политической мысли, лишь только они отделялись от политического сообщества и переставали ему служить. Надо признать, что в основе этого лежал экономический фактор. Но получившееся в результате превращение власти в единственное содержание политики, а экспансии – в ее единственную цель едва ли было бы встречено с таким всеобщим одобрением, а последовавшее за этим разрушение политических структур государства – со столь незначительной оппозицией, если бы это не отвечало полностью скрытым желаниям и тайным убеждениям экономически и социально господствующих классов. Буржуазия, так долго отстранявшаяся от управления и по самой сути национального государства, и в результате собственного отсутствия интереса к общественным делам, была политически эмансипирована империализмом.
Империализм следует считать не столько последней стадией капитализма, сколько первой стадией политического господства буржуазии. Хорошо известно, насколько мало имущие классы стремились к участию в управлении, насколько легко они удовлетворялись любой формой государства, которой можно было бы доверить защиту прав собственности. На деле государство было для них лишь хорошо организованной полицейской силой. Занятным следствием этой ложной скромности было, однако, то, что весь класс буржуазии оставался вне политической системы; буржуа были сначала частными лицами, а уж затем подданными монархии или гражданами республики. Этот акцент на своем частном статусе и занятость прежде всего деланием денег выработали определенные стереотипы поведения, запечатленные в пословицах типа: «Нет ничего успешнее успеха», «Сила есть право», «Право – это польза» и т. д., которые неизбежно появляются в обществе, состоящем из конкурентов.
Когда в эпоху империализма деловые люди стали политиками и получили признание как государственные деятели, а государственных деятелей стали признавать всерьез только при условии употребления ими языка преуспевших бизнесменов и умения «мыслить континентами», эти частные навыки и приемы постепенно превратились в правила и принципы ведения общественных дел. В этом процессе переоценки ценностей, начавшемся в конце прошлого столетия и продолжающемся до сих пор, важным моментом было то, что начался он с приложения буржуазных взглядов к внешним делам, а уж затем последовало их распространение на внутреннюю политику. Поэтому в государствах, где он происходил, люди не сразу осознали, что господствующая в частной жизни необузданность, против которой общественные органы всегда должны были защищать и себя, и отдельных граждан, вот-вот будет возведена в ранг одного из публично признанных принципов политики.
Примечательно, что современные почитатели власти и могущества полностью вторят философии единственного великого мыслителя, когда-либо пытавшегося вывести общественное благо из частных интересов, который также во имя блага частных лиц разработал теорию «государства всеобщего благоденствия», чьей основой и конечной целью была концентрация власти. Фактически Гоббс является единственным великим философом, которого можно по праву считать исключительно буржуазным, пусть даже его принципы в течение долгого времени не признавались буржуазией. В «Левиафане»[305]305
Все последующие цитаты, если не указан их источник, взяты из «Левиафана».
[Закрыть] изложена единственная политическая теория, где государство основывается не на каком-либо конституирующем законе – будь то священный закон, естественное право или общественный договор, – что определял бы соответствие или несоответствие личного интереса общественным установлениям, а на самих индивидуальных интересах, когда «частный интерес есть то же самое, что и общий».[306]306
Совпадение этого отождествления с тоталитарными претензиями на преодоление противоречий между личными и общественными интересами достаточно примечательно (см. главу двенадцатую настоящего издания). Однако нельзя игнорировать тот факт, что Гоббс стремился прежде всего защитить частные интересы, утверждая, что, будучи правильно понятыми, они являются одновременно и интересами политического целого, тоталитарные же режимы, напротив, провозглашают личное несуществующим.
[Закрыть]
Едва ли найдется хоть один буржуазный моральный принцип, который не был бы предвосхищен не знающей себе равных, блистательной логикой Гоббса. Он дает почти полный портрет не человека вообще, а буржуазного человека, анализ, который не устарел и не был превзойден за 300 лет. «Рассуждение… есть не что иное, как Подсчитывание»; «(слова) о свободном Субъекте, о свободной Воле… не имеют смысла, то есть (являют собой) Абсурд». Существо без разума, без способности знать истину и без свободной воли, т. е. без способности быть ответственным, человек по сути своей есть функция общества и поэтому оценивается в соответствии со своей «стоимостью или ценностью…своей ценой, то есть тем, сколько можно дать за пользование его силой». Цена эта постоянно назначается и переназначается обществом, «оценкой других», в зависимости от закона спроса и предложения.
Власть, согласно Гоббсу, – это аккумулированная способность контроля, позволяющая индивиду назначать цену и регулировать спрос и предложение таким образом, чтобы извлекать для себя наибольшую пользу. Индивид решает вопросы своей выгоды в полном одиночестве, с позиций, так сказать, полного меньшинства; затем, однако, он осознает, что преследовать свой интерес и добиваться его он может лишь с помощью какого-то большинства. Поэтому, если человек действительно руководствуется не чем другим, как только своими индивидуальными интересами, его основополагающей страстью должна быть жажда власти. Она управляет отношениями между индивидом и обществом, а уж из нее следует все остальные устремления – к богатству, знаниям и почету.
Гоббс указывает, что в борьбе за власть, как и в своей природной способности к власти, все люди равны, так как равенство людей основывается на том факте, что каждый по природе своей имеет достаточно силы, чтобы убить другого. Недостаток силы может компенсироваться вероломством. Равенство людей как потенциальных убийц делает всех их одинаково незащищенными, откуда проистекает необходимость государства. Rasion d'etre государства есть потребность индивида, чувствующего со всех сторон угрозы других индивидов, в какой-то защите.
Решающей чертой гоббсовского представления о человеке является вовсе не реалистический пессимизм, за который ему с недавних пор воздаются хвалы. Ибо, если бы человек был таков, каким его изобразил Гоббс, он бы не смог создать никакой политической организации. На самом деле Гоббс не преуспел, да и не хотел преуспеть, в том, чтобы определенным образом включить описываемое им существо в какое-либо политическое сообщество. Гоббсовский человек не испытывает лояльности по отношению к своей стране, когда та терпит поражение, и ему прощается любое предательство, если он оказывается в плену. Те, кто живет за пределами своего государства (например, рабы), не несут более никаких обязательств перед своими соотечественниками и могут убивать их в любых количествах, и в то же время, напротив, «никто не имеет свободы оказывать сопротивление мечу государства в целях защиты другого человека, виновного или невиновного», что означает отсутствие солидарности между людьми и ответственности их друг перед другом. Что держит их вместе, так это какой-нибудь общий интерес, могущий быть даже и «каким-то уголовным преступлением, за которое каждый из них ожидает смертной казни», в коем случае у них есть право «сопротивляться мечу государства», «соединяться для совместной помощи и защиты… Ибо они лишь защищают свою жизнь».
Таким образом, участие в любого сорта сообществе есть, по Гоббсу, дело временное и ограниченное, не меняющее сущности одинокого и замкнутого на себе характера индивида («не испытывающего радости, а, напротив, лишь немало печалующегося, пребывая в обществе, где у него нет силы держать всех в страхе») и неспособное создать между ним и другими людьми постоянные прочные связи. Получается, как если бы созданная Гоббсом картина человека противоречила его же собственной задаче – подвести основания под государственное устройство – и вместо этого описывала устойчивую связку ориентации, способных без труда разрушить любую реальную общность. В результате гоббсовская Держава является и признается по сути своей нестабильной, с самого своего зарождения несущей в себе семена собственного разложения, – «когда в войне (с иноземцами или междоусобной) враги одерживают окончательную победу… тогда Держава распадается и каждый волен защищать сам себя». Нестабильность эта тем более поразительна, что изначальной и часто провозглашаемой целью Гоббса было обеспечить максимум безопасности и стабильности.
Было бы величайшей несправедливостью к Гоббсу и к его достоинству как философа полагать, что его описание человека было попыткой работы в духе психологического реализма или отыскания философской истины. На самом деле Гоббса не интересовало ни то, ни другое, а занимало его исключительно само по себе политическое устройство, и описываемые им черты человека соответствовали нуждам Левиафана. Ради убедительности и доказательности он строит свою политическую схему так, как если бы он отправлялся от реалистического анализа человека как существа, «вожделеющего власти и только власти», и на этом основании строил свой план политической системы, наилучшим образом приспособленной для этого властолюбивого животного. Реальный же процесс, т. е. единственный процесс, в котором его представление о человеке имеет смысл и выходит за пределы просто банального признания жестокости человеческой натуры, был прямо противоположным.
Его новая политическая система создавалась им в интересах нового буржуазного общества, каковым оно становилось в XVII в., а его представление о человеке было наброском отвечающего требованиям этого общества нового типа человека. Держава основывается на делегировании власти, а не на правах. Она обретает монополию на убийство, а взамен дает условную гарантию против неконтролируемых убийств. Безопасность обеспечивается законом, который является прямой эманацией государственной монополии на власть (а не устанавливается людьми в соответствии с их представлениями о справедливости). И поскольку этот закон прямо вытекает из абсолютной власти, в глазах живущих под ним индивидов он являет собой абсолютную необходимость. В отношении государственных законов, т. е. аккумулированной власти общества, монополизированной государством, не существует вопроса о справедливости или несправедливости, а есть лишь абсолютное послушание, слепой конформизм буржуазного общества.
Лишенный политических прав индивид, перед которым публичная и официальная жизнь предстает в облике необходимости, начинает по-новому и с большей силой интересоваться вопросами своей личной жизни и судьбы. Будучи отстраненным от участия в решении общественных дел, затрагивающих всех граждан, индивид теряет положенное ему место в обществе и естественные связи с другими его членами. О своей индивидуальной частной жизни он может судить теперь, только сравнивая ее с жизнью других, и его отношения с другими приобретают форму конкуренции. А раз публичные дела регулируются государством, преподносясь в виде необходимости, общественные и публичные карьеры конкурентов оказываются во власти случайности. В обществе, состоящем из индивидов, наделенных природой равными способностями к властвованию и равно оберегаемых друг от друга государством, только случай определяет, кому удастся преуспеть.[307]307
Восхождение случая в положение окончательного распорядителя всей жизни человека произошло в XIX в. С этим было связано появление нового жанра литературы – романа – и упадок драмы. Ибо драма потеряла смысл в мире без действия, в то же время когда роман смог адекватно отражать судьбы людей, представляющих собой либо жертв необходимости, либо баловней случая. Полный диапазон возможностей нового жанра продемонстрировал Бальзак, даже человеческие страсти представивший как человеческий рок, в котором нет ни добродетели, ни порока, ни разума, ни свободной воли. Только роман, достигнув полной зрелости, вдоль и поперек перетолковав все хитросплетения человеческого бытия, смог стать новым евангелием влюбленности в собственную судьбу, игравшим столь великую роль в среде интеллектуалов XIX столетия. Этой влюбленностью художник и интеллектуал старался провести границу между собой и обывателем, защитить себя от бесчеловечности игры случайностей, и в результате в этой среде получили развитие все дары современной чувствительности – сострадание, понимание, способность играть предписанную роль, – что так необходимо для поддержания человеческого достоинства и что требует от человека, чтобы он, если уж и суждено ему быть жертвой, то по крайней мере сознательной.
[Закрыть]
Согласно буржуазным стандартам, полные неудачники – те, кто не добивается успеха, – автоматически выбывают из конкурентной борьбы, которая и есть жизнь общества. Удача отождествляется с честью, а неудача – с позором. Отдавая свои политические права государству, индивид вручает ему и свою социальную ответственность: он просит у государства, чтобы оно освободило его от бремени заботы о бедных точно так же, как он просит защиты от преступников. Различие между бедняком и преступником исчезает – оба они остаются вне общества. Непреуспевших лишают даже той привилегии, которую признавала за ними классическая цивилизация; несчастные больше не могут взывать к христианскому милосердию.
Гоббс освобождает тех, кто выброшен из общества, – неудачников, несчастных, преступников – от любых обязательств в отношении общества и государства, раз государство не берет на себя заботу о них. Они могут дать волю своему желанию власти, и им дается совет воспользоваться своей естественной способностью убивать, восстанавливая тем самым то естественное равенство, которое общество прячет только лишь из соображений практической целесообразности. Гоббс предвидит и оправдывает превращение отверженных обществом в организованную банду убийц как логический исход из буржуазной моральной философии.
Поскольку власть по сути своей есть лишь средство достижения цели, общество, целиком основанное на власти, в условиях порядка и стабильности должно прийти в упадок; в его полной безопасности раскрывается то, что оно построено на песке. Только наращивая власть, может оно сохранять status quo; только постоянно расширяя сферу своей власти и накапливая могущество, оно может обеспечить стабильность. Гоббсовская Держава являет собой неустойчивую структуру и должна все время обеспечивать себя новыми подпорками извне; иначе она в мгновение ока рассыплется в бесцельный и бессмысленный хаос частных интересов, из которого она родилась. Гоббс превращает необходимость накопления власти в теорию естественного состояния вещей, «состояния непрерывной войны» всех против всех, в котором все еще продолжают находиться по отношению друг к другу отдельные государства, подобно тому как в нем находились их отдельные подданные перед тем, как они подчинились власти Державы. [308]308
Популярная в настоящее время либеральная концепция мирового правительства основывается, как и все относящиеся к политической власти либеральные представления, на точно таком же представлении об индивидах, подчиняющихся центральной власти, «держащей всех в трепете», только на место индивидов подставляются теперь государства. Мировое правительство должно преодолеть и устранить реально существующую политику, т. е. ситуацию, при которой различные народы взаимодействуют друг с другом, полностью располагая каждый своей мощью.
[Закрыть] Эта неизменно присутствующая опасность войны гарантирует Державе перспективу вечного существования, так как дает возможность государству наращивать свою мощь за счет других государств.








