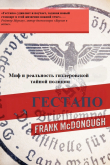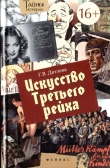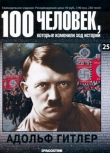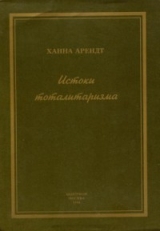
Текст книги "Истоки тоталитаризма"
Автор книги: Ханна Арендт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 49 страниц)
Крушение европейской партийной системы особенно наглядно происходило после прихода Гитлера к власти. Это теперь удобно забывают, что на момент взрыва второй мировой войны большинство европейских стран уже приняло какую-то форму диктатуры и отвергло партийную систему и что это революционное изменение способа правления в большей части стран осуществилось без всяких революционных переворотов. Гораздо чаще революционное действие было театральным представлением на потребу остро недовольным массам, а не настоящей битвой за власть. В конце концов, не такая уж большая разница, если в одном случае несколько тысяч почти безоружных людей инсценировали марш на Рим и захватили управление Италией или в другом – как в Польше (в 1934 г.) так называемый беспартийный блок завоевал две трети мест в парламенте, выдвинув программу поддержки полуфашистского правительства и открыв доступ в свои ряды знати и беднейшему крестьянству, рабочим и деловым людям, католикам и ортодоксальным евреям.[606]606
Fiala V. Les partis politiques polonais // Monde Slave. Fevrier. 1935.
[Закрыть]
Во Франции приход Гитлера к власти, сопровождавшийся ростом коммунизма и фашизма, быстро и неожиданно переменил первоначальное отношение партий друг к другу и освященные временем направления партийной политики. Французские правые, до того сильно антинемецкие и провоенные, после 1933 г. стали проводником пацифизма и примирения с Германией. Левые с равной быстротой переключились с пацифизма любой ценой на твердую позицию против Германии и вскоре были обвинены как партии поджигателей войны теми же самыми партиями, которые несколькими годами раньше осуждали их пацифизм как национальное предательство.[607]607
См. подробный анализ Micaud Ch. A. The French right and Nazi Germany. 1933–1939. 1943.
[Закрыть] Годы, последовавшие за приходом Гитлера к власти, оказались еще более разрушительными для целости французской партийной системы. Во время мюнхенского кризиса каждая партия, от правых до левых, внутренне раскололась по единственно насущному тогда политическому вопросу: за либо против войны с Германией.[608]608
Наиболее известный случай – раскол во Французской социалистической партии в 1938 г., когда фракция Блюма осталась в меньшинстве против промюнхенской группы Деа на съезде партии в департаменте «Сена».
[Закрыть] Каждая партия таила в себе фракцию мира и фракцию войны; ни одна из них не смогла сохранить единство по главным политическим решениям и ни одна не вышла из испытания фашизмом и нацизмом без раскола на антифашистов, с одной стороны, и попутчиков нацистов – с другой. То, что Гитлер вольготно мог выбирать из всех партий для насаждения марионеточных режимов, было следствием этой предвоенной ситуации, а не результатом особо хитрых нацистских маневров. Не было ни единой партии в Европе, что не дала бы коллаборационистов.
Распаду старых партий везде противостояло явное единство фашистского и коммунистического движений: первое, за пределами Германии и Италии, стойко защищало мир даже ценой установления иностранного господства, а второе долгое время проповедовало войну даже Ценой национального крушения. Однако важно здесь не столько то, что крайние правые всюду отказывались от своего традиционного национализма ради Европы Гитлера, а крайние левые забывали традиционный пацифизм ради старых националистических лозунгов, сколько то, что оба движения могли рассчитывать на верность своих членов и лидеров, которых не смутил бы никакой внезапный поворот в политике. Это драматически проявилось в советско-германском пакте о ненападении, когда нацисты должны были снять свои главные лозунги против большевизма, а коммунисты – вернуться к пацифизму, который они всегда объявляли мелкобуржуазным. Такие внезапные повороты нимало не повредили им. Еще хорошо помнится, какими сильными оставались коммунисты после их второго volteface менее чем два года спустя, когда на Советский Союз напала нацистская Германия, и это несмотря на факт, что оба изменения политической линии вовлекали рядовых членов партии в серьезные и опасные политические акции, которые требовали реальных жертв и постоянных усилий.
Внешне отличным, но в действительности гораздо более жестоким было крушение партийной системы в предгитлеровской Германии. Оно стало явным во время последних президентских выборов в 1932 г., когда все партии приняли на вооружение совершенно новые и усложненные формы массовой пропаганды.
Сам выбор кандидатов был необычным. Хотя и следовало ожидать, что оба движения, которые находились вне парламентской системы и боролись за нее с противоположных сторон, выдвинут собственных кандидатов (Гитлера от нацистов и Тельмана от коммунистов), было удивительным то, что все другие партии внезапно сошлись на одном кандидате. Что этим кандидатом стал старый Гинденбург, пользовавшийся несравненной популярностью, которая со времен Макмагона ожидает дома битых генералов, было не просто смешно. Это показало, как сильно хотели старые партии попросту отождествить себя с прежним государством – государством над партиями, чьим самым мощным символом была национальная армия, показало, другими словами, до какой степени они уже отказались от сути партийной системы. Ибо перед лицом движений различия между партиями в самом деле теряли значение; существование их всех было поставлено на кон, и потому они соединились и надеялись сохранить status quo, которое гарантировало бы им жизнь. Гинденбург стал символом национального государства и партийной системы, тогда как Гитлер и Тельман спорили друг с другом за право стать истинным символом народа.
Столь же примечательными, как и выбор кандидатов, были избирательные плакаты. Ни один из них не превозносил своего кандидата за его собственные заслуги. Плакаты за Гинденбурга просто провозглашали, что «голос за Тельмана – это голос за Гитлера», предупреждая рабочих не тратить напрасно свои голоса на кандидата (Тельмана), который наверняка будет бит и тем самым откроет Гитлеру дорогу к власти. Таким способом социал-демократы смирялись с кандидатурой Гинденбурга, которого даже не упоминали. Правые партии играли в ту же игру, подчеркивая, что «голос за Гитлера есть голос за Тельмана». Вдобавок и те и другие, дабы убедить всех лояльных партийных членов, будь то правых или левых, что сохранение существующего положения требовало Гинденбурга, весьма прозрачно намекали на случаи, когда нацисты и коммунисты были сообщниками.
В отличие от пропаганды за Гинденбурга, привлекавшей тех, кто хотел продления status quo любой ценой (а в 1932 г. это означало безработицу почти для половины немецкого народа), кандидаты движений рассчитывали на тех, кто хотел изменений любой ценой (даже ценой разрушения правовых институтов), а таких было по меньшей мере столько же, сколько постоянно растущих миллионов безработных и их семей. Поэтому нацисты не дрогнули перед нелепостью лозунга «голос за Тельмана – это голос за Гинденбурга», а коммунисты не поколебались ответить, что «голос за Гитлера – это голос за Гинденбурга», ибо обе партии угрожали своим избирателям опасностью сохранения существующего положения точно таким же образом, как их оппоненты грозили своим членам призраком революции.
За курьезной одинаковостью методов, использованных для поддержки всех кандидатов, крылось молчаливое предположение, что избиратели пойдут голосовать, поскольку они напуганы: боятся коммунистов, боятся нацистов, боятся status quo. В этом общем страхе исчезали с политической сцены все классовые различия. Но если партийный союз для защиты status quo постепенно размывал старую классовую структуру, сохранившуюся в отдельных партиях, то рядовые члены движений изначально были совершенно разнородными и столь же динамичными и подверженными колебаниям, как сама безработица.[609]609
Немецкая социалистическая партия претерпела типичное изменение с начала века До 1933 г. Перед первой мировой войной только 10 процентов ее членов не принадлежало к рабочему классу, тогда как 25 процентов ее избирателей приходили из средних классов. Но в 1930 г. только 60 процентов ее членов были рабочими и по меньшей мере 40 процентов ее избирателей входили в средний класс (см.: Neumann S. Op. cit. S. 28 ff).
[Закрыть] Если парламентские левые соединялись с парламентскими правыми в рамках национальных институтов, то оба движения совместно занимались организацией знаменитой транспортной забастовки на улицах Берлина в ноябре 1932 г.
Когда мы говорим о необычайно быстром упадке континентальной партийной системы, надо помнить об очень еще короткой жизни этого института. Он нигде не существовал до XIX в., в большинстве европейских стран формирование политических партий происходило только после 1848 г., так что царствование его в качестве бесспорного института в национальных политиках длилось всего около четырех десятилетий. Последние два десятилетия XIX в. все существенные политические подвижки во Франции, так же как и в Австро-Венгрии, уже шли вне и в оппозиции к парламентским партиям и в то же время меньшие империалистические «партии над партиями» всюду бросали вызов этому институту, чтобы снискать народную поддержку агрессивной, экспансионистской внешней политике.
Если империалистические лиги ставили себя над партиями ради отождествления с национальным государством, то пандвижения атаковали те же партии как неотъемлемую часть общей системы, которая включала и национальное государство. Пандвижения пребывали не так «над партиями», как «над государством» по причине прямого отождествления себя с народом. В конце концов тоталитарные движения пришли к отречению также и от народа, имя которого, однако, непосредственно следуя по стопам пандвижений, они использовали для пропагандистских целей. «Тоталитарное государство» есть государство только по виду, а движение по-настоящему больше не отождествляет себя даже с потребностями народа. Движение отныне парит над государством и народом, готовое пожертвовать обоими во имя своей идеологии: «Движение… есть Государство так же как и Народ, и ни существующее государство… ни современный немецкий народ нельзя даже помыслить без Движения».[610]610
Schmitt K. Op. cit.
[Закрыть]
Ничто лучше не доказывает непоправимый упадок партийной системы, чем огромные усилия после второй мировой войны оживить ее на европейском континенте, жалкие результаты этих усилий, а также возросшая привлекательность движений после поражения нацизма и очевидная угроза национальной независимости со стороны большевизма. Плодом всех усилий восстановить status quo оказалось лишь восстановление политической ситуации, где разрушительные движения суть единственные «партии», функционирующие как следует. Их вожаки сохранили авторитет при самых критических обстоятельствах и несмотря на постоянные колебания партийных линий. Чтобы правильно оценить шансы на выживание европейского национального государства, было бы мудрее не уделять слишком много внимания националистическим лозунгам, которые движения иногда принимают с целью сокрытия своих истинных намерений, но ближе присмотреться к тому, что теперь знает каждый, а именно, что они суть региональные ответвления международных организаций, что их рядовые члены нимало не расстраиваются, когда выясняется прислужничество их политики внешнеполитическим интересам чужого и даже враждебного государства, и что разоблачения их вождей как деятелей пятой колонны, предателей страны и т. п. не впечатляют участников движений в сколько-нибудь значительной степени. В противоположность старым партиям движения пережили последнюю войну и являются сегодня единственными «партиями», которые остались живыми и полными смысла для своих приверженцев.
9. Упадок национального государства и конец прав человека
Теперь почти невозможно представить, что в действительности произошло в Европе 4 августа 1914 г. Время до и время после первой мировой войны разделены не как конец старого и начало нового периода, а как день до и день после взрыва. Все же и этот оборот речи неточен подобно всем прочим, потому что скорбное умиротворение, которое обычно приходит после катастрофы, так никогда и не наступило. Первый взрыв, по-видимому, вызвал цепную реакцию, в которую мы были втянуты с тех пор и которую, вероятно, никто не способен остановить. Первая мировая война непоправимо разрушила европейское взаимоуважение прав наций, чего не делала никакая другая война. Инфляция погубила целый класс мелких собственников без надежды на восстановление или новое его формирование. Столь радикально не действовал ни один денежный кризис. Безработица, когда она приходила, достигала невероятных размеров, не ограничиваясь больше рабочим классом, но захватывая, за незначительными исключениями, целые нации. Гражданские войны, которые начинались и развертывались на протяжении 20 лет нелегкого мира, были не только кровавее и ожесточеннее всех прежних. Они сопровождались миграциями групп, которых, в отличие от их более счастливых предшественников в религиозных войнах, нигде не привечали и которые нигде не могли прижиться. Однажды покинув родину, эти люди оставались бездомными; раз потеряв свое государство, они становились безгосударственными; однажды лишенные своих человеческих прав, они пребывали бесправными пасынками мира. Ничто из сделанного, каким бы глупым оно ни было, как бы много людей ни знало и ни предсказывало последствия, нельзя было уничтожить или предотвратить. Каждое событие имело окончательность приговора, приводимого в исполнение не Богом и не дьяволом, а чем-то вроде непоправимо глупого рока.
Еще до того, как тоталитарная политика сознательно атаковала и частично разрушила самый строй европейской цивилизации, взрыв 1914 г. и порожденные им суровые условия нестабильности достаточно потрясли фасад европейской политической системы, чтобы обнажилась ее скрытая основа. Такими видимыми проявлениями были страдания все новых и новых групп людей, для которых внезапно переставали действовать правила мира вокруг них. Именно кажущаяся стабильность окружающего мира заставляла смотреть на каждую группу, выброшенную из уюта покровительственных связей, как на несчастное исключение из в остальном здоровых и нормальных правил, что равно наполняло горечью и цинизмом как жертв, так и наблюдателей явно несправедливой и «неправильной» судьбы. И те и другие ошибочно принимали этот цинизм за свою растущую мудрость в мирских делах, тогда как в действительности они были сбиты с толку и, следовательно стали глупее еще больше, чем когда-либо прежде. Ненависть, которой определенно хватало и в довоенном мире, всюду начала играть ведущую роль в общественных делах, так что политическую сцену в обманчиво спокойные 20-е годы наполнила отталкивающая и причудливая атмосфера семейного скандала, как в романах Стриндберга. Возможно ничто так не показывает общий распад политической жизни, как эта смутная всепроникающая ненависть всех ко всем, без направленности на определенный предмет страсти, без знания, кого сделать ответственным за состояние дел: правительство, буржуазию или внешнюю силу. Эта ненависть поочередно кидалась во всех направлениях случайным и непредсказуемым образом, неспособная сохранить дух здорового беспристрастия ко всему, что под солнцем.
Эта атмосфера распада, хотя и типичная для всей Европы между двумя войнами, была более заметна в побежденных, чем в победоносных странах, и она достигла полного развития в государствах, новообразованных после гибели двуединой монархии и царской империи. Последние остатки солидарности между несвободными национальностями в «поясе смешанного населения» улетучились с устранением центральной деспотической бюрократии, которая одновременно и собирала на себя и отводила друг от друга рассеянную ненависть и конфликтующие национальные притязания. Отныне каждый был против любого другого и больше всего против своих ближайших соседей: словаки против чехов, хорваты против сербов, украинцы против поляков. И это не было результатом конфликта между малыми и государственными народами (или меньшинствами и большинствами). Словаки не только постоянно саботировали решения демократического чешского правительства в Праге, но и одновременно преследовали венгерское меньшинство на своей территории. Сходная враждебность, с одной стороны – к государству, а с другой – между собой, существовала среди недовольных меньшинств в Польше.
На первый взгляд эти тревоги в старом беспокойном регионе вы глядели как мелкие националистические дрязги, не имеющие последствий для политических судеб Европы. Далее, на этих территориях в результате крушения двух многонациональных государств довоенной Европы, России и Австро-Венгрии появились две группы жертв, чьи потери отличались от потерь других в эпоху между войнами. Им было хуже, чем потерявшим состояние средним классам, безработным, маленьким rentiers, пенсионерам, кого события лишили социального положения, возможности работать и права иметь собственность: они потеряли те права, которые мыслились и даже определялись как неотчуждаемые, а именно Права Человека. Безгосударственные народности и меньшинства, правильно названные «бедными родственниками»,[611]611
Childs S. L. Refugees – a permanent problem in international organization // War is not inevitable. Problems of peace. 13th Series. L., 1938, published by the International Labor Office.
[Закрыть] не имели правительств, чтобы представлять и защищать их, и потому были вынуждены либо жить по исключительному закону «Договоров о меньшинствах» (the Minority Treaties), которые все правительства (кроме Чехословакии) подписали против воли и никогда не признавали настоящим законом, либо в условиях абсолютного беззакония.
С появлением меньшинств в Восточной и Южной Европе и «людей без государства» в Центральной и Западной в послевоенную Европу вошел совершенно новый фактор разъединения. Денационализация стала мощным оружием тоталитарной политики, и конституционная неспособность европейских национальных государств обеспечить права человека тем, кто потерял национально гарантированные права, дала возможность правительствам-угнетателям навязывать свои ценностные стандарты даже своим противникам. Те, кого гонитель избрал на роль отбросов общества, – евреи, троцкисты и т. д. – практически везде принимались как отбросы; те, кого преследователи называли нежелательным элементом, становились indesirables Европы. Официальная газета СС «Schwarze Korps» открыто заявила в 1938 г., если, мол, мир еще не убедился, что евреи – отбросы общества, он скоро убедится в этом, когда безродные бродяги без национальности, без денег и паспортов хлынут через чужие границы.[612]612
Первые преследования немецких евреев нацистами надо рассматривать как попытку распространить антисемитизм среди «тех народов, которые дружески расположены к евреям, прежде всего среди западных демократий», а не как усилия избавиться от евреев. В циркулярном письме Министерства иностранных дел всем немецким представителям за границей вскоре после ноябрьских погромов 1938 г. говорилось: «Эмиграционного потока всего около 100 тысяч евреев уже хватило, чтобы пробудить внимание многих стран к еврейской опасности… Германия весьма заинтересована в поддержании рассеяния еврейства… Наплыв евреев во все части света вызывает сопротивление местного населения и тем самым ведет самую лучшую пропаганду за немецкую политику в отношении еврейства… Чем беднее и, следовательно, обременительнее будет иммигрирующий еврей для страны, принимающей его, тем сильнее эта страна будет реагировать» (см.: Nazi conspiracy and aggression. Washington, 1946, published by U. S. Government. Vol. 6. P. 87 ff).
[Закрыть] И поистине этот род деловой пропаганды срабатывал лучше, чем риторика Геббельса, не только потому, что ставил евреев в положение мировых отбросов, но также потому что это неслыханное положение все растущей группы невинных людей было как бы наглядно-практическим показом правоты циничных прорицаний тоталитарных движений, будто таких вещей, как неотчуждаемые права человека, не существует в природе и все утверждения противного со стороны демократий попросту предрассудки, лицемерие и трусость перед лицом жестокого величия нового мира. Само словосочетание «права человека» стало для всех жертв, гонителей и зрителей одинаково – доказательством безнадежного идеализма или неуклюжего слабодушного лицемерия.
Современное господство силы, которое превращает национальный суверенитет в издевку, за исключением суверенитета государств-гигантов, рост империализма и пандвижений подорвали устойчивость системы европейского национального государства извне. Однако ни один из этих факторов не вытекал прямо из традиции и институтов самих национальных государств. Их внутренний распад начался только после первой мировой войны с появлением меньшинств, сотворенных мирными договорами, и постоянно растущего повстанческого движения – детища революций.
Негодность мирных договоров часто объясняли тем, что миротворцы принадлежали к поколению, сформированному опытом довоенной эпохи так что они никогда до конца не понимали всей мощи отдаленного влияния войны, по окончании которой им довелось заключить мир. Этому нет лучшего доказательства, чем их попытка урегулировать национальную проблему в Восточной и Южной Европе, учредив национальные государства и внедрив соглашения о меньшинствах. Если становилась спорной мудрость продления формы правления, которая даже в странах с давней и устоявшейся национальной традицией не могла справиться с новыми проблемами мировой политики, то было еще сомнительнее, можно ли ее вводить на территории, где отсутствовали сами условия для подъема национальных государств: однородность населения и укорененность на своей земле. Но полагать, будто национальные государства можно учредить методами мирных договоров было просто нелепым. В самом деле, «одного взгляда на демографическую карту Европы должно быть достаточно, чтобы показать всем: принцип нации-государства не может быть введен в Восточной Европе».[613]613
Tramples K. Volkerbund und Volkerfreiheit // Suddeutsche Monatshefte. 26. Jahrgang. Juli 1929.
[Закрыть] Договоры смешали множество разных народов в единых государствах, назвали кого-то из них «государственным народом» и возложили на него управление, молчаливо полагая, что какие-то другие народы (как словаки в Чехословакии, или хорваты и словенцы в Югославии) будут равными партнерами в правительстве (каковыми они, конечно, не стали), [614]614
Борьба словаков против «чешского» правительства в Праге окончилась поддержанной Гитлером независимостью Словакии. Югославская конституция 1921 г. была «принята» в парламенте вопреки голосам всех хорватских и словенских представителей. Хорошее обозрение югославской истории между двумя войнами см.: Propylaen Weltgeschichte. Das Zeitalter des Imperialismus. 1933. Bd. 10. S. 471 ff.
[Закрыть] и с равной произвольностью создали из остальных третью группу народностей, названных «меньшинствами», тем самым добавив ко многим нагрузкам новых государств тяжесть соблюдения особых административных положений для части населения.[615]615
Муссолини был совершенно прав, когда писал после мюнхенского кризиса: «Если Чехословакия сегодня находит себя в, можно сказать, „деликатном положении“, то это потому, что она не просто Чехословакия, но Чехо-Германо-Полоно-Мадьяро-Русино-Румыно-Словакия…» (цит. по: Ripka Н. Munich: Before and after. L., 1939. P. 117).
[Закрыть] Результат был таков, что те народы, кому не дали права на государство, безразлично, были ли они официальными меньшинствами или просто народностями, считали договоры игрой, в которой произвольно присудили правление одним и порабощение другим. Со своей стороны и новосозданные государства, которым обещали равный национальный суверенитет с западными нациями, рассматривали договоры о меньшинствах как открытое нарушение обещаний и дискриминацию, потому что ими были связаны только новые государства, но не охвачена даже побежденная Германия.
Тупиковый вакуум власти, порожденный распадом двуединой монархии и освобождением Польши и прибалтийских стран от царского деспотизма, был не единственным фактором, искушавшим государственных мужей на этот гибельный эксперимент. Гораздо важнее была невозможность и дальше отмахиваться от чаяний более чем 100 миллионов европейцев, никогда еще не достигавших стадии национальной свободы и самоопределения, которой домогались уже и колониальные народы и которую им обещали. Поистине роль западно– и центральноевропейского пролетариата – исторически угнетенной группы, освобождение которой стало делом жизни и смерти для всей европейской социальной системы, на востоке Европы играли «народы без истории».[616]616
Этот термин впервые пустил в оборот Отто Бауэр (Bauer О. Die Nationalitatenfrage Und die osterreichische Sozialdemokratie. Wien, 1907). Историческое сознание играло большую роль в формировании национального сознания. Освобождение наций от династического правления и господства международной аристократии сопровождалось освобождением литературы от «международного» языка обучения (сперва латинского и потом французского) и ростом национальных языков из народных говоров. Казалось, что народы, чьи языки годились для литературы, по определению, достигали национальной зрелости. Поэтому освободительные движения восточноевропейских народностей начинались с некоего филологического оживления (результаты были иногда гротескные, иногда очень плодотворные), политической целью которого было доказать, что народ, обладающий своей собственной литературой и историей, имеет право на национальный суверенитет.
[Закрыть]
Национально-освободительные движения Востока были революционны во многом одинаково с рабочими движениями на Западе. Оба типа движений представляли «неисторические» слои европейского населения, и оба боролись за признание и участие в общественных делах. Поскольку была цель сохранить status quo в Европе, казалось действительно неизбежным обеспечение национального самоопределения и суверенитета всем европейским народам. Иное означало бы безжалостно обречь часть их на положение колониальных народов (нечто подобное всегда предлагали пандвижения) и ввести колониальные методы в европейские дела.[617]617
Разумеется, это не всегда было четкой альтернативой. До сих пор никто не обеспокоился поискать характерные сходства между эксплуатацией меньшинств и колониальной эксплуатацией. Только Якоб Робинсон походя замечает: «Появился особый экономический протекционизм, направленный не против других стран, а против определенны групп населения. Как ни удивительно, но известные методы колониальной эксплуатации можно наблюдать в Центральной Европе» (Robinson J. Staatsburgerliche und wirtscnaftliche Gleichberechtigung // Suddeutsche Monatshefte. 26: Jahrgang. Juh 1929).
[Закрыть]
Но пункт преткновения, несомненно, был в том, что европейский status quo нельзя было сохранить и что только после падения последних остатков европейской автократии стало ясно: Европой управляла система, которая никогда не брала в расчет или не отзывалась на потребности по меньшей мере 25 процентов ее населения. Этого зла, однако, не излечило учреждение государств-преемников Австро-Венгрии, потому что, по грубой оценке, около 30 процентов из 100 миллионов их жителей были официально признаны исключением, которых специально должны были защищать договоры о меньшинствах. Более того, эта цифра никоим образом не говорит о всей глубине вопроса. Она только показывает разницу между народами со своим собственным управлением и теми, которые предположительно были слишком малы и слишком рассеяны, чтобы достичь полного статуса нации. Договоры о меньшинствах охватили только те народности, которые в значительном числе были представлены по меньшей мере в двух государствах-преемниках, но упускали из виду все другие народности без своего управления, так что в некоторых государствах на месте бывшей Австро-Венгрии национально ущемленные люди составляли 50 процентов общего населения.[618]618
Согласно оценке, перед 1914 г. насчитывалось около 100 миллионов людей, чьи национальные ожидания не были исполнены. (См.: Webster Ch. K. Minorities: History // Encyclopedia Britannica. 1929.) Численность меньшинств оценивалась приблизительно м жду 25 и 30 миллионами (См.: Azcarate P. de. Minorities: League of Nations // Ibid.) Фактическое положение в Чехословакии и Югославии было намного хуже. В первой чешский «государственный народ» составлял 7200 тысяч, около 50 процентов населения, а во второй – 5 миллионов сербов составляли только 42 процента всего населения (см.: Winkler W. Statistisches Hanbuch der europaischen Nationalitaten. Wien, 1931; Junghann O. National Minorities in Europe. 1932; Tramples K. Op. cit. В последней работе даются слегка отличающиеся цифры).
[Закрыть] Хуже всего в этой ситуации было даже не то, что она сама собой вызывала неверность народностей навязанному им правительству, а у правительства – необходимость подавлять свои народности как можно эффективнее, а то, что национально ущемленное население было твердо убеждено (как и любой человек), будто истинную свободу, подлинное освобождение и настоящий суверенитет народа можно получить только вместе с полным национальным освобождением, будто люди без их собственного национального правительства лишаются и прав человека. В этом убеждении, которое само по себе могло бы опереться на факт, что Французская революция соединила Декларацию прав человека с национальным суверенитетом, их поддерживали сами договоры о меньшинствах, кои не доверяли правительствам защиту различных народностей, но обязывали Лигу Наций оберегать права тех из них, кто по причинам территориального расселения был оставлен без собственного государства.
Не то чтобы меньшинства верили Лиге Наций больше, чем государственным народам. Лига, в конце концов, состояла из национальных государственных деятелей, чьи симпатии не могли не быть на стороне несчастных новых правительств, которым из принципа мешали и противодействовали от 25 до 50 процентов их подданных. Поэтому творцы договоров о меньшинствах вскоре были вынуждены растолковывать свои действительные намерения более строго и указывать на «обязанности» меньшинств перед новыми государствами.[619]619
Azcarate P. de. Op. cit.: «Договоры не содержат особых условий относительно „обязанностей“ меньшинств перед государствами, частью которых они являются. Однако Третья очередная ассамблея Лиги Наций в 1922 г… одобрила… резолюции, касающиеся „обязанностей меньшинств“…»
[Закрыть] Теперь все подавалось так, словно договоры были задуманы как безболезненный и гуманный метод ассимиляции – толкование, которое естественно вызывало ярость меньшинств.[620]620
Французский и британский делегаты были наиболее красноречивы в этом отношении. Бриан заявил: «Процесс, который мы должны иметь в виду, – не исчезновение меньшинств, но некий вид ассимиляции…» Сэр Остин Чемберлен, представитель Британии, Даже воскликнул, что «цель договоров о меньшинствах… обеспечить им… ту меру защиты и справедливости, которая постепенно подготовила бы их к полному слиянию с окружающим национальным сообществом» (Macartney С. A. National states and national minorities. L., 1934. P. 276, 277).
[Закрыть] Но ничего другого и нельзя было ожидать от системы суверенных национальных государств. Если договоры о меньшинствах намеревались сделать чем-то большим, нежели временным лекарством для поправки хаотической ситуации, тогда подразумеваемое ими ограничение национального суверенитета повлияло бы на национальный суверенитет более старых европейских держав. Представители великих наций очень хорошо знали только то, что меньшинства в национальных государствах раньше или позже должны быть либо ассимилированы, либо ликвидированы. И не имело значения, двигали ли ими гуманные намерения защищать расколотые народности от преследования, или же политические расчеты заставляли их противиться двусторонним договорам между заинтересованными государствами и странами, где данные меньшинства составляли уже большинство (ведь, в конце концов, немцы были сильнейшим из всех официально признанных меньшинств – и по численности, и по экономическому положению), – эти представители не желали, да и не могли опрокидывать законы, на которых стоят национальные государства.[621]621
Правда, некоторые чешские государственные деятели, в большинстве своем либеральные и демократические лидеры национальных движений, одно время мечтали сделать Чехословакию республикой вроде Швейцарии. Причина, почему даже Бенеш никогда всерьез не пытался осуществить похожее решение своих беспокойных национальных проблем, состояла в том, что Швейцария была не моделью для подражания, а скорее особенно счастливым исключением, которое только подтверждало чужое правило. Новосозданные государства не чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы избавиться от централизации государственного аппарата, и не могли вдруг создать те малые самоуправляемые организмы из коммун и кантонов, на чьих чрезвычайно обширных полномочиях основана система Швейцарской Конфедерации.
[Закрыть]
Ни Лига Наций, ни договоры о меньшинствах не помешали бы новообразованным государствам более или менее насильственно ассимилировать свои меньшинства. Сильнейшим фактором, противодействующим ассимиляции, была численная и культурная слабость так называемых государственных народов. Русское или еврейское меньшинство в Польше не чувствовали превосходства польской культуры над своей собственной и на них не производил особенного впечатления факт, что поляки составляли приблизительно 60 процентов населения Польши.
Уязвленные национальности, совершенно презрев Лигу Наций, скоро решили взять свои дела в собственные руки. Они объединили силы на конгрессе меньшинств, примечательном в нескольких отношениях. Он противоречил самой идее, стоявшей за договорами Лиги, официально именуя себя «Конгрессом организованных национальных групп в европейских государствах» и тем самым сводя на нет огромные усилия, потраченные во время мирных переговоров, дабы избежать угрожающего слова «национальный».[622]622
Вильсон, бывший страстным проповедником гарантирования «расовых, религиозных и лингвистических прав меньшинствам», в то же время «опасался, что „национальные права“ окажутся вредоносными, поскольку группы меньшинств, выделенные таким образом в качестве отдельных корпоративных организмов, тем самым сделались бы уязвимыми для „ревности и нападения“ извне» (Janowsky О. J. The Jews and minority rights. N.Y., 1933. Р. 351). Макартни (Op. cit. Р. 4) описывает сложившееся положение и «осторожную работу Объединенного иностранного комитета», направленную на то, чтобы избежать термина «национальный».
[Закрыть] Это имело то важное последствие, что соединились все «национальности», а не просто «меньшинства» и что количество «наций из меньшинств» выросло столь заметно, что сумма этих национальностей в государствах – преемниках Австро-Венгрии превысила численность государственных народов. Но еще и другим способом Конгресс национальных групп нанес решающий удар по договорам Лиги. Одним из самых трудных аспектов проблемы восточноевропейских национальностей (более трудным, чем малые размеры и огромное число требующих внимания народов в «поясе смешанного населения») [623]623
Термин принадлежит Макартни (Op. cit., passim).
[Закрыть] был межрегиональный характер национальностей, которые в случае, если они ставили свои национальные интересы над интересами соответствующих правительств, представлялись последним очевидной угрозой для безопасности их стран.[624]624
«Результатом мирного устроения было то, что каждое Государство в поясе смешанного населения… отныне смотрело на себя как на национальное государство. Но факты были против них…Ни одно из этих государств не было действительно однонациональным, точно так же как не было ни одной нации, которая целиком жила бы в одном государстве» (Macartney С. Op. cit. Р. 210).
[Закрыть] Договоры Лиги Наций пытались не замечать межрегиональный характер меньшинств, заключая отдельный договор с каждой страной, словно бы не было еврейского или немецкого меньшинства и за границами соответствующих государств. Конгресс национальных групп не только отступил от территориального принципа Лиги. На нем, естественно, задавали тон две национальности, которые были представлены во всех государствах-преемниках и, следовательно, по своему положению могли, если бы пожелали, заставить почувствовать свой вес во всей Восточной и Южной Европе. Эти две группы были немцы и евреи. Немецкие меньшинства в Румынии и Чехословакии, безусловно, стояли за немецкие меньшинства в Польше и Венгрии, и никто не мог ожидать, чтобы польские евреи, к примеру, оставались безразличными к дискриминационной практике румынского правительства. Другими словами, истинную основу членства в Конгрессе составляли национальные интересы,[625]625
В 1933 г. председатель Конгресса с чувством подчеркнул: «Одно несомненно: мы встречаемся на наших конгрессах не просто как члены абстрактных меньшинств; каждый из нас душой и телом принадлежит к определенному народу, своему собственному, и чувствует себя связанным с судьбой этого народа, будь то светлой или печальной. Следовательно, каждый из нас выступает здесь, если можно так выразиться, как чистокровный Немец или чистокровный Еврей, как чистокровный Венгр или чистокровный Украинец» (см.: Sitzungsbericht des Kongresses der organisierten nationalen Gruppen in den Staaten Europas. 1933. S. 8).
[Закрыть] а не общие интересы меньшинств как таковых, и только гармоничные отношения между евреями и немцами (Веймарская республика успешно играла особую роль покровителя меньшинств) удерживали их вместе. Поэтому, когда в 1933 г. еврейская делегация заявила протест против обращения с евреями в Третьем рейхе (жест, которого они, строго говоря, не имели права делать, ибо немецкие евреи не были официальным меньшинством), а немцы объявили о своей солидарности с Германией и были поддержаны большинством (антисемитизм созрел уже во всех государствах-преемниках), Конгресс, после того как еврейская делегация покинула его навсегда, впал в полное ничтожество.
Действительное значение договоров о меньшинствах заключается не в их практическом применении, а в самом факте, что они были гарантированы международным органом – Лигой Наций. Меньшинства существовали и раньше,[626]626
Первые меньшинства появились, когда протестантский принцип свободы совести подавил принцип cujus regio ejus religio ["Чья земля, того и вера" – принцип Аугсбургского мира (1555 г.) между протестантскими князьями Германии и католическим императором Карлом V. (Прим. пер.)]. Венский конгресс 1815 г. уже делал шаги, чтобы обеспечить определенные права польскому населению в России, Пруссии и Австрии, права, которые, безусловно, не были просто «религиозными». Характерно, однако, что все позднейшие договоры – протокол 1830 г. о независимости Греции, протокол 1856 г. о независимости Молдавии и Валахии и решение Берлинского конгресса 1878 г. по Румынии говорили о «религиозных», а не «национальных» меньшинствах, которым гарантировались «гражданские», но не «политические» права.
[Закрыть] но меньшинство как постоянный институт, признание того, что миллионы людей живут вне нормальной правовой защиты и нуждаются в дополнительных гарантиях своих простейших прав каким-то внешним органом, что это состояние не временное и договоры нужны, дабы установить некий продолжительный modus vivendi, – все это было чем-то новым, безусловно не встречавшимся в таком масштабе в европейской истории. Договоры о меньшинствах простым языком сказали то, что до того времени только подразумевалось в действующей системе национальных государств, а именно, что лишь люди одинакового национального происхождения могут быть гражданами и пользоваться полной защитой правовых институтов, что лицам другой национальности требуется какой-то исключительный закон, пока (или если) они не будут полностью ассимилированы и оторваны от национальных корней своего происхождения. Разъяснительные речи по поводу договоров Лиги государственные мужи стран, не имевших обязательств перед меньшинствами, произносили на еще более простом языке: они принимали без доказательств, что закон любой страны не может отвечать за лиц, настаивающих на своей иной национальной принадлежности.[627]627
Де Мелло Франко, представитель Бразилии в Совете Лиги Наций, изложил проблему очень ясно: «Мне кажется очевидным, что те, кто задумывали эту покровительственную систему, и вообразить не могли появления внутри некоторых государств группы подданных, которые постоянно считали бы себя иностранцами по отношению к общей организации страны» (Macartney С. Op. cit. Р. 277).
[Закрыть] Тем самым они признали (и очень скоро, с появлением людей без государства, получили возможность доказать это практически), что превращение государства из инструмента права в орудие нации завершилось. Нация завоевала государство, национальный интерес стал выше закона задолго до того, как Гитлер смог провозгласить: «Право есть то, что хорошо для немецкого народа». Опять здесь язык толпы был только языком общественного мнения, очищенного от лицемерия и ограничений.