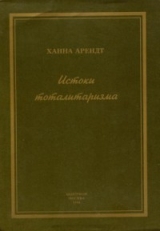
Текст книги "Истоки тоталитаризма"
Автор книги: Ханна Арендт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 49 страниц)
«Внутренняя склонность» у Пруста является не чем иным, как такой личностной, приватной захваченностью, и она оправдывалась обществом, где успех и неудача зависели от факта еврейского происхождения. Пруст ошибочно принял ее за «расовое предопределение», поскольку видел и изобразил только ее социальный аспект и индивидуальные преломления. Верно и то, что для регистрирующего наблюдателя поведение еврейства являло ту же самую навязчивость, что и образцы поведения гомосексуалистов. И те и другие ощущали свое превосходство или свою неполноценность, но в любом случае ощущали свое гордое отличие от других нормальных существ. И те и другие считали свое отличие чем-то естественным, обусловленным рождением. И те и другие постоянно оправдывали себя, причем не то, что они делали, а то, чем они были. И те и другие, наконец, постоянно колебались между приверженностью подобным апологетическим установкам и неожиданными, провокационными претензиями на то, что они являются элитой. Ни те, ни другие не могли перейти из своей группировки в какую-нибудь другую, как если бы их социальные позиции были зафиксированы навсегда. Потребность принадлежать какому-то образованию существовала и в других членах общества – «вопрос не в том, как для Гамлета, быть или не быть, а в том, принадлежать или не принадлежать», – [168]168
Proust М. Cities of the plain. Part. 2. Ch. 3.
[Закрыть] однако не в такой степени. Общество, распадающееся на группировки и не терпящее уже аутсайдеров, евреев или гомосексуалистов, причем не тех или иных индивидов, а в силу особой установки, это общество представало как воплощение такой клановости.
Всякое общество требует от своих членов определенного объема действий, способности заявлять и представлять то, чем человек действительно является, и действовать в соответствии с этим. Когда общество распадается на клики, такие требования предъявляются уже не к индивидам, а к членам определенных клик. Поведение в таком случае контролируется посредством молчаливых требований, а не посредством опоры на возможности индивида. Дело обстоит таким же образом, как когда от актера требуют соответствовать совокупности всех остальных ролей в пьесе. Салоны Сен-Жерменского предместья состояли из подобной совокупности клик, каждая из которых воплощала доведенный до крайности определенный образец поведения. Роль гомосексуалистов состояла в том, чтобы демонстрировать свое отклонение от нормы; роль евреев – в том, чтобы представлять черную магию («некромантию»); художников – являть иную форму контакта со сверхъестественным и надчеловеческим; аристократов – показывать, что они не похожи на обыкновенных («буржуазных») людей. При всем том, несмотря на свою клановость, как отмечает Пруст, «за исключением тех дней общей беды, когда большинство собирается вокруг жертвы, как евреи собирались вокруг Дрейфуса», все эти новые люди избегали общения со своими. Причина заключалась в том, что все признаки отличия определялись только совокупностью клик, так что евреи или гомосексуалисты чувствовали, что они утратили бы свои отличительные свойства в обществе, состоящем из евреев или гомосексуалистов, где еврейскость или гомосексуализм были бы чем-то самым естественным, самым неинтересным и самым банальным в мире. Это же, однако, было верно и относительно принимавших их хозяев, которые нуждались в ансамбле тех, от кого они могли отличаться, нуждались в неаристократах, восхищающихся аристократами, как аристократы восхищались евреями или гомосексуалистами.
Несмотря на то что эти клики сами по себе не обладали устойчивостью и распадались, когда рядом не было представителей других клик, их члены использовали язык таинственных знаков, как если бы нуждались в чем-то необычном для узнавания друг друга. Пруст пространно рассказывает о важности этих знаков, особенно для новопришельцев. Но в то время, когда гомосексуалисты, мастера языка знаков, обладали, по крайней мере, реальной тайной, евреи использовали этот язык только для создания ожидаемой от них атмосферы таинственности. Их знаки таинственно и смехотворно указывали на то, что все знали: например, что в углу салона герцогини такой-то сидит еще один еврей, которому не разрешалось открыто признать свою национальную принадлежность, но который без данного бессмысленного свойства никогда не смог бы добраться до этого угла.
Примечательно, что новое смешанное общество в конце XIX в., как и первые еврейские салоны в Берлине, вновь сконцентрировалось вокруг дворянства. Аристократия к этому времени почти утратила свое жадное устремление к культуре и свое любопытство по отношению к «новым образчикам человечества», однако сохранила свое прежнее презрение к буржуазному обществу. Стремление к социальному отличию было ее ответом на политическое равенство, а также на утрату политического положения и привилегий, сопутствовавших утверждению Третьей республики. После кратковременного и искусственного возвышения в период Второй империи французская аристократия держалась только посредством социальной клановости и вялых попыток сохранить для своих сыновей высшие позиции в армии. Гораздо более выраженным, чем политические притязания, было агрессивное презрение к стандартам среднего класса, что, несомненно, явилось одной из важнейших побудительных причин принятия ею индивидов и целых групп, принадлежавших к социально неприемлемым классам. Та же самая мотивация, которая сделала возможной для прусских аристократов социальную встречу с актерами и евреями, во Франции обусловила в конце концов социальный престиж гомосексуалистов. При этом средние классы не приобрели социального самоуважения, хотя и добились за это время богатства и власти. Отсутствие в национальном государстве политической иерархии и победа равенства сделали «общество втайне все более иерархическим по мере того, как оно становилось более демократичным внешне».[169]169
Proust М. The Geurmantes way. Part 2. Ch. 2.
[Закрыть] Поскольку принцип иерархии находил свое воплощение в недоступных в социальном отношении кругах Сен-Жерменского предместья, то всякое общество во Франции «воспроизводило в более или менее модифицированном, более или менее карикатурном виде характеристики общества из Сен-Жерменского предместья, притязая порой на то… что оно презирает это последнее, каким бы статусом ни обладали его члены или каких бы политических идей они ни придерживались». Аристократическое общество лишь по видимости было делом прошлого, в действительности же оно пронизывало своим влиянием весь социальный организм (причем не только французского народа), навязывая ему «ключ и грамматику фешенебельной социальной жизни».[170]170
Fernandez R. La vie sociale dans l'oeuvre de Marsel Proust // Les Cahiers Marsel Proust. 1927. No. 2.
[Закрыть] Когда Пруст почувствовал потребность в apologia pro vita sua и подверг пересмотру свою собственную жизнь, проведенную в аристократических кругах, то осуществил при этом анализ общества как такового.
Главное относительно роли евреев в этом обществе fin-de-siecle заключалось в том, что именно антисемитизм, связанный с Историей Дрейфуса, открыл евреям двери общества, а также в том, что конец этой Истории или, точнее, установление невиновности Дрейфуса положило конец их социальной славе.[171]171
«И наступил такой момент, когда в результате дела Дрейфуса произошло параллельное усиление антисемитского движения и даже еще более значительного движения против проникновения израелитов в общество. Политики не были не правы, когда думали, что обнаружение юридической ошибки нанесет фатальный удар по антисемитизму. Но по крайней мере временно социальный антисемитизм, напротив, усугубился и обострился после нее» (см.: Proust М. The sweet Cheat gone. Ch. 2.)
[Закрыть] Другими словами, вне зависимости от того, что евреи думали о самих себе или о Дрейфусе, они могли играть предназначенную им обществом роль лишь до тех пор, пока это самое общество было убеждено, что они принадлежат к племени изменников. Когда же обнаружилось, что изменник является довольно глупой жертвой обычной фальсификации, и невиновность евреев была установлена, социальный интерес к евреям угас так же быстро, как и политический антисемитизм. На евреев вновь стали смотреть как на обычных смертных, и они утратили то значение, которое временно приобрели благодаря мнимому преступлению, будто бы совершенному одним из них.
Эта была слава, по существу, того же рода, которой пользовались в гораздо более суровых условиях евреи Германии и Австрии сразу же после первой мировой войны. Их мнимое преступление состояло в том, что они будто бы были виновны в войне. Это преступление, поскольку оно уже не отождествлялось с отдельным деянием какого-либо отдельного индивида, нельзя было отрицать, так что отношение толпы к еврейскости как к преступлению могло оставаться неизменным, и общество могло продолжать очаровываться и восхищаться своими евреями вплоть до самого конца. Если и есть какая-то психологическая истина в «теории козла отпущения», то она связана с последствиями такой социальной установки по отношению к евреям. Ведь когда антисемитское законодательство принудило общество изгнать евреев, эти «филосемиты» испытывали такое ощущение, что им нужно очиститься от тайной порочности, избавиться от клейма, которое они любили столь таинственным и безнравственным образом. Такая психология, разумеется, вряд ли объясняет, почему эти «почитатели» евреев стали в конце концов их убийцами, и можно даже не сомневаться, что они выделялись в ряду тех, кто управлял фабриками смерти, хотя поражает процентное представительство так называемых образованных классов среди реальных убийц. Однако, она действительно объясняет чудовищную неверность именно этих слоев общества, наиболее близко знавших евреев и бывших в высшей степени восхищенных и очарованных своими еврейскими друзьями.
Что касается евреев, то трансформация «преступления» иудаизма в модный «порок» еврейскости была в высшей степени опасной. Евреи могли спасаться от иудаизма бегством в обращение. От еврейскости нельзя было убежать. Более того, с преступлением можно справиться посредством наказания, порок же можно только искоренить. Интерпретация, даваемая обществом факту еврейского происхождения, и роль, играемая евреями в социальной жизни, теснейшим образом связаны с той катастрофической тщательностью, с какой могли быть применены средства антисемитизма. Нацистская разновидность антисемитизма уходила своими корнями в эти социальные условия, а также в политические обстоятельства. И хотя понятие расы было связано с другими (более непосредственно политическими) целями и функциями, применение его, причем самым зловещим образом, к еврейскому вопросу своим успехом во многом было обязано определенным социальным явлениям и убеждениям, относительно которых в общественном мнении действительно существовало согласие.
Силы, определяющие роковое движение евреев к эпицентру событий, носили, несомненно, политический характер. Однако реакции на антисемитизм, а также психологическое отражение еврейского вопроса на уровне индивидов имели отношение к той особой жестокости, организованной и рассчитанной атаке на каждого индивида еврейского происхождения, которые уже были характерны для антисемитизма, сопряженного с Историей Дрейфуса. Страстную охоту на «еврея вообще», на «еврея везде и нигде» нельзя понять, если рассматривать историю антисемитизма как нечто существующее само по себе, как просто политическое движение. Социальные факторы, не объясняемые политической и экономической историей, скрытые под поверхностью событий, не обнаруживаемые никогда историком и воспринятые только благодаря силе проникновения и силе страсти поэтов и романистов (людей, которых общество загнало в отчаянное одиночество и изоляцию, где создается apologia pro vita sua), – эти факторы изменили тот характер движения просто политического антисемитизма, каким бы он был, если бы был предоставлен только самому себе. Он мог бы привести к антиеврейскому законодательству и даже массовому изгнанию евреев, но вряд ли к их тотальному уничтожению.
С того времени, когда История Дрейфуса и связанная с ней политическая угроза правам французского еврейства привели к социальной ситуации, при которой евреи пользовались двусмысленной славой, антисемитизм в Европе представал в виде неразделимой смеси политических мотивов и социальных моментов. Общество всегда поначалу реагировало на сильное антисемитское движение посредством подчеркнуто предпочтительного внимания к евреям, так что замечание Дизраэли насчет того, что «в настоящий момент нет такой расы… которая бы так восхищала, очаровывала, возвышала и облагораживала Европу, как это делает еврейская раса», было особенно верным применительно к опасным временам. Социальный «филосемитизм» всегда приводил к тому, что к политическому антисемитизму присовокуплялся тот таинственный фанатизм, без которого антисемитизм вряд ли мог бы стать наилучшим лозунгом для организации масс. Все declasses капиталистического общества в конечном итоге были готовы объединиться, и эта толпа была готова создать свои собственные организации. Их пропаганда покоилась на предпосылке – с этим же была связана и привлекательность этих организаций, – что общество, продемонстрировавшее желание инкорпорировать в свою структуру преступление, придав ему форму порока, было сейчас готово к тому, чтобы очиститься от порочности, открыто признав преступников и публично совершая преступления.
4. История Дрейфуса
4.1 Фактическая сторона делаЭто произошло во Франции в конце 1894 г. Альфред Дрейфус, офицер французского Генерального штаба, еврей по национальности, был обвинен в шпионаже в пользу Германии и осужден. Приговор – пожизненная депортация на Чертов остров – был воспринят с единодушным одобрением. Суд происходил за закрытыми дверями. Из имевшегося в распоряжении обвинения многотомного, как уверяли, досье было продемонстрировано только так называемое «bordereau». Это было написанное якобы рукой Дрейфуса письмо на имя немецкого военного атташе Шварцкоппена. В июле 1895 г. руководителем отдела информации Генерального штаба был назначен полковник Пикар. В мае 1896 г. он доложил начальнику Генерального штаба Буадефру, что он убедился в невиновности Дрейфуса и в виновности другого офицера – майора Вольсен-Эстергази. Шесть месяцев спустя Пикар был переведен на опасную должность в Тунисе. В это же время Бернар Лазар, действуя по поручению братьев Дрейфуса, опубликовал первую брошюру относительно этой истории: «Une erreur judiciaire; la verite sur l'affaire Dreyfus». В июне 1897 г. Пикар информировал вице-президента Сената Шерер-Кестнера о фигурировавших на процессе фактах и невиновности Дрейфуса. В ноябре 1897 г. Клемансо начал борьбу за пересмотр дела. Четыре недели спустя в ряды дрейфусаров вступил Золя. Статья «J'Accuse» была опубликована в издававшейся Клемансо газете в январе 1898 г. В это же время Пикар был арестован. Золя, обвиненный в клевете на армию, был признан виновным как обычным трибуналом, так и Кассационным судом. В августе 1898 г. Эстергази был с позором уволен за растрату. Он сразу поспешил встретиться с английским журналистом и поведал ему, что автором «bordereau» был он, а не Дрейфус, почерк которого он подделал, и что письмо было им сфабриковано по приказу его шефа, бывшего начальника отдела контрразведки полковника Сандхерра. Несколькими днями позже другой служащий того же департамента, полковник Анри, сознался в подлоге еще нескольких документов секретного досье Дрейфуса и покончил с собой. После этого Кассационный суд распорядился провести дополнительное расследование дела.
В июне 1899 г. Кассационный суд отменил первоначальный приговор 1894 г. Новое слушание дела происходило в августе в г. Ренне. Приговор в силу «смягчающих обстоятельств» был изменен на десятилетнее заключение. Неделю спустя Дрейфус был помилован президентом республики. В апреле 1900 г. в Париже открылась Всемирная выставка. В мае, когда успех выставки был гарантирован, палата депутатов подавляющим большинством голосов проголосовала против каких бы то ни было дальнейших пересмотров дела Дрейфуса. В декабре в результате всеобщей амнистии были прекращены все начатые в связи с этим делом процессы и тяжбы.
В 1903 г. Дрейфус обратился с просьбой о новом пересмотре. Его прошение игнорировалось вплоть до 1906 г., когда премьер-министром стал Клемансо. В июле 1906 г. Кассационный суд отменил вынесенный в Ренне приговор и снял с Дрейфуса все обвинения. Однако Кассационный суд не обладал полномочиями для такого оправдания; он должен был бы назначить новое слушание. Но по всей вероятности и вопреки неопровержимым свидетельствам в пользу Дрейфуса, повторное рассмотрение военным трибуналом снова привело бы к вынесению обвинительного приговора. Поэтому Дрейфус так и не был оправдан в строгом соответствии с законом,[172]172
Самой исчерпывающей и пока незаменимой работой на эту тему является книга Reinach J. L'Affaire Dreyfus. P., 1903–1911. 7 vols. Наиболее подробное из более поздних исследований, написанное с социалистических позиций, принадлежит перу Вильгельма Герцога – Herzog W. Der Kampf einer Republik. Zurich, 1933. Большую ценность представляют помещенные в ней детальнейшие хронологические таблицы. Самую лучшую политическую и историческую оценку дела можно найти в книге Brogan D. W. The development of modern France. 1940. Books 6, 7. Кратким, но надежным источником может служить книга Charensol G. L'Affaire Dreyfus et la Troisieme Republique. 1930.
[Закрыть] и дело Дрейфуса не было по-настоящему закрыто. Реабилитация осужденного никогда не была признана французским народом, и пробужденные с самого начала страсти никогда полностью не улеглись. Уже в 1908 г., девять лет спустя после помилования и два года после оправдания Дрейфуса, когда по настоянию Клемансо тело Эмиля Золя было перенесено в Пантеон, на Дрейфуса было совершено открытое нападение на улице. Суд в Париже оправдал нападавшего, указав на свое «несогласие» с решением об оправдании Дрейфуса.
Еще более странным представляется тот факт, что ни первая, ни вторая мировые войны не смогли отодвинуть это дело в область забвения. По заказу «Action Franchise» в 1924 г. был переиздан «Precis de l'affaire Dreyfus»,[173]173
Написан двумя офицерами и опубликован под псевдонимом Анри Дютре-Крозон.
[Закрыть] ставший с тех пор настольным справочником антидрейфусаров. На премьере «L'Affaire Dreyfus» (пьесы, написанной Рефишем и Вильгельмом Герцогом под псевдонимом Рене Кестнер) в 1931 г. по-прежнему царила атмосфера 90-х годов с ее стычками в зрительном зале, кидаемыми в партер дымовыми шашками, боевиками «Action Francaise», собирающимися вокруг театра и терроризирующими актеров, зрителей и прохожих. Точно так же и правительство – лавалевское правительство – действовало ничуть не иначе, чем его предшественники 30 лет назад: оно с радостью признало, что не может обеспечить порядок ни на одном из представлений, позволив тем самым антидрейфусарам снова отпраздновать свой триумф. Спектакль был вынужденно отменен. Когда в 1935 г. Дрейфус умер, массовые газеты побоялись касаться его истории,[174]174
Газета «Action Francaise» (19 июля 1935 г.) приветствовала сдержанность французской прессы и заявляла, что, по ее впечатлению, «знаменитые чемпионы справедливости и правды сорокалетней давности не оставили после себя учеников».
[Закрыть] в то время как левая пресса в старом духе твердила о его невиновности, а правая – о его вине. Даже сегодня, хотя и в меньшей степени, История Дрейфуса продолжает оставаться своего рода тайным опознавательным знаком французской политической жизни. Когда был осужден Петен, влиятельная провинциальная газета «Voix du Nord» (Лилль) связала дело Петена с делом Дрейфуса, утверждая, что «страна осталась разделенной, как это было после дела Дрейфуса», так как приговор суда не может разрешить политический конфликт и «вселить мир в умы и сердца всех французов».[175]175
См.: Archambaidt С. Н. // New York Times. 18.08.1945. P. 5.
[Закрыть]
Если История Дрейфуса в ее широком политическом аспекте принадлежит XX в., то как судебное дело, как ряд судебных разбирательств, связанных с именем капитана-еврея Альфреда Дрейфуса, оно вполне типично для XIX в., когда люди так тщательно следовали юридическим процедурам, поскольку на каждом этапе и в каждой инстанции представлялась возможность подвергнуть испытанию величайшее достижение века – полную беспристрастность закона. Характерной чертой времени было то, что любое нарушение правосудия возбуждало бурные политические страсти и вызывало бесконечную череду разбирательств и пересмотров, не говоря уже о дуэлях и драках. Принцип равенства перед законом так прочно внедрился в сознание цивилизованного мира, что единичное нарушение правосудия могло спровоцировать общественное негодование от Москвы до Нью-Йорка. И никто и нигде, за исключением самой Франции, не был еще настолько «современным», чтобы связать это дело с политическими вопросами.[176]176
О единственном исключении – католических журналах, которые во всех странах в большинстве своем агитировали против Дрейфуса, будет рассказано ниже. Американское общественное мнение было таковым, что в дополнение к протестам начался организованный бойкот назначенной на 1900 г. парижской Всемирной выставки. Всесторонне этот вопрос анализируется в находящейся в Колумбийском университете магистерской дипломной работе Halperin R. A. The American reaction to the Dreyfus case. 1941. Автор благодарит профессора С. У. Бэрона за любезно предоставленную возможность ознакомиться с этой работой.
[Закрыть] Несправедливость в отношении одного-единственного офицера-еврея во Франции смогла получить в остальном мире более страстный и единодушный отклик, чем все преследования немецких евреев поколение спустя. Даже царская Россия смогла обвинить Францию в варварстве, в Германии же в окружении кайзера открыто высказывалось негодование, сравнимое только с возмущением радикальной прессы 1930-х годов.[177]177
Так, например, немецкий поверенный в делах в Париже X. Б. фон Бюлов писал рейхсканцлеру Гогенлоэ, что приговор в Ренне является «смесью вульгарности и трусости, несет на себе несомненные знаки варварства» и что Франция «с этого момента исключила себя из семьи цивилизованных наций». Цит. по: Herzog W. Op. cit., запись от 12 сентября 1899 г. По мнению фон Бюлова, это Affaire стало «тайным паролем» немецкого либерализма; см.: Buelow Н. В. von. Denkwurdigkeiten. В., 1930–1931. Bd. 1. S. 428.
[Закрыть]
Dramatis personae этой истории вполне могли бы сойти со страниц Бальзака: с одной стороны, проникнутые классовым сознанием генералы, лихорадочно спасающие честь мундира членов своей клики, с другой – их противник Пикар с его хладнокровной, проницательной и слегка ироничной честностью. За ними неописуемое сборище людей в парламенте, каждый из которых в ужасе от того, что может быть известно его соседу; президент республики, скандально знаменитый своими посещениями парижских борделей, и следователи, живущие исключительно ради заведения светских связей. Наконец, сам Дрейфус, по сути, парвеню, постоянно хвастающийся перед своими коллегами богатством своей семьи, которое он тратит на женщин; его братья, патетично предлагающие сначала все свое состояние, а потом снижающие свое предложение до 150 тысяч франков за освобождение родственника и так и не решившие, хотят ли они тем самым принести жертву или просто подкупить Генеральный штаб; и адвокат Деманж, по-настоящему убежденный в невиновности своего клиента, но основывающий защиту на принципе отсутствия доказательств в пользу обратного, чтобы уберечь себя от нападок и не повредить своим личным интересам. И наконец, авантюрист Эстергази, представитель старинного аристократического рода, настолько изнывающий в этом буржуазном мире, что готов с равным успехом искать отдушину и в героизме, и в мошенничестве. В бытность свою младшим лейтенантом Иностранного легиона он снискал признание сослуживцев в основном своей дерзостью и отвагой. Вечно замешанный в какие-нибудь истории, он жил за счет того, что брался быть секундантом в дуэлях офицеров-евреев и затем шантажировал их единоверцев. Для установления нужных связей он не гнушался пользоваться услугами главного раввина. Даже в конечном своем падении он остался верен бальзаковской традиции. Погубила его не государственная измена и не необузданные мечты о великой оргии, в которой сотни тысяч хмельных прусских улан неистово несутся по улицам Парижа,[178]178
Reinach Т. Histoire sommaire de l'Affaire Dreifus. P., 1924. P. 96.
[Закрыть] а мелкое присвоение денег одного из родственников. А что сказать о Золя с его страстным моральным пылом, несколько пустым пафосом и его мелодраматическим заявлением накануне бегства в Лондон о том, что он услышал голос Дрейфуса, умолявшего его принести эту жертву?.[179]179
По сообщению Йозефа Рейнаха, приводимому в: Herzog W. Op. cit., запись от 18 июня 1898 г.
[Закрыть]
Все данные проявления типичны для XIX в., и ничто из этого само по себе не пережило бы двух мировых войн. Стародавний энтузиазм толпы по отношению к Эстергази, как и ее ненависть к Золя, с тех пор давно уже прогорели дотла, но так же точно исчез и накал страстей, направленных против аристократии и духовенства, который некогда воспламенял Жореса и который один только и обеспечил конечное освобождение Дрейфуса. Как суждено было показать делу кагуляров, офицерам Генерального штаба уже нечего было опасаться народного гнева, когда они вынашивали свои планы coup d'etat. Со времени отделения церкви от государства Франция, естественно, перестала быть религиозно мыслящей, но она утратила и значительную часть своего антиклерикального чувства, впрочем, так же, как и католическая церковь утратила большую часть своих политических притязаний. Попытка Петена превратить республику в католическое государство натолкнулась на полное безразличие народа и враждебное отношение низшего духовенства к клерикал-фашизму.
История Дрейфуса в ее политической подоплеке смогла пережить свое время из-за того, что в XX в. два его элемента приобрели существенное значение. Первый – это ненависть к евреям; второй – подозрительное отношение к самой республике, к парламенту и к государственной машине. Последнюю большая часть общественности продолжала считать, справедливо или нет, находящейся под влиянием евреев и во власти банков. Вплоть до наших времен слово «антидрейфусар» сохраняет свое значение наименования для всего антиреспубликанского, антидемократического, антисемитского. Еще несколько лет назад оно включало в себя все от монархизма «Action Francaise» до национал-большевизма Дорио и социал-фашизма Деа. Однако не этим малочисленным фашистским группировкам была обязана своим крушением Третья республика. Напротив, очевидной, хотя и парадоксальной истиной является то, что никогда их влияние не было столь незначительным, как в момент этого крушения. К падению Франции привело то, что в ней не осталось больше настоящих дрейфусаров, никого, кто верил бы, что демократию и свободу, равенство и справедливость по-прежнему можно защитить или осуществить при республике.[180]180
О том, что даже Клемансо в конце своей жизни в это больше не верил, ясно свидетельствует его замечание, помещенное в книге Benjamin R. Clemenceau dans la retraite. P., 1930. P. 249: «Надежда? Невозможно! Как могу я продолжать надеяться, если я больше не верю в то, что взрастило меня, а именно в демократию?»
[Закрыть] В конечном счете республика и пала, как перезревший плод, к ногам той старой антидрейфусарской клики,[181]181
Известный приверженец «Action Francaise» Вейган в юности был антидрейфусаром. Он был подписчиком «Мемориала Анри», основанного газетой «Libre Parole» в честь злополучного полковника Анри, который заплатил самоубийством за подлоги, совершенные в период службы в Генеральном штабе. Список подписчиков был позднее опубликован одним из редакторов «L'Aurore» (газета Клемансо) – Кийяром под заголовком «Le Monument Неnrу» (Р., 1899). Что же касается Петена, то он служил в военном управлении Парижа с 1895 по 1899 г., в то время, когда здесь не потерпели бы никого, кроме надежного антидрейфусара (см.: Latour С. de. Le Marechal Petain // Revue de Paris. Vol. I. P. 57–69). Д. У. Броуган (Op. cit. P. 382) в этой связи замечает, что из пяти маршалов первой мировой войны четверо (Фош, Петен, Лиоте и Файоль) были плохими республиканцами, а у пятого, Жоффре, была хорошо известная клерикальная подоплека.
[Закрыть] которая всегда составляла ядро ее армии, и случилось это в то время, когда у республики было мало врагов, но и почти совсем не осталось друзей. То, что петеновская клика в значительной мере была не порождением немецкого фашизма, а французским продуктом, показывает ее рабское следование формулам сорокалетней давности.
В то время как Германия посредством демаркационной линии хитрым образом искромсала Францию и разрушила всю ее экономику, руководители страны в Виши возились со старой формулой Барреса относительно «автономных провинций», тем самым еще больше увеча ее. Более спешно, чем любой Квислинг, они ввели антиеврейское законодательство, похваляясь тем, что им не нужно импортировать антисемитизм из Германии, и что их закон, регулирующий положение евреев, в существенных моментах отличается от законов рейха.[182]182
Миф о том, что антиеврейское законодательство Петена было навязано ему рейхом, широко поддержанный почти всем французским еврейством, был развеян самими французами. См. особенно: Simon Y. La grande crise de la Republique Francise: Observations sur la vie politique des francais de 1918 a 1938. Montreal, 1941.
[Закрыть] Они постарались мобилизовать против евреев католическое духовенство, но единственно, чего они достигли, так это убедились в том, что священники не только потеряли свое политическое влияние, но даже и не являются антисемитами. Наоборот, именно те самые епископы и синоды, которые вишистский режим хотел снова превратить в политическую силу, заявили самый решительный протест против преследования евреев.
Не в юридическом деле Дрейфуса, а во всей этой Истории в ее широких аспектах можно разглядеть предупредительный проблеск того, что случилось в XX в. Как разъяснял в 1931 г. Бернанос,[183]183
Ср.: Bernanos G. La grande peur des bien-pensants, Edouard Drumont. P., 1931. P. 262.
[Закрыть] «дело Дрейфуса принадлежит к этой трагической эре, которая конечно же не закончилась с последней войной. Дело обнаруживает тот самый бесчеловечный характер, в котором в стихии необузданных страстей и в пламени ненависти прячется немыслимо холодное и бесчувственное сердце». Безусловно, подлинное продолжение этого дела надо искать не во Франции, но усмотреть в нем причину, по которой Франция стала такой легкой добычей нацистских агрессоров, не так трудно. Гитлеровская пропаганда говорила на давно знакомом и никогда вполне не забытом языке. То, что «цезаризм»[184]184
В кн.: Gurian W. Der integrale Nationalismus in Frankreich: Charles Maurras und die Action Francaise. Frankfurt, a. M. 1931. S. 92 проводится резкое различие между монархическим движением и другими реакционными тенденциями. Этот же автор анализирует дело Дрейфуса в кн.: Die politischen und sozialen Ideen des franzosischen Katholizismus. M. Gladbach, 1929.
[Закрыть] «Action Francaise» и нигилистический национализм Барреса и Морраса не преуспели в их изначальной форме, объясняется множеством причин, и все они отрицательного свойства. У этих писателей не было социального воображения, и они не смогли перевести на общедоступный язык ту умственную фантасмагорию, которую порождало их презрение к интеллекту.
Здесь мы остановимся лишь на политической стороне Истории Дрейфуса, а не на его юридических аспектах. В ней резко очерчен ряд моментов, характерных для XX в. Смутные и едва различимые в первые десятилетия, они затем открыто выступили на свет божий и с тех пор пребывают в числе основных тенденций современности. После 30 лет умеренной, чисто общественной формы дискриминации евреев стало несколько труднее припомнить, что клич «Смерть евреям!» когда-то уже звучал во всю ширь современного государства и что вся внутренняя политика последнего кристаллизовалась вокруг вопроса об антисемитизме. В течение 30 лет старые легенды о мировом заговоре были не более чем привычным дежурным блюдом бульварной прессы и дешевых романов, и миру было нелегко вспомнить, что совсем недавно, но еще до того, как стали известны «Протоколы сионских мудрецов», целая страна ломала голову над тем, кто держит в своих руках бразды мировой политики – «тайный Рим» или «тайный Иуда».[185]185
О том, как мифы создавались с обеих сторон, см.: Halevy D. Apologie pour notre passe // Cahiers de la quinzaine. Series XL. 1910. No. 10.
[Закрыть]
Точно так же, в тех условиях, когда мир, обретя временное примирение с самим собой, не произвел выводка выдающихся уголовников, который бы оправдывал эскалацию жестокости и беспринципности, пережила упадок и неистовая нигилистическая философия духовной ненависти.[186]186
Абсолютно современно звучит написанное Золя в 1898 г. «Письмо к Франции»: "Отовсюду раздаются голоса, что идея свободы претерпела банкротство. И когда возникло дело Дрейфуса, эта усиливающаяся ненависть к свободе пережила свой золотой век… Неужели вы не видите, что на г-на Шерер-Кестнера обрушились с такой яростью именно потому, что он принадлежит поколению, которое верило в свободу, которое сражалось за нее? Теперь некоторые господа пожимают плечами и насмешливо ухмыляются: «Это, дескать, старикашки, старомодные чудаки». См.: Herzog W. Op. cit. 6 января.
[Закрыть] Всяким жюлям геренам пришлось ждать почти 40 лет, прежде чем атмосфера снова созрела для военизированных отрядов штурмовиков. Число declasses, порождавшихся экономикой XIX в., должно было возрасти до их превращения в сильные меньшинства внутри наций, прежде чем coup d'etat, так и оставшийся во Франции всего лишь гротескным замыслом,[187]187
Фарсовый характер различных предпринимавшихся в 90-е годы попыток устроить coup d'etat был четко проанализирован Розой Люксембург в ее статье «Die sociale Krise in Frankreich» // Die Neue Zeit. 1901. Bd. 1.
[Закрыть] почти без всяких усилий реализовался в Германии. Прелюдия к нацизму была разыграна на всей европейской сцене. Поэтому дело Дрейфуса – не просто причудливое, не до конца раскрытое «преступление»,[188]188
Все еще неизвестно, подделал ли полковник Анри bordereau по приказу начальника штаба или по собственной инициативе. Точно так же никогда не были прояснены причины попытки самоубийства Лабори, адвоката Дрейфуса на реннском процессе. Ср.: Zola Е. Correspondence: lettres a Maitre Labori. P., 1929. P. 32. No. 1.
[Закрыть] афера штабных офицеров, в темных очках и с фальшивыми бородами, по ночам разносящих по Парижу свои неумные подделки. Его герой – не Дрейфус, а Клемансо, и началось оно не арестом штабного офицера еврейской национальности, а панамским скандалом.








