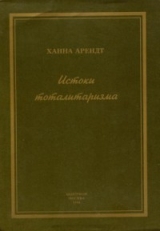
Текст книги "Истоки тоталитаризма"
Автор книги: Ханна Арендт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 49 страниц)
Двумя ключевыми фигурами в этой системе, самой сутью которой является бесконечный процесс, выступают бюрократ и секретный агент. Оба этих типа, пока они служили только британскому империализму, никогда целиком не отрицали, что они ведут свое происхождение от драконоборцев и защитников слабых и потому никогда не доводили бюрократические режимы до присущих им крайностей. Спустя почти два десятилетия после смерти Кромера английский бюрократ знал, что «административная резня» может помочь сохранить Индию в рамках Британской империи, но он также знал, насколько утопично получить поддержку ненавистных «английских ведомств» этому во всех прочих отношениях вполне реалистическому плану.[481]481
"Индийская система управления посредством докладов по начальству [в Англии] вызывала к себе подозрение. В Индии не было суда присяжных и все судьи были платными служащими короны, многих из них можно было по произволу увольнять… Многие правоведы в области формального права испытывали смущение по поводу успеха индийского эксперимента. «Если, – говорили они, – деспотизм и бюрократия так хорошо сработали в Индии, не означает ли это, что когда-нибудь этот успех будет использован как довод в пользу введения какой-то подобной системы и здесь?» Все-таки правительство Индии как-никак «достаточно хорошо знало, что должно будет оправдывать свое существование и политику перед общественным мнением Англии, зная также, что это общественное мнение никогда не потерпит угнетения» (Carthill A. Op. cit. Р. 70, 41–42).
[Закрыть] В вице-короле Индии лорде Керзоне не было ничего от кромеровского благородства; он был вполне типичен для общества, склонного принять расистские установки черни, если те подавались в модной снобистской упаковке.[482]482
Гарольд Николсон (Nicolson Н. Curzon: The last phase 1919–1925. Boston; N.Y., 1934. P. 47–48) рассказывает следующую историю: «Во Франции недалеко от линии фронта был пивной завод, и в его чанах взяли за привычку купаться вернувшиеся из окопов рядовые солдаты. Керзона как-то повезли посмотреть на это дантовское зрелище. С интересом взирал он на сотни обнаженных фигур, резвящихся в облаках пара. И вдруг воскликнул: „Боже ж мой! И представить себе не мог, что у простолюдинов такая белая кожа“. Керзон отрицал подлинность этой истории, тем не менее она ему нравилась».
[Закрыть] Но снобизм несовместим с фанатизмом и потому никогда по-настоящему не эффективен.
То же самое относится и к работникам британской секретной службы. У них тоже блестящее происхождение – для секретного агента искатель приключений есть то же самое, что драконоборец для бюрократа, – и они тоже могут по праву претендовать на легенду о своем происхождении, легенду о Большой Игре, как она рассказана Редьярдом Киплингом в «Киме».
Конечно, каждый авантюрист знает, что имеет в виду Киплинг, когда воздает должное Киму за то, что «он любит игру ради самой игры». Каждый человек, все еще способный испытывать изумление перед «этим великим и чудесным миром», знает, что это – слабый аргумент против игры, когда «миссионеры и секретари благотворительных обществ не могут разглядеть ее красоты». И кажется, еще меньшее право высказываться здесь имеют те, кто считает «грехом целовать губы белой девушки и добродетелью целовать башмаки чернокожего».[483]483
Carthill A. Op. cit. Р. 88.
[Закрыть] Поскольку саму жизнь в конечном счете нужно жить и любить во имя ее самой, приключение и любовь к игре ради самой игры легко становятся наиболее напряженным символом человеческой жизни. Именно эта пронизывающая роман страстная человечность делает «Кима» единственным произведением империалистической эпохи, в котором подлинное братство связывает «высокородных и низкородных» и в котором Ким, «сагиб и сын сагиба», может с полным правом говорить «мы», когда речь идет о «кандальниках», обо «всех в одной связке». В этом «мы», странно звучащем в устах убежденного сторонника империализма, есть нечто большее, чем всеохватывающая анонимность людей, гордящихся тем, что у них нет «имени, а только номер и буква», большее, чем общая для них гордость тем, что «за голову [каждого из них] назначена цена». В товарищество их сплачивает общий опыт, заключающий в себе опасности, страх, постоянные неожиданности, полное отсутствие сложившегося уклада жизни, постоянную готовность выдать себя за другого человека, опыт существования в качестве символов самой жизни, символов, например, того, что происходит по всей Индии, незамедлительно откликающихся на жизнь всей страны, «пульсирующую и снующую, как челнок, по всему Индостану», так что никто из них не чувствует себя больше «одиноким, одиночкой посредине всего этого», как бы в западне собственной индивидуальной и национальной ограниченности. Играя Большую Игру, человек чувствует себя живущим единственно достойной жизнью, освобожденной от всего второстепенного. Кажется, в фантастическом напряженном порыве к чистоте происходит расставание и с самой жизнью, когда человек рвет все обычные общественные связи: с семьей, с профессией, с определенными целями, амбициями и надежным местом в кругу, к которому он принадлежит по рождению. «Когда все мертвы, Большая Игра окончена. Но не прежде». Когда человек мертв, жизнь окончена, но не прежде, не когда ему случается достичь чего-то, к чему он стремится. То, что у игры нет конечной цели, делает ее так опасно похожей на саму жизнь.
В бесцельности – само очарование существования Кима. Не ради Англии и не ради Индии и не во имя какого-либо иного земного или неземного призвания принял он на себя свои странные обязанности. Империалистические понятия вроде экспансии ради экспансии или власть ради власти, возможно, подошли бы ему, но он не очень-то об этом пекся и уж, конечно, не сочинял никаких подобных формулировок. Он вступил на свой особый путь, «где про смысл не вопрошают, где действуют и погибают», не задав ни единого вопроса. Его соблазнили лишь бесконечность игры и секретность как таковая. А секретность тоже предстает как символ изначальной таинственности жизни.
В каком-то смысле прирожденные авантюристы, те, кто по своей природе находится вне общества и его политических организаций, были неповинны в том, что нашли в империализме бесконечную по определению игру; от них нельзя было ожидать понимания того, что в политике бесконечные игры кончаются катастрофой, а секретность большей частью заканчивается вульгарным шпионским двуличием. Злая шутка, приготовленная этим участникам Большой Игры, состояла в том, что их наниматели знали, чего хотят, и пользовались их страстью к анонимности для обыкновенного шпионства. Однако этот триумф жадных до прибылей вкладчиков капиталов был временным, и их, в свою очередь, надули, когда несколько десятков лет спустя они столкнулись с игроками игры в тоталитаризм, не имеющей «скрытых мотивов, подобных прибыли, и потому играемой с такой убийственной эффективностью, что ее жертвами становятся даже те, кто ее финансировал.
Прежде чем это произошло, империалисты, однако, уничтожили лучшего человека, который когда-либо превращался из авантюриста (с ярко выраженными чертами драконоборца) в секретного агента Лоуренса Аравийского. Никогда больше эксперимент с секретной политикой не желался более чистоплотно более порядочным человеком. Лоуренс бесстрашно ставил опыты на самом себе, а затем вернулся и проникся убеждением, что он принадлежит к „потерянному поколению“ Он думал, что так вышло потому, что „на сцене опять появились старики и украли у нас нашу победу“, чтобы „переделать [мир] на манер прежнего мира, каким они его знали“.[484]484
Lawrence Т. Е. Seven pillars of wisdom. Введение к первому изданию 1926 г., опущенное по совету Джорджа Бернарда Шоу при переиздании. См.: Lawrence Т. Е. Letters / Ed. by D. Garnett. N.Y., 1939. P. 262 ff.
[Закрыть] На самом деле старики были довольно-таки малоэффективны даже и в этом и отдали свою победу заодно со своей властью другим людям из того же „потерянного поколения“, которые были не старше Лоуренса и немногим от него отличались. Единственным отличием было то, что Лоуренс продолжал крепко держаться за нравственность, потерявшую, однако, всякие объективные основания и превратившуюся в нечто вроде личного и обязательно донкихотского рыцарского кодекса чести.
Лоуренса привело на роль секретного агента в Аравии его сильнейшее желание расстаться с миром скучной респектабельности, продолжать находиться в котором было просто бессмысленно при его отвращении и к этому миру, и к себе самому. В арабской цивилизации больше всего его привлекло ее „проповедование убожества… [которое] включает, по видимости, и моральное убожество… полностью очистившее себя от богов домашнего очага“.[485]485
Из письма, написанного в 1918 г. (Lawrence Т. Е. Letters. Р. 244)
[Закрыть] И, вернувшись в английскую цивилизацию, более всего он стремился избежать погружения в личную жизнь, так что кончил он с виду не поддающейся объяснению записью в рядовые солдаты британской армии, являвшейся, очевидно, единственным институтом, где честь человека тождественна потере им всякой собственной индивидуальности.
Когда разразившаяся первая мировая война послала Т. Э. Лоуренса к арабам Ближнего Востока с заданием поднять их на восстание против турецких господ и заставить воевать на стороне Англии, он оказался в самом центре Большой Игры. Своей цели он мог достичь только в том случае, если среди арабских племен возникло бы национальное движение, которое в конечном счете должно сослужить службу английскому империализму. Лоуренс должен был вести себя так, как если бы наипервейшим его интересом было арабское национальное движение, и он делал это так хорошо, что сам в это поверил. Но и тут опять-таки он не был одним из них, в конечном счете он не мог „думать по-ихнему“ и „иметь ихний характер“.[486]486
Laurence Т. Е. Seven pillars of wisdom. Garden City, 1938. Ch. 1.
[Закрыть] Выдавая себя за араба, он мог лишь потерять свое „английское я“[487]487
Ibid.
[Закрыть] и, если и приходил в восторг от чего-то, так это от полной тайны своего перевоплощения, а не от явных самооправданий мифами о благодетельном управлении отсталыми народами вроде тех, которыми пользовался лорд Кромер. На целое поколение старше и печальнее Кромера, он с великой радостью взял на себя роль, требовавшую полной переделки всей его личности, пока он не стал полностью годным для Великой Игры, не превратился в живое воплощение силы арабского национального движения, не растворил природное тщеславие в чувстве таинственной причастности к силам непременно большим, чем он сам, каким бы большим он сам ни был, не пришел к убийственному „презрению не к другим людям, а ко всему, что они делают“ по собственной инициативе, а не в союзе с силами истории.
Когда в конце войны Лоуренс должен был оставить притворщицкую роль секретного агента и так или иначе вернуться к своему „английскому я“,[488]488
Насколько непростым и шероховатым был этот процесс, можно проиллюстрировать следующим анекдотом: Лоуренс принял приглашение на обед у Клариджа, а затем на вечеринку у г-жи Харри Линдсей. Он не пришел на обед, но появился на вечере в арабском платье". Это произошло в 1919 г. (Lawrence Т. Е. Letters. Р. 272. Сноска 1).
[Закрыть] он „взглянул на запад и его условности другими глазами: все это во мне было разрушено“.[489]489
Lawrence Т. Е. Seven pillars of wisdom. Ch. 1.
[Закрыть] Из Большой Игры с ее неизмеримыми масштабами, не ограничиваемой, но и не возвеличиваемой общественным вниманием, поднявшей его в его двадцать с чем-то лет над королями и премьер-министрами, потому что он сам „их делал и играл с ними в игры“,[490]490
В 1929 г. Лоуренс писал: «Любой, кто, подобно мне, так быстро поднялся наверх… и повидал изнанку верхушки мира, может запросто потерять энтузиазм и утратить обычные мотивы действия, которые руководили им, пока он не достиг вершины. Я не был королем или премьер-министром, но я их делал и играл с ними в игры, и после этого на этом направлении мне мало что оставалось делать» (Lawrence Т. Е. Letters. Р. 653).
[Закрыть] Лоуренс возвратился домой с навязчивой жаждой анонимности и с глубоким убеждением в том, что, что бы он ни предпринимал теперь в своей жизни, он уж не получит чувства удовлетворения. К этому выводу он пришел, прекрасно зная, что его значение было не собственным его достижением, а результатом Игры. И теперь он не „хотел быть больше значительным“ и решил, что он не „будет больше респектабельным“, так что он и в самом деле „излечился… от всякого желания делать что-то для себя“.[491]491
Ibid. Р. 244, 247, 450. Ср. особенно письмо от 1918 г. (р. 244) с двумя письмами Джорджа Бернарда Шоу от 1923 г. (р. 447) и 1928 г. (р. 616).
[Закрыть] Будучи и до этого фантомом незримых сил, он стал фантомом среди живущих, когда вместе с потерей своей функции он был от этих сил отлучен. К чему он действительно изо всех сил стремился, так это к новой роли, и это, между прочим, и была та „игра“, о которой добродушно, но с полным отсутствием понимания допытывался Джордж Бернард Шоу, как если бы он вопрошал из другого века, недоумевая, как человек таких великих достижений не шумит о них на каждом углу.[492]492
Джордж Бернард Шоу, спрашивая Лоуренса в 1928 г.: «Какую же все-таки вы на самом деле играете игру?», подразумевал, что его запись в армию или поиски работы ночного сторожа (для чего он мог «достать хорошие рекомендации») были притворством.
[Закрыть] Только новая роль, новая функция могла бы быть достаточно сильной, чтобы и сам он, и мир вокруг перестали отождествлять его с его делом в Аравии, чтобы его старое „я“ заменилось новой личностью. Он не хотел становиться „Лоуренсом Аравийским“, поскольку в глубине души не желал, потеряв прежнее „я“, обретать новое. Его величие состояло в том, что он был достаточно страстной натурой, чтобы не идти на дешевые компромиссы и не избирать легкие пути к респектабельности и врастанию в реальность, и в том также, что он никогда не терял осознания того, что в прошлом он был только лишь функцией, играл роль и поэтому, „не должен никоим образом извлекать выгоду из того, что сделал в Аравии. Заслуженные им почести он отклонял. Предлагавшиеся ему благодаря его репутации места службы он не принимал, равно как не позволял себе эксплуатировать свой успех, получив деньги хоть за единую журналистскую публикацию, подписанную именем Лоуренс“.[493]493
Lawrence Т. Е. Letters. Р. 264.
[Закрыть]
История Т. Э. Лоуренса во всей ее трагичности и величии была не просто историей платного служащего или наемного шпиона, а именно историей подлинного агента или функционера, человека, действительно уверовавшего в то, что он ступил или был вовлечен в поток исторической необходимости и стал исполнителем воли или агентом управляющих миром таинственных сил. „Я столкнул свою коляску в вечный поток, и она понеслась быстрее, чем те, которые пытаются толкать поперек течения или против него. В конечном счете я не верил в арабское движение, но считал его необходимым в своем месте и в свое время“.[494]494
Lawrence Т. Е. Letters. Р. 693 (написано в 1930 г.).
[Закрыть] Подобно тому как Кромер правил Египтом ради Индии или Родс Южной Африкой ради дальнейшего расширения, Лоуренс действовал во имя какой-то конечной непредсказуемой цели. Единственное удовлетворение, которое он мог извлечь из этого, будучи лишенным возможности спокойно почить на лаврах по достижении какой-то ограниченной цели, проистекало из чувства самого функционирования, от ощущения, что тебя охватило и несет какое-то мощное движение. Вернувшись в Лондон и пребывая в отчаянии, он старался найти замену такого рода „самоудовлетворению“ и смог „извлечь его только из бешеной езды на мотоцикле“.[495]495
Ibid. Р. 456 (написано в 1924 г.).
[Закрыть] Хотя Лоуренс и не был еще охвачен идеологическим фанатизмом движения, вероятно, потому, что для предрассудков своего времени он был слишком хорошо образован, он все-таки испытал то основанное на разочаровании в любых видах личной человеческой ответственности гипнотическое преклонение перед вечным потоком с его вечным движением. Он погрузился в этот поток и ничего не оставил от себя самого, кроме какой-то необъяснимой порядочности и гордости от того, что он „идет правильным путем“. „Я все еще ломаю голову над тем, много ли зависит от отдельного человека. Порядочно, мне думается, если он идет правильным путем“.[496]496
Ibid. Р. 693.
[Закрыть] И здесь наступает конец подлинной гордости западного человека, который уже не являет собой цель и не делает больше, давая законы миру, „объект из себя самого или вещь настолько чистую, чтобы он сам захотел ей обладать“,[497]497
Lawrence Т. Е. Seven pillars of wisdom. Ch. 1.
[Закрыть] а имеет шанс только в том случае, „если он идет правильным путем“, в союзе с силами истории и необходимостью, сам будучи всего лишь их функцией.
Когда европейская чернь открыла, какой „восхитительной добродетелью“ может быть в Африке белая кожа,[498]498
Millin S. G. Op. cit. P. 15.
[Закрыть] когда английский завоеватель в Индии стал администратором, не верящим больше в универсальную значимость закона, а убежденным в собственной врожденной способности владычествовать и управлять, когда драконоборцы превратились либо в „белых людей“, либо в „высшие расы“ или в бюрократов и шпионов, играющих в Большую Игру бесчисленных скрытых мотивов, определяемых не имеющим конца движением; когда английская Интеллидженс сервис (особенно после первой мировой войны) стала привлекать лучших сынов Англии, предпочитавших служить не общему благу своей страны, а таинственным силам по всему миру, похоже, сцена для всех мыслимых ужасов была приготовлена. У всех перед носом оказались многие из элементов, из которых легко было собрать тоталитарное государство на фундаменте расизма. Индийские бюрократы выдвинули идею „административной резни“, а африканские чиновники провозгласили, что никаким этическим соображениям вроде прав человека не будет позволено становиться на пути» белого владычества.[499]499
Как выразился сэр Томас Уотт, гражданин Южной Африки английского происхождения (см.: Barnes L. Op. cit. P. 230).
[Закрыть] Счастливым можно назвать то обстоятельство, что, хотя английское империалистическое правление спустилось на несколько вульгарный уровень, жестокость в период между двумя мировыми войнами стала играть меньшую, чем когда-либо прежде, роль и неизменно соблюдался какой-то минимум человеческих прав. Именно эта умеренность посреди сплошного безумия проложила дорогу тому, что Черчилль назвал «ликвидацией Его Величества империи» и что в конечном итоге может обернуться преобразованием английской нации в содружество английских народов.
8. Континентальный империализм: пандвижения
Нацизм и большевизм обязаны пангерманизму и панславизму (соответственно) больше, чем любой другой идеологии или политическому движению. Наиболее очевидно это во внешней политике, где стратегии нацистской Германии и Советской России так близко следовали хорошо известным программам экспансии, намеченным пандвижениями до и во время первой мировой войны, что тоталитарные цели по ошибке часто принимали за преследование неких постоянных немецких или русских интересов. Хотя ни Гитлер, ни Сталин никогда не признавали своего долга империализму в развитии методов правления, оба они без колебаний допускали свою зависимость от идеологии пандвижений или подражали их лозунгам.[500]500
Гитлер писал в «Mein Kampf» (N.Y., 1939): В Вене «я заложил основы мировоззрения вообще и методы политического мышления в частности, которые позднее оставалось только завершить в подробностях, но от которых я никогда после не отрекался» (р. 129). Сталин вернулся к панславистским лозунгам во время последней войны. Панславистский конгресс 1945 г. в Софии, созванный победителями-русскими, принял резолюцию, провозгласившую «не только международную политическую, но и моральную необходимость объявить русский языком взаимного общения на конгрессе и официальным языком всех славянских стран» (см.: Aufbau. N.Y., April 6. 1945). Незадолго до этого болгарское радио передало послание митрополита Стефана, викария Священного Болгарского Синода, в котором он призвал русский народ «помнить о своем мессианском предназначении» и пророчил грядущее «единство славянских народов» (см.: Politics. January 1945).
[Закрыть]
Зарождение пандвижений не совпадало с зарождением империализма. Около 1870 г. панславизм уже появился на свет из туманных и путаных теорий славянофилов,[501]501
Исчерпывающее представление и обсуждение взглядов славянофилов см.: Koyre A. La Philosophie et le probleme national en Russie au debut du 19e siecle / Institut Francais de Leningrad. Bibliotheque Vol. 10. P., 1929.
[Закрыть] а пангерманское чувство жило в Австрии еще раньше, с середины XIX в. Но они оформились в движения и пленили воображение более широких слоев только в связи с триумфальной империалистической экспансией западных наций в 80-е годы. Нации Центральной и Восточной Европы, у которых не было колониальных владений и существенных надежд на заморскую экспансию, теперь решили, что они «имеют такое же право расширяться, как и другие великие народы, и что, если им не дадут реализовать эту возможность за морями, они будут вынуждены осуществить ее в Европе».[502]502
Hasse E. Deutsche Politik. Heft 4. Die Zukunft des deutschen Volkstums. 1907. S. 132.
[Закрыть] Пангерманисты и панслависты соглашались, что, живя в «континентальных государствах» и будучи «континентальными народами», они принуждены искать колонии на континенте,[503]503
Ibid., Heft. 3. Deutsche Grenzpolitik. S. 167168. Геополитические теории этого рода были в ходу среди «всегерманцев», членов Пангерманской лиги. Они всегда сравнивали геополитические потребности Германии с аналогичными нуждами России. Характерно, что австрийские пангерманисты никогда не проводили таких параллелей.
[Закрыть] дабы расширяться от центра власти[504]504
Славянофил Данилевский, «Россия и Европа» (1871) которого стала классикой панславизма, превозносил «политические способности» русских за их «громадное тысячелетнее государство, которое продолжает расти и власть которого, в отличие от Европы, расширяется не колониальным путем, но всегда остается сосредоточенной вокруг своего ядра – Москвы» (см.: Staehlin K. Geschichte Russlands von den Anfagen bis zur Gegenwart. 1923–1939. 5 vols. Vol. 4/1. S. 274. [Ср.: Данилевский H. Я. Россия и Европа. М.: Книга. 1991. С. 485–486.]
[Закрыть] географически непрерывно, что «идее Англии… выраженной словами: „Я хочу править морями“, противостоит идея России: „Я хочу править землей“, [505]505
Цитата из Ю. Словацкого, польского публициста 40-х годов XIX в. (см.: Lossky N. О. Three chapters from the history of polish messianism. Prague. 1936 // International Philosophical Library. Vol. 2. P. 9).
Панславизм первым из "пан-измов" (см.: Hoetzsch О. Russland. В., 1913. S. 439) выразил эти геополитические идеи почти за 40 лет до того, как пангерманизм начал «мыслить в категориях континентов». Сопоставление английской морской мощи с континентальной земельной властью так часто встречалось, что поиски влияний были бы совершенно искусственными.
[Закрыть] и что в конце концов „огромное превосходство земли над морем… высшее значение власти над сушей по сравнению с властью над морем…“ станут очевидными для всех.[506]506
Reismann-Grone Th. Ueberseepolitik oder Festlandspolitik? // Alldeutsche Flugschriften. 1905. No. 22. S. 17.
[Закрыть]
Главное значение континентального империализма, в отличие от „заморского“ колониального, состоит в том, что его идея экспансии при сохранении сцепления частей не допускает никакого географического расстояния между порядками и учреждениями колонии и нации, так что ему не надо дожидаться „эффекта бумеранга“, чтобы заставить почувствовать себя и все свои последствия в Европе. Поистине, континентальный империализм начинается дома.[507]507
Эрнст Хассе из Пангерманской лиги предложил рассматривать определенные национальности (поляков, чехов, евреев, итальянцев и т. д.) точно так же, как заморский империализм трактует туземцев вне Европейского континента (см.: Deutsche Politik. Heft 1: Das Deutsche Reich als Nationalstaat. 1905. S. 62). В этом главное различие между Пангерманской лигой, основанной в 1886 г., и более ранними колониальными обществами типа «Zentral-Verein fur Handelsgeographie» (основанного в 1863 г.). Очень добротное описание деятельности Пангерманской лиги дано в книге 1924 г. Wertheimer М. S. The Pan-German League. 1890–1914.
[Закрыть] Разделяя с заморским империализмом презрение к узости национального государства, он противопоставлял ему не столько экономические доводы (которые в конце концов очень часто выражали подлинные национальные нужды), сколько „увеличенное племенное сознание“,[508]508
Deckert E. Panlatinismus, Panslawismus und Panteutonismus in ihrer Bedeutung fur die Politische Weltlage. Frankfurt a. M., 1914. S. 4.
[Закрыть] объединявшее, как полагали, всех людей происходящих от одного народа, независимо от их истории и случайного места проживания». [509]509
Пангерманисты уже перед первой мировой войной проводили различие между «Staatsfremde», людьми немецкого происхождения, которые оказались подданными страны, и «Volksfremde», людьми негерманского происхождения, которым выпало жить в Германии (см.: Frymann D. (псевдоним Генриха Класса). Wenn ich der Kaiser war. Politische Wahrheiten und Notwendigkeiten. 1912). Когда Третий рейх поглотил Австрию, Гитлер обратился к ее немецкому населению с посланием в духе типичных пангерманских лозунгов. "Где бы мы ни родились, – вещал он, – мы все «сыны немецкого народа» (Hitlers speeches / Ed. by N. H. Baynes. 1942. Vol. 2. P. 1408).
[Закрыть] Следовательно, континентальный империализм начинал с гораздо большей близости к расовым идеям, с энтузиазмом усваивал традицию мышления в категориях расы[510]510
Т. Масарик говорит о «зоологическом национализме» славянофилов, начиная с Данилевского (см.: Masaryk Th. G. Zur russischen Geschichts– und Religionsphilisophie. 1913. S. 257). Отто Бонхард, официальный историк Пангерманской лиги установил связь между ее идеологией и расизмом Гобино и Чемберлена (см.: Bonhard О. Gescn des alldeutshen Verbandes. 1920. S. 95.)
[Закрыть] и очень мало опирался на конкретный опыт. Его расовые понятия в основе были полностью идеологическими и превращались в удобное политическое оружие значительно быстрее, чем аналогичные теории заморского империализма, которые всегда могли претендовать на определенную опору в подлинном опыте.
В обсуждениях империализма пандвижениям вообще уделялось недостаточное внимание. Более осязаемые результаты заморской экспансии затмевали их грезы о континентальных империях, а отсутствие у них интереса к экономике[511]511
Исключением является Фридрих Науман (см.: Naumann F. Central Europe. L., 1916), который хотел заменить множество национальностей в Центральной Европе одним объединенным «экономическим народом» (Wirtschaftsvolk) под руководством Германии. Хотя его книга была бестселлером во время первой мировой воины, она повлияла только на австрийскую социал-демократическую партию; Renner R. Oesterreichs Erneuerung. Politisch-programmatische Aufsatze. Wien, 1916. S. 37 ff.
[Закрыть] выглядело курьезом на фоне огромной прибыльности раннего империализма. Кроме того, в эпоху, когда почти каждый начинал верить, что политика и экономика – это более или менее одно и то же, было легко проглядеть и сходства и существенные различия между двумя разновидностями империализма. Поборники пандвижений разделяли с западными империалистами осознание всех внешнеполитических проблем, которые забывались более старыми правящими группами национального государства.[512]512
«По крайней мере до войны интерес больших партии к иностранным делам был полностью вытеснен внутренними проблемами. Позиция Пангерманскои лиги иная, и это несомненно составляет ее пропагандистский козырь» (Wenck М. Alldeutsche Taktik. 1917).
[Закрыть] Еще более явным было влияние пандвижений на интеллектуалов: русская интеллигенция за немногими исключениями, была панславистской, а пангерманизм начинался в Австрии почти как студенческое движение. [513]513
См.: Molisch P. Geschichte der deutschnationalen Bewegung in Oesterreich. Jena, 1926. S. 90. Это факт, «что студенчество не просто пассивно отражает общую политическую обстановку; напротив, пангерманистские убеждения большей частью зародились в студенческой среде и оттуда нашли дорогу в большую политику».
[Закрыть] Главное отличие пандвижений от более респектабельного империализма западных наций состояло в отсутствии капиталистической поддержки. Их поползновения к экспансии не предварялись и не могли предваряться обильным притоком денег и людей, ибо Европа никому не предлагала заманчивых колониальных возможностей. Поэтому среди лидеров пандвижений мы почти не найдем деловых людей и авантюристов, зато обнаружим много представителей свободных профессий, учителей и государственных служащих.[514]514
Полезную информацию о социальном составе Пангерманистской лиги, ее местных функциях и действующих сотрудниках можно найти: Wertheimer M. Op. cit.; Werner I. Der Alldeutsche Verband. 1890–1918 // Historische Studien. Heft. 278. Berlin, 1935; Nippold G. Der deutsche Chauvinismus. 1913. S. 179 ff.
[Закрыть]
В то время как заморский империализм, несмотря на его антинациональные тенденции, преуспел в придании новой жизни устарелым институтам национального государства, континентальный империализм был и оставался недвусмысленно враждебным всем существующим политическим образованиям. Следовательно, его общий встрой был гораздо более мятежным, а его лидеры – более сведущими в революционной риторике. Если заморский империализм предоставлял достаточно реальные выходы обломкам всех классов, то континентальный империализм не мог предложить ничего, кроме идеологии и участия в движении. И все же этого оказалось довольно в то время, предпочитавшее некую отмычку к истории политическому действию, когда люди в обстановке социальной атомизации и распада общинных связей любой ценой хотели ощутить себя частью коллектива. Подобным же образом видимому отличию белой кожи, преимущество которой легко усвоить в черном или цветном окружении, могло быть успешно противопоставлено чисто воображаемое различие между восточной и западной, или арийской и неарийской душой. Повод к размышлению здесь в том, что весьма путаная идеология и организация, не сулившая никаких непосредственных выгод, оказались более привлекательными, чем вещественные блага и общепринятые убеждения.
Несмотря на отсутствие практических успехов, пандвижения с их всем известной апелляцией к толпе с самого начала увлекали гораздо сильнее, чем заморский империализм. Эта популярность, державшаяся вопреки ощутимым пробелам и постоянным изменениям программы, предвещала позднейшие тоталитарные группы, которые также не определялись относительно своих действительных целей и изо дня в день меняли свою политическую линию. Участников пандвижений куда крепче объединяло общее настроение, чем ясно определенная цель. Правда, заморский империализм тоже ставил экспансию, как таковую, выше любой программы завоевания и потому захватывал при случае любую территорию, сулившую легкую добычу. И все же, как бы ни был капризен и неустойчив вывоз избыточного капитала, сама его природа ставила границы вытекавшей из него же экспансии. Целям же пандвижений не хватало даже этого весьма анархического элемента человеческого планирования и сдерживания географического расширения. И хотя у них не было конкретных планов завоевания мира, они создавали вездесущее настроение полного превосходства, всепонимания и прикосновенности ко всем делам человеческим, настроение «всечеловека», как однажды выразился Достоевский.[515]515
Цит. по: Kohn Н. The permanent mission // The Review of Politics. 1948. July.
[Закрыть]
В империалистическом союзе между толпой и капиталом инициатива принадлежала большей частью представителям делового мира (за исключением событий вокруг Южной Африки, где очень рано проявилась определенная политическая линия толпы). В пандвижениях же инициатива всегда была исключительно делом толпы, которую вели тогда (как и теперь) интеллектуалы определенного сорта. Они еще не имели амбиций править земным шаром и даже не думали о возможностях организационного, а не просто идеологического или пропагандистского применения расовых понятий. Значимость последних только поверхностно отразилась в относительно скромных теориях внешней политики, где понятия германизированной Центральной Европы и русифицированной Восточной и Южной Европы послужили отправными точками для планов подчинения мира нацизму или большевизму.[516]516
Данилевский (указ. соч.) включал в будущую Российскую империю все балканские страны, Турцию, Венгрию, Чехословакию, Галицию и Истрию с Триестом.
[Закрыть] «Германские народы» вне рейха или «наши меньшие славянские братья» вне Святой Руси создавали удобную дымовую завесу из права народов на самоопределение в качестве легко преодолимого переходного этапа к дальнейшей экспансии. Гораздо более существенным был факт, что тоталитарные правительства унаследовали ауру святости: стоило им только воззвать к прошлому «Святой Руси» или «Священной Римской империи», как воскресали все былые призраки и суеверия у славянских и германских интеллектуалов.[517]517
Славянофил Аксаков К. С. в середине XIX в. воспринимал официальное наименование «Святая Русь» совершенно буквально (см.: Masaryk Th. G. Op. cit., S. 234). Для характеристики мутной чепухи пангерманизма очень показательна книга: Moeller van den Bruck A. Germany's Third Empire. N.Y., 1934, в которой он провозглашает: «Есть только одна Империя, как есть только одна Церковь. Все, что еще притязает на этот титул, может быть неким государством, или сообществом, или сектой. Существует же только Империя» (р. 263).
[Закрыть] Псевдомистический вздор, обогащенный бесчисленными и произвольными историческими воспоминаниями, обеспечивал такую эмоциональную притягательность, которая, видимо, превосходила по глубине и широте ограниченность прежнего национализма. Во всяком случае, из этого вырос тот новый род националистических чувств, сила которых оказалась превосходным двигателем толпообразных масс и очень удачно подменила в роли эмоционального центра более старый национальный патриотизм.
Этот новый тип племенного национализма, более или менее свойственный всем нациям и национальностям Центральной и Восточной Европы, был весьма отличен по содержанию и значимости (если не по силе чувства) от западных националистических эксцессов. Шовинизм (ныне обычно связываемый с nationalisme integral Морраса и Барреса на рубеже веков, с его романтическим прославлением прошлого и болезненным культом мертвых) даже в самых диких и фантастических проявлениях своих не утверждал, что лица французского происхождения, родившиеся и выросшие в другой стране, без какого-либо знания французского языка или культуры, будут «прирожденными французами» благодаря каким-то таинственным качествам души и тела. Лишь вместе с «возросшим племенным сознанием» возникает то отождествление национального с собственным душевным строем, та обращенная внутрь гордость, которая больше не связана только с делами общественными, но наполняет каждый шаг в частной жизни до того, например, что «частная жизнь всякого истинного поляка… есть общественное проявление польскости».[518]518
Cleinow G. Die Zukunft Polens. Leipzig. 1914. Bd. 2. S. 93 ff.
[Закрыть]
Психологически главное различие между даже самым яростным шовинизмом и этим племенным национализмом в том, что первый направлен вовне, заинтересован в видимых духовных и материальных достижениях нации, тогда как второй, даже в наиболее умеренных формах (например, в немецком юношеском движении), обращен внутрь, сосредоточен на собственной отдельно взятой душе, которая считается воплощением общенациональных качеств. Шовинистская мистика еще указывает на нечто реально существовавшее в прошлом (как в случае nationalisme integral) и просто пытается вознести это в надчеловеческую сферу; трайбализм же начинает с несуществующих псевдомистических элементов, которые он предполагает полностью реализовать в будущем. Его легко опознать по чудовищной самонадеянности, свойственной его сосредоточенности на себе, которая осмеливается мерить народ, его прошлое и настоящее, своим аршином возвышенных внутренних качеств и неизбежно отворачивается от его реального существования, традиций, институтов и культуры.
В политическом смысле племенной национализм всегда твердит, будто его собственный народ окружен «враждебным миром», стоит «один против всех», что существует глубочайшая разница между этим народом и всеми другими. Он провозглашает свой народ единственным, неповторимым, несовместимым со всеми другими и теоретически отрицает саму возможность общности человечества задолго до того, как всё это использовали, чтобы разрушить человеческое в человеке.








