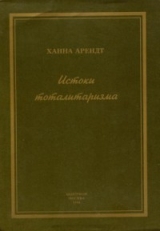
Текст книги "Истоки тоталитаризма"
Автор книги: Ханна Арендт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 49 страниц)
Случившееся со злополучным капитаном Дрейфусом показало миру, что в любом еврейском аристократе или мультимиллионере все-таки остается нечто от былого парии, у которого нет родины, для которого не существуют прав человека и которому общество с радостью отказывает в своих привилегиях. Однако никто но воспринял этот факт с таким трудом, как сами эмансипированные евреи. «Им недостаточно, – писал Бернар Лазар, – отказаться от всякой солидарности со своими рожденными в других странах братьями; они готовы обвинить тех во всех бедах, рожденных их собственной трусостью. Они не довольствуются ролью больших джингоистов, чем сами французы; подобно всем эмансипированным евреям повсюду, они по собственной доброй воле рвут все связи солидарности. Действительно, они зашли так далеко, что на две-три дюжины из них, готовых защищать одного из своих подвергнутых мукам братьев, во Франции найдется несколько тысяч, готовых стоять на страже Чертова острова вместе с самыми отъявленными патриотами».[265]265
Lazare В. Job's dungheap. N.Y., 1948. P. 97.
[Закрыть] Именно из-за того, что они играли в странах своего проживания столь небольшую роль в их политическом развитии, на протяжении XIX в. они пришли к фетишизации равенства перед законом. Для них это была не подлежащая сомнению основа безопасности на века. Когда разразилась История Дрейфуса как предупреждение о том, что их безопасность находится под угрозой, они уже были охвачены столь глубоким процессом разлагающей ассимиляции, что недостаток у них политической мудрости в результате только усугубился. Они быстро ассимилировались в тех слоях общества, где все политические страсти подавляются мертвым грузом светского снобизма, большого бизнеса и невиданных доселе возможностей разбогатеть. Они надеялись избавиться от порождаемой этими тенденциями антипатии, направив ее против своих же бедняков и еще не ассимилированных братьев. Используя ту же тактику, которую нееврейское общество употребляло против них, они всячески старались отмежеваться от так называемых Ostjuden. Они беззаботно отмахивались от политического антисемитизма, проявившегося в погромах в России и Румынии, как от пережитка средневековья, чего-то нереального для современной политической жизни. Им было никак невдомек, что в Истории Дрейфуса на карту было поставлено больше, чем просто социальный статус, хотя бы потому, что было пущено в ход нечто большее, чем просто бытовой антисемитизм.
Таковы причины, по которым в рядах французского еврейства оказалось так мало беззаветных сторонников Дрейфуса. Евреи, включая саму семью Дрейфуса, не хотели начинать политическую борьбу. Именно в силу этого Лабори, адвокат Золя, был отведен как защитник на Реннском процессе, а второму адвокату Дрейфуса – Деманжу было предписано ограничить защиту принципом толкования сомнения в пользу обвиняемого. Таким образом надеялись потоком комплиментов смягчить возможное наступление со стороны армии или ее офицеров. Думали, что самый легкий путь к оправданию состоит в том, чтобы притвориться, что все дело, возможно, сводится к юридической ошибке, жертвой которой случайно оказался еврей. В результате был вынесен второй приговор, и не посмевший иметь дело с подлинной подоплекой событий Дрейфус вынужден был отказаться от требования пересмотра и просить о помиловании, т. е. фактически признать себя виновным.[266]266
Ср.: Labore F. Le mal politique et les partis // Le Grande Revue. 1901. October – December: «С того момента, когда на процессе в Ренне обвиняемый признал свою вину и защитник отказался от требования пересмотра в надежде на помилование, дело Дрейфуса было закрыто как великая универсальная человеческая проблема». В своей статье, озаглавленной «Le spectacle du jour», Клемансо пишет об алжирских евреях, «по поводу которых Ротшильд не заявит ни малейшего протеста».
[Закрыть] Евреи не разглядели, что речь-то шла об организованной борьбе против них на политическом фронте. Поэтому они отказались от сотрудничества с людьми, готовыми встретить вызов именно на этой территории. Насколько слепы они были, ясно показывает пример Клемансо. Его борьба за справедливость как основание государства, безусловно, включала в себя и вопрос равенства в правах для евреев. Однако в эпоху классовой борьбы, с одной стороны, и неистового джингоизма, с другой, все это так и осталось бы политической абстракцией, не будь выражено одновременно в остроактуальных терминах борьбы угнетенных против своих угнетателей. Клемансо был одним из немногих подлинных друзей, каких только знало современное еврейство, поскольку он распознал и объявил всему миру, что евреи являются одним из угнетенных народов Европы. Антисемит склонен видеть в еврейском парвеню выскочку-парию, соответственно в каждом торгаше он опасается Ротшильда и в каждом schnorrer'e – парвеню. Но Клемансо в своей всепоглощающей страсти к справедливости даже в Ротшильдах разглядел их принадлежность к попранному народу. Боль за несчастную Францию открыла его глаза, и его сердце преисполнилось сочувствия даже к тем «бедолагам, кто выставляют себя лидерами своего народа, а потом спешно покидают его в беде», тем запуганным и попраным людям, которые в своем невежестве, слабости и страхе всегда были настолько ослеплены преклонением перед более сильными, что отказались вступить с ним в союз для активной борьбы и оказались способны «поспешить на подмогу победителю» только после того, как битва была выиграна.[267]267
См. статьи Клемансо «Le spectacle du jour», «Et les juifs!», «Le farce du syndicat» и «Еncorе les juifs» в газете «L'Iniquite».
[Закрыть]
То, что драма Дрейфуса была комедией, стало очевидным только в ее последнем акте. Объединившим расколотую страну deus ex machina, повернувшим парламент в пользу пересмотра и примирившим в конечном счете такие несовместимые части народа, как крайние правые и социалисты, был не кто иной, как парижская Всемирная выставка 1900 г. То, чего не смогли достичь ни ежедневные передовицы Клемансо, ни пафос Золя, ни речи Жореса, ни ненависть народа к духовенству и аристократии, а именно изменить настроения в парламенте в пользу Дрейфуса, в конце концов было достигнуто из-за страха перед бойкотом. Тот же самый парламент, который год назад единогласно отверг пересмотр, теперь двумя третями голосов вынес вотум недоверия антидрейфусаровскому правительству. В июле 1899 г. к власти пришел кабинет Вальдека-Руссо. Президент Лубе помиловал Дрейфуса и покончил со всем этим делом. Выставка могла теперь открыться при наияснейшем коммерческом небе, и за этим последовало всеобщее братание: даже социалисты получили право на министерские посты; первый министр-социалист Мильеран получил портфель министра торговли. Парламент стал на сторону Дрейфуса! Такова была развязка. Для Клемансо это, конечно, было поражение. До самого конца он разоблачал двусмысленное помилование и еще более двусмысленную амнистию. «Все, что проделано, – писал Золя, – так это сваливание под одно дурно пахнущее помилование и людей чести, и хулиганов. Все брошено в один котелок».[268]268
Ср. письмо Золя от 13 сентября 1899 г. в «Correspondance: lettres a Maitre Labori».
[Закрыть]
Клемансо, как и вначале, остался в абсолютном одиночестве. Социалисты, и в первую очередь Жорес, приветствовали и помилование, и амнистию. Разве это не обеспечило им место в правительстве и более широкое представительство их особых интересов? Несколькими месяцами позже, в мае 1900 г., когда успех выставки стал несомненным, выяснилась подлинная правда. Вся эта тактика умиротворения была осуществлена за счет дрейфусаров. Предложение о новом рассмотрении дела было отвергнуто 425 голосами против 60, и ситуацию не смогло изменить даже собственное правительство Клемансо в 1906 г.; оно не решилось доверить пересмотр обычному суду. Оправдание Кассационным судом (незаконное) явилось компромиссом. Но поражение Клемансо не означало победу для церкви и армии. Отделение церкви от государства и запрещение приходского образования положили конец влиянию католицизма во Франции. Точно так же подчинение разведывательной службы военному министерству, т. е. гражданской власти, отняло у армии возможность путем шантажа влиять на кабинет и палату и лишило ее всякого оправдания для ведения по собственной инициативе каких бы то ни было полицейских расследований. В 1909 г. Дрюмон баллотировался в Академию. Некогда его антисемитизм восхвалялся католиками и приветствовался народом. Теперь, однако, «величайший историк со времен Фюстеля» (Леметр) был вынужден уступить Марселю Прево, автору в некоторой степени порнографического романа «Demi-Vierges», и новый «бессмертный» получил поздравления от иезуита отца Дю Лака.[269]269
Ср.: Herzog W. Op. cit. P. 97.
[Закрыть] Даже Общество Иисуса уладило свою ссору с Третьей республикой. Окончание дела Дрейфуса знаменовало собой конец клерикального антисемитизма. Избранный Третьей республикой компромисс оправдал обвиняемого, минуя нормальное судопроизводство, и в то же время ограничил деятельность католических организаций. Пока Бернар Лазар добивался равных прав для обеих сторон, государство сделало одно исключение для евреев и другое для католиков, угрожающее их свободе совести.[270]270
Позиция Лазара в деле Дрейфуса лучше всего описана в: Peguy С. Notre Jeunesse // Cahiers du la quinzaine. P., 1910. Рассматривая его как подлинного представителя интересов евреев, Пеги следующим образом формулирует требования Лазара: «Он был борцом за беспристрастность закона. Беспристрастность в деле Дрейфуса, беспристрастность в деле о религиозных орденах. Казалось бы – пустяк, но могущий завести далеко. Его это привело к одинокой смерти» (цитата из введения к: Lazare В. Job's dungheap). Лазар был одним из первых дрейфусаров, протестовавших против закона о конгрегациях.
[Закрыть] Обе действительные стороны конфликта была поставлены вне закона с тем результатом, что еврейский вопрос, с одной стороны, и политический католицизм, с другой, отныне были устранены с арены практической политики. Так завершился единственный эпизод, когда потаенные силы XIX в. предстали в полном свете документированной истории. Единственным видимым результатом этого события было рождение сионистского движения, ибо только таким мог быть политический ответ евреев на антисемитизм и только такой – идеология, в которой отразилось впервые ставшее серьезным их отношение к враждебности, коей суждено будет перенести евреев в центр мировой истории.
Империализм
Я аннексировал бы планеты, если бы мог.
Сесил Родс
5. Политическая эмансипация буржуазии
Три десятилетия, годы с 1884 по 1914, отделяют XIX в., закончившийся схваткой за Африку и рождением пандвижений, от XX в., начавшегося первой мировой войной. Это – период империализма с его застойным покоем в Европе и захватывающими дух событиями в Азии и Африке.[271]271
Hobson J. A. Imperialism. L., 1905. P. 19: «Хотя 1870 г. был взят как начальный пункт сознательной империалистической политики, но, как мы увидим, она не получила своего полного развития до середины 1880-х годов… примерно до 1884 г.»
[Закрыть] Некоторые из фундаментальных аспектов этого времени представляются столь близкими тоталитарным явлениям XX в., что, возможно, оправданно рассматривать весь этот период как подготовительную стадию грядущих катастроф. Но тем не менее благодаря своему спокойствию он еще очень напоминает XIX в. и как бы является его частью. Очень трудно избежать соблазна смотреть на это близкое и одновременно далекое прошлое слишком умными глазами тех, кто наперед знает окончание сюжета, кто знает, что все кончилось почти полным обрывом в непрерывном потоке западной истории, какой мы ее знали на протяжении более чем двух тысячелетий. Но мы должны признаться также и в наличии определенной ностальгии по тому, что все еще можно назвать «золотым веком спокойствия», т. е. по эпохе, когда даже ужасы все-таки были отмечены определенной сдержанностью и регулировались правилами приличия и потому не нарушали общей картины душевного здоровья. Другими словами, каким бы близким ни было к нам это прошлое, мы абсолютно ясно отдаем себе отчет в том, что наш опыт концентрационных лагерей и фабрик смерти так же далек от общей атмосферы тех лет, как он далек от духа любого другого периода западной истории.
Центральным событием внутриевропейской истории периода империализма была эмансипация буржуазии, которая к этому времени оказалась первым в истории классом, достигшим экономического преобладания без посягательств на политическое господство. Буржуазия развилась внутри и вместе с национальным государством, которое, почти по определению, стояло над разделенным на классы обществом и как бы вне его. Даже после того как буржуазия утвердилась в качестве правящего класса, все политические решения она оставила за государством. Только когда национальное государство обнаружило свою неспособность быть ареной дальнейшего роста капиталистической экономики, подспудная вражда между государством и обществом превратилась в открытую борьбу за власть. В империалистический период ни государство, ни общество не смогли одержать решающей победы. Национальные институты постоянно сопротивлялись жестокости и мегаломании империалистических устремлений, а попытки буржуазии использовать государство и его средства насилия в своих экономических интересах всегда были только наполовину успешными. Перемена произошла, когда немецкая буржуазия поставила все на гитлеровское движение и вознамерилась управлять с помощью толпы, но тогда было уже слишком поздно. Буржуазии удалось разрушить национальное государство, но победа оказалась пирровой: толпа показала свою способность самостоятельно позаботиться о политике и ликвидировала буржуазию вместе со всеми другими классами и институтами.
5.1 Экспансия и государство-нация«Экспансия – это все», – сказал Сесил Родс и впал в отчаяние, ибо каждую ночь он видел над собой «эти звезды… эти необъятные миры, которых нам никогда не достичь. Я аннексировал бы планеты, если бы мог».[272]272
Millin S. G. Rhodes. L., 1933. P. 138.
[Закрыть] Он открыл движущий принцип новой, империалистической эры (в течение менее чем двух десятилетий английские колониальные владения увеличились на 4,5 миллиона квадратных миль и на 66 миллионов человек, французская нация обрела 3,5 миллиона квадратных миль и 26 миллионов человек, немцы завоевали новую империю площадью в 1 миллион квадратных миль с населением в 14 миллионов туземцев, а Бельгия в лице ее короля получила 900 тысяч квадратных миль с населением 8,5 миллиона человек);[273]273
Эти цифры взяты из работы: Hayes С. J. H. A generation of materialism. N.Y., 1941. P. 138, и покрывают период с 1871 по 1990 г. См. также: Hobson J. A. Op. cit. P. 19: «В течение 15 лет к Британской империи добавились 3,75 млн кв. миль, к Германии – 1 млн кв. миль с 14 млн жителей, к Франции – 3,5 млн кв. миль с населением в 37 млн человек».
[Закрыть] но тут же, в минутном прозрении, Родс разглядел исконное безумие этого принципа, его противоречие человеческой природе. Естественно, ни это прозрение, ни его грусть не изменили его политику. Ему ни к чему были проблески мудрости, столь далеко уводящие от нормальных способностей честолюбивого бизнесмена с заметной склонностью к мегаломании.
«Мировая политика для нации – это то же самое, что мегаломания для отдельного человека», – сказал Евгений Рихтер[274]274
См.: Hasse Е. Deutsche Weltpolitik // Flugschriften des Alldeutschen Verbandes 1897. No. 5. S. 1.
[Закрыть] (лидер немецкой прогрессивной партии) в то же примерно время. Но его оппозиция в рейхстаге предложению Бисмарка поддержать частные компании в деле организации ими торговых и морских опорных пунктов ясно показывала, что он еще меньше, чем сам Бисмарк, понимал тогдашние экономические интересы нации. Получалось, что вроде бы те, кто сопротивлялись империализму или игнорировали его – подобно Евгению Рихтеру в Германии, Гладстону в Англии или Клемансо во Франции, – утратили контакт с реальностью и не осознавали, что торговля и экономика уже вовлекли каждую нацию в мировую политику. Национальный принцип вел к провинциальному невежеству, и битва, которую пыталось дать здравомыслие, была проиграна.
Наградой всякому политику за его последовательную оппозицию империалистической экспансии были несуразица и потери. Так, Бисмарк в 1871 г. отказался от французских владений в Африке, предлагаемых в обмен на Эльзас-Лотарингию, а 20 лет спустя получил от Великобритании Гельголанд за Уганду, Занзибар и Виту – «за корыто – два царства», как не без оснований упрекали его немецкие империалисты. Также и Клемансо в 80-е годы сопротивлялся империалистической партии во Франции, когда она хотела послать в Египет против англичан экспедиционные силы, – и тридцатью годами позже отдал Англии нефтеносные земли в Мосуле ради заключения англо-французского союза. Равно и Гладстон был обвинен Кромером в Египте в том, что он «не тот человек, которому можно вручить судьбы Британской империи».
То, что государственные деятели, мыслившие главным образом в терминах установившейся национальной территории, с подозрением относились к империализму, было достаточно оправдано, разве что речь шла о чем-то большем, чем просто, как они выражались, о «заморских авантюрах». Скорее инстинктом, чем интуицией, они понимали, что это новое экспансионистское движение, в котором «патриотизм… лучше всего выражается деланием денег» (Хуэббе-Шлейден), а национальный флаг является «коммерческим достоянием» (Родс), может только лишь разрушить политическое тело национального государства. Захваты, как и строительство империи, не встречали у них сочувствия по вполне понятным причинам. Они могли успешно осуществляться только государствами, которые, подобно Римской республике, основывались преимущественно на законе, когда вслед за завоеванием могла происходить интеграция самых разнообразных народов за счет их подчинения единому закону. Национальное же государство, основанное на активной поддержке однородным населением своего правительства («lе plebiscite de tous les jours»),[275]275
В своем классическом эссе «Qu'est-се qu'une nation?» (P., 1882) Эрнест Ренан выделял «общее соглашение, желание жить вместе, продолжать сообща пользоваться доставшимися неразделенным наследством» в качестве главных элементов, объединяющих представителей народа таким образом, что они образуют нацию.
[Закрыть] не обладало таким объединяющим принципом и в случае завоеваний вынуждено было не интегрировать, а ассимилировать, не утверждать закон, а навязывать согласие, т. е. вырождаться в тиранию. Уже Робеспьер хорошо понимал это, когда воскликнул: «Perissent les colonies si elles nous en coutent l'honneur, la liberte».
Экспансия как постоянная и высшая цель политики – это центральная политическая идея империализма. Поскольку она не ограничивается простым захватом добычи или более продолжительным процессом ассимиляции покоренных, она представляется совершенно новой концепцией в длинном историческом ряду политических идей и деяний. Причиной такой удивительной оригинальности – удивительной потому, что абсолютно новые концепции в политике крайне редки, – является то, что на самом деле эта концепция вовсе не политическая, она берет свое начало в области деловых спекуляций, где экспансия означает постоянное расширение промышленного производства и экономических взаимосвязей, характерное для XIX в.
В экономической сфере экспансия являлась отражающим суть дела понятием, поскольку индустриальный рост был непосредственной реальностью того времени. Экспансия означала реальное увеличение производства используемых и потребляемых товаров. Процесс производства столь же безграничен, как и способность человека производить для самого себя, организовывать, обставлять и совершенствовать свой мир. Когда производство и экономический рост замедлялись, препятствия были не столько экономическими, сколько политическими, так как производство зависело от множества различных народов и продукты его потреблялись множеством народов, организованных в очень различные политические единства.
Империализм родился тогда, когда господствующий в капиталистическом производстве класс натолкнулся на национальные преграды своей экономической экспансии. Буржуазия обратилась к политике из экономической необходимости; ибо, если она не хотела отказаться от капиталистической системы, внутренне присущим законом которой является экономический рост, она должна была подчинить этому закону свои правительства и провозгласить экспансию конечной политической целью внешней политики.
Под лозунгом «Экспансия во имя экспансии» буржуазия попыталась (и частично преуспела в том) убедить свои национальные правительства вступить на стезю мировой политики. В какой-то момент казалось, что предложенная политика найдет естественные ограничители и уравновешивающие факторы в самом факте одновременного и конкурентного вступления на путь экспансии сразу нескольких государств. Действительно, на своих начальных этапах империализм еще мог описываться как борьба «соперничающих империй» и его можно было отличить от «идеи империи в древнем и средневековом мире – идеи федерации государств при гегемонии одного, охватывающей… весь известный мир».[276]276
Hobson J. A. Op. cit.
[Закрыть] Но такая конкуренция была лишь одним из многих пережитков прошедшей эпохи, уступкой все еще преобладающему национальному принципу, согласно которому человечество представляло собой семью государств, стремящихся опередить друг друга в плане своего совершенства, или либеральной вере в то, что конкуренция автоматически сама ставит себе определенные сдерживающие границы, с тем чтобы одна из сторон не уничтожала остальных. Однако такое благостное равновесие едва ли могло быть автоматическим исходом таинственных экономических законов и в сильнейшей степени зависело от политических и еще больше – от полицейских институтов, удерживающих конкурирующие стороны от использования револьверов. Поэтому трудно объяснить, как могла бы закончиться чем-либо иным, кроме победы одного и смерти всех остальных, конкуренция всесторонне вооруженных предприятий – «империй». Другими словами, конкуренция является принципом политики не более, чем экспансия, и так же остро нуждается в контроле и сдерживании со стороны политической власти.
В отличие от экономической структуры, политическая структура не может расширяться до бесконечности, так как она основывается не на производительной силе человека, которая действительно безгранична. Из всех видов управления людьми и их организации национальное государство наименее приспособлено к неограниченному росту, поскольку лежащее в его основе подлинное согласие не растяжимо до бесконечности, и лишь очень редко и с трудом его можно добиться от побежденных народов. Никакое национальное государство не может идти на покорение других народов с чистой совестью, ибо таковая совесть возникает только из убеждения покоряющей нации в том, что она подчиняет варваров высшему закону.[277]277
Моральные проблемы, проистекающие из веры в согласие как основу всякой политической организации, очень хорошо описаны Гарольдом Николсоном в кн.: Nicolson H. Curzon: The last phase 1919–1925. Boston; N.Y., 1934, где в связи с обсуждением английской политики в Египте говорится следующее: «Оправдание нашего присутствия в Египте базируется не на заслуженном праве победителя и не на силе, а на нашей собственной вере в наличие какого-то элемента согласия. В 1919 г. этого элемента не существовало ни в какой явно выраженной форме. В марте 1919 г. восстание египтян драматическим образом опровергло эту нашу веру».
[Закрыть] Нация же воспринимает свои законы как порождение особой национальной субстанции, и эти законы не имеют силы за пределами собственного народа и собственной территории.
Где бы национальное государство ни выступало в качестве завоевателя, оно возбуждало у покоренных народов национальное самосознание и стремление к суверенитету, подрывая тем самым любые искренние усилия, направленные на строительство империи. Так, французы включили Алжир в свою страну в качестве провинции, но не решились навязать арабскому народу свои законы. Напротив, они продолжали уважать закон ислама и предоставили своим арабским гражданам «персональный статус», произведя на свет бессмысленный гибрид в виде номинально французской территории, юридически – такой же части Франции, как Departement de la Seine, но населенной не гражданами Франции.
Первые английские «строители империи», уверовав в покорение как постоянный метод управления, оказались не в состоянии включить в грандиозную структуру Британской империи, а затем Британского содружества наций своих ближайших соседей – ирландцев; и когда после первой мировой войны Ирландии был предоставлен статус доминиона и полноправного члена содружества, неудача была, может быть, и менее очевидной, но столь же реальной. Старейшее «владение» и новейший доминион односторонне отверг статус доминиона (1937 г.) и порвал все связи с Англией, отказавшись участвовать в войне. Английское правление методом постоянного покорения, поскольку оно «просто не осилило уничтожить» Ирландию (Честертон), не столько возбудило свой собственный «дремлющий гений империализма»,[278]278
Так выразился лорд Солсбери, радуясь принятию первого гладстоновского билля о гомруле. В последующие 20 лет консервативного (а в то время, значит, и империалистического) правления (1885–1905) англо-ирладский конфликт не только не был разрешен, но, напротив, сильно обострился. См. также Chesterton G. K. The crimes of England. 1915. P. 57 ff.
[Закрыть] сколько пробудило дух национального сопротивления в ирландцах.
Национальная структура Соединенного Королевства сделала невозможной быструю ассимиляцию и включение в общую структуру покоренных народов; Британское содружество никогда не было «содружеством наций», оно оставалось наследником Соединенного Королевства, одной нацией, распространившейся по всему миру. В результате распространения и колонизацми политическая структура не расширялась как единое целое, а насаждалась в виде отдельных очагов, в результате чего члены этого нового федеративного образования оставались тесно связанными со своей общей родиной на основе общего прошлого и общего закона. Пример Ирландии показывает, насколько плохо было приспособлено Соединенное Королевство к строительству имперской структуры, в которой могли бы в согласии жить различные народы.[279]279
Почему на начальных стадиях национального развития Тюдорам не удалось вобрать Ирландию в Великобританию, подобно тому как Валуа вобрали во Францию Бретань и Бургундию, все еще остается загадкой. Можно предположить, однако, что сходный процесс был жестоко оборван кромвелевским режимом, отнесшимся к Ирландии как к огромному куску добычи, который следовало поделить между своими слугами. Как бы то ни было, после кромвелевской революции, которая для формирования английской нации имела такое же решающее значение, как Французская революция для образования французской, Великобритания уже достигла той степени зрелости, которая всегда сопровождается потерей способности к ассимиляции и интеграции, имеющейся у политического организма нации только на начальных стадиях. За этим последовало то, что было, по существу, одной большой печальной историей «принуждения, применяемого не для того, чтобы люди жили покойно, а для того, чтобы они покойно помирали» (Chesterton G. K. Op. cit. Р. 60.).
Историческое описание ирландского вопроса, включающее самые последние события, можно найти в превосходном объективном исследовании Николаса Манзера (Mansergh N. Britain and Ireland // Longman's Pamphlets on the British Commonwealth. L., 1942).
[Закрыть] Английская нация обнаружила способность не к римскому искусству созидания империи, а к следованию греческой модели колонизации. Вместо покорения народов и установления у них своего закона английские колонисты селились на вновь обретенных территориях в четырех концах земного шара, оставаясь частью все той же английской нации.[280]280
Весьма характерно звучит следующее заявление Дж. А. Фруда, сделанное незадолго до начала империалистической эры: «Пусть с самого начала будет утверждено, что англичанин, эмигрирующий в Канаду или в Капскую колонию, Австралию или Новую Зеландию, не теряет своей национальной принадлежности, что он так же продолжает пребывать на английской земле, как если бы он был в Девоншире или Йоркшире, и остается англичанином, пока существует Английская империя; и если бы мы потратили четверть той суммы, что мы утопили в болотах Балаклавы, на переселение и устройство в этих колониях двух миллионов наших людей, это более способствовало бы усиление основ нашей державы, чем все войны, в которые мы были вовлечены, – от Азенкура до Ватерлоо» (цит. по: Schuyler R. L. The fall of the old colonial system. A study in British free trade, 1770–1870. N.Y., 1945. P. 280–281).
[Закрыть] Будет ли федеративная структура содружества, восхитительным образом построенная на реальной основе распространения по всей земле одной нации, достаточно эластичной, чтобы перевесить исконно присущие этой нации затруднения в имперском строительстве и допустить в качестве полноправных «партнеров в общем предприятии» содружества заведомо и прочно неанглийские народы, покажет время. Нынешний статус Индии, между прочим категорически отвергнутый индийскими националистами во время войны, часто рассматривается как временное и промежуточное решение.[281]281
Видный южноафриканский писатель Ян Диссельбом без обиняков выразил мнение людей Содружества на этот счет: «Великобритания – это просто партнер в общем деле… все мы происходим из одного близкого родственного корня… Те части империи, которые населены расами, не подпадающими под вышесказанное, никогда не были такими партнерами. Они были частной собственностью господствующего партнера… Можно иметь белый доминион или можно иметь доминион Индию, но нельзя иметь и то и другое» (цит. по: Carthill A. The lost dominion. 1924).
[Закрыть]
Исходное противоречие между внутренним устройством национального государства и завоеванием как политическим средством стало очевидным со времени крушения наполеоновской мечты. Именно в силу этого опыта, а не из гуманистических соображений завоевание с той поры подверглось официальному осуждению и стало играть незначительную роль в регулировании территориальных споров. Неудача Наполеона в объединении Европы под французским флагом ясно показала, что завоевание, осуществляемое одной нацией, ведет либо к полному пробуждению национального самосознания покоренного народа, либо к тирании. И хотя тирания, поскольку она не нуждается в согласии, может успешно управлять другими народами, она способна оставаться у власти, только если она прежде всего разрушает национальные институты в собственной стране.
Французы, в противоположность англичанам и другим нациям Европы, в последнее время попытались соединить ius и imperium и построить империю в римском смысле. Они были единственными, кто по крайней мере попробовал превратить политический организм национального государства в имперскую политическую структуру, веря в то, что «французская нация шагала вперед… чтобы распространять блага французской цивилизации»; они хотели включить заморские владения в национальное целое, обращаясь с покоренными народами «и как с братьями, и… как с подданными, – братьями в семье единой французской цивилизации и подданными в смысле обучения французскому просвещению и следования французскому руководству».[282]282
Barker E. Ideas and ideals of the British Empire. Cambrige, 1941. P. 4.
См. также превосходные вводные замечания относительно образования Французской империи в: The French colonial Empire // Information Department Papers. No. 25. The Royale Institute of International Affairs. L., 1941. P. 9 ff.: "Цель состоит в ассимиляции колониальных народов во французскую нацию или, в случае более примитивных сообществ, когда это невозможно, в "ассоциировании" их, так что постепенно различие между la France metropole и la France d'outremer станет географическим, а не сущностным".
[Закрыть] Частично это осуществилось, когда депутаты от цветных народов заняли места во французском парламенте, а Алжир был объявлен департаментом Франции.
Результатом этого смелого начинания была особенно жестокая эксплуатация заморских владений во имя нации. Вопреки всем теоретическим построениям, Французская империя на деле рассматривалась и оценивалась прежде всего с позиций национальной обороны,[283]283
См.: Hanotaux G. Le General Mangin // Revue des Deux Mondes. 1925. Vol. 27.
[Закрыть] и колонии стали землями солдат, производящими force noire для защиты жителей Франции от их национальных врагов. Произнесенная Пуанкаре в 1923 г. знаменитая фраза: «Франция насчитывает не сорок миллионов, у Франции – сто миллионов» – говорила просто об открытии «дешевого вида пушечного мяса, создаваемого методами массового производства».[284]284
Crazier W. P. France and her «Black Empire» // New Republic. 23. 01. 1924.
[Закрыть] Когда за столом мирных переговоров в 1918 г. Клемансо заявлял, что ничто не заботит его, кроме «неограниченного права вербовать черные войска для участия в защите французской территории в Европе, если Франция в будущем подвергнется нападению со стороны Германии»,[285]285
George D. L. Memoirs of the Peace Conference. New Haven, 1939. Vol. 1. P. 362 ff.
[Закрыть] он не избавил французскую нацию от немецкой агрессии, как это, к сожалению, известно нам теперь, хотя его план и был осуществлен Генеральным штабом; зато он нанес смертельный удар по тогда еще не до конца исключенной возможности существования Французской империи.[286]286
Подобная же попытка жестокой эксплуатации была предпринята Нидерландами в Голландской Индии после того, как поражение Наполеона вернуло колонии во владение сильно обнищавшей метрополии. Через систему принудительных сельскохозяйственных культур местные жители были превращены в рабов, трудящихся на голландское правительство. Появившаяся в 60-е годы прошлого века книга Мультатули «Макс Хавелаар» своим острием была направлена против правительства метрополии, а не против колониальных служб (см.: Kat Angelina A. D. A. de. Colonial policy. Vol. 2: The Dutch East Indies. Chicago, 1931. P. 45).
Система эта была быстро оставлена, и Голландская Индия на какое-то время стала "предметом восхищения для всех колонизирующих наций" (сэр Хэскет Белл, бывший губернатор Уганды, Северной Нигерии и т. д., см.: Bell Н. Foreign colonial administration in the Far East. 1928. Part 1). Голландские методы были во многом сходны с французскими: предоставление статуса европейца заслуженным лицам туземного происхождения, введение европейской системы образования и другие способы постепенной ассимиляции. Всем этим голландцы добились и такого же результата: сильного движения покоренного народа за свое национальное освобождение.
В настоящей работе голландский и бельгийский империализм оставлены за рамками рассмотрения. В первом случае имела место любопытная меняющаяся смесь французских и английских методов; второй случай – это история экспансии не бельгийской нации и даже не бельгийской буржуазии, а лично бельгийского короля, не контролируемого никаким правительством и не связанного ни с каким иным институтом. И голландская, и бельгийская разновидности империализма нетипичны. Нидерланды не продолжали экспансию в 80-е годы, но лишь консолидировали и модернизировали свои старые владения. А невиданные жестокости, совершенные в Бельгийском Конго, были бы слишком крайним примером того, что обычно происходило в колониальных владениях.
[Закрыть] В сравнении с этим слепым, отчаянным национализмом английские империалисты с их компомиссной мандатной системой выглядели покровителями самоопределения народов. И это несмотря на тот факт, что они сразу же начали злоупотреблять мандатной системой через «косвенное управление» – метод, который позволял администратору управлять народом «не непосредственно, а с помощью его собственных племенных и местных властей».[287]287
Barker Е. Op. cit. Р. 69.
[Закрыть]
Англичане старались преодолеть присущую строительству национальным государством империи непоследовательность, предоставив покоренные народы самим себе в том, что касается культуры, религии и законов сохраняя дистанцию и воздерживаясь от распространения английских законов и культуры. Это не остановило развития у народов национального самосознания и стремления к суверенитету и независимости хотя и несколько притормозило эти процессы. Но в результате необыкновенно усилилось и новое империалистическое сознание исходного данного, а не просто временного, превосходства одних людей над другими «высших рас» над «низшими». Что в свою очередь обостряло борьбу подвластных народов за свободу и мешало им увидеть и несомненные преимущества, принесенные британским управлением. Из-за самой отдаленности и отчужденности управляющих, которые, «несмотря на их искреннее уважение к туземцам как к нациям и в некоторых случаях даже любовь к ним… почти все до единого не верили в их способность теперь или когда-либо в будущем управлять своими делами без надзора»,[288]288
James S. South of the Congo. N.Y., 1943. P. 326.
[Закрыть] «туземцы» могли лишь заключить, что их навеки исключают из всего остального человечества.
Империализм не означает строительства империй, а экспансия не есть завоевание. Английские завоеватели, прежние «сокрушители закона в Индии» (Бёрк), имели мало общего с экспортерами английских капиталов или с администраторами, управлявшими индийскими народами. Если бы последние перешли от издания указов к созданию законов они возможно, и стали бы строителями империи. Однако дело как раз в том что английскую нацию это не интересовало, и она едва ли бы их поддержала. Обстоятельства были таковы, что за империалистически мыслящими бизнесменами следовали гражданские чиновники, которые хотели, чтобы «африканцы остались африканцами», причем немалое число из них – те, кто не изжили, как выразился однажды Гарольд Николсон, свои «юношеские идеалы»,[289]289
Относительно этих юношеских идеалов и их роли в британском империализме см. главу седьмую настоящего издания. О том, как они создавались и культивировались, см.: Kipling R. Stalky and Company. 1899.
[Закрыть] хотели помочь им «стать лучшими африканцами»,[290]290
Barker E. Op. cit. P. 150.
[Закрыть] что бы это ни означало. Ни в коем случае они не были «расположены внедрять административную и политическую систему своей страны для управления отсталым населением колоний»[291]291
Cromer Е. В. The government of subject races // Edinburg Review. January 1908.
[Закрыть] и включать широко раскинувшиеся владения британской короны в английскую нацию.
В противоположность подлинно имперским структурам, в которых институты метрополии самыми различными путями интегрируются в империю, для империализма характерна отделенность национальных институтов от колониальной администрации, хотя и при наличии известной доли контроля над ней. За этим отделением просматривается любопытная смесь высокомерия и уважения – вновь обретенного высокомерия колониальных администраторов, имевших дело с «отсталым населением» или «низшими расами», сочетающегося с уважительным отношением старомодных политиков метрополии, полагавших, что ни одна нация не имеет права навязывать свои законы другому народу. По самой сути этой ситуации высокомерие превратилось в средство управления, в то время как уважение, оставаясь просто позицией отрицания, не породило какого-то нового способа совместного проживания людей и сумело лишь слегка ограничить произвольное империалистическое правление посредством указов. Спасительной сдержанности национальных институтов и политиков мы обязаны тем, что неевропейские народы, в конце концов и несмотря ни на что, получили от западного господства хоть какую-то пользу. Колониальные же службы не прекращали протестов против вмешательства «неискушенного большинства» – нации, оказывавшего давление на «обладающее опытом меньшинство» – империалистических администраторов, – «чтобы склонить их к подражанию»,[292]292
Ibid.
[Закрыть] т. е. к управлению с соблюдением общепринятых в самой метрополии норм справедливости и свободы.








