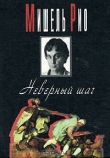Текст книги "Приключения Мишеля Гартмана. Часть 2"
Автор книги: Густав Эмар
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 33 страниц)
– Разумеется, к чему затевать дело, если не спасти женщин, детей и стариков? Все должны следовать за нами и разделить нашу участь.
– Ну, вот это я называю настоящей французской речью, которая приятна моему сердцу! Теперь мы потолкуем о направлении, какого должны держаться.
– Надо идти на Бельфор! – вскричал с живостью Мишель. – Мы должны приложить все усилия, чтобы достигнуть этого города.
– Тем более, – прибавил Отто, – что Бельфор защищается храбро и отражает все нападения давно обложивших его прусских войск. Геройство этого города разбивает в прах планы пруссаков. Полковник Данфер, комендант Бельфора, доблестный воин и преданный патриот; он умрет на своем посту, если так надо, но никогда не сдаст города, которого защита вверена ему.
– Признаться, – согласился Людвиг, – и я тоже думал о Бельфоре. Полковника Данфера я знаю, служил под его командой. Это настоящий военный, безжалостный и к себе, и к другим. С ним не шути, изволь идти прямою дорогой, но он справедлив и друг солдата. Одна беда – Бельфор далеко отсюда.
– Правда, – сказал Мишель, – однако все же это Эльзас.
– Так пусть будет по-вашему, командир, идем в Бельфор. Остается только решить мелкие подробности экспедиции.
– Вот настоящее дело! – весело вскричал Отто. – Мы не отступим, но отдалимся от боевой линии и проложим себе путь сквозь немецкие войска, чтоб опереться на укрепленный город. Меня даже в дрожь бросало, так разбирала досада от одного слова «отступление». Экспедиция – выражение самое верное.
– Мое мнение, – вмешался Мишель, – когда все согласны, что нельзя держаться долее в занимаемой нами позиции, то немедленно следует принять меры, чтобы произвести наше движение с полной безопасностью для женщин, детей и стариков, которых мы уведем с собою.
Людвиг встал с живостью.
– Господа и товарищи, – с жаром обратился он к членам совета, – мы поставлены в такие условия, что между нами необходима величайшая откровенность. Спасти нас могут только доверие и согласие действий. Мы не можем скрывать от себя, что успех смелого маневра, который мы попытаемся предпринять, невозможен, если все мы не будем воодушевлены одним и тем же чувством самоотвержения. Вспомните, каким правилом мы руководились с первого же дня наших действий.
– Все за одного и один за всех! – вскричали партизаны в один голос.
– И мы честно исполнили долг, возлагаемый на нас этим девизом, – с чувством продолжал Людвиг, – только один презренный негодяй, тем преступнее, что он не был в рядах сражающихся, и мы защищали его грудью от неприятеля, только один изменник оказался между нами. Он уже наказан, правда, но впредь не должно повторяться не только подобному факту, и неосторожного слова не может быть проронено, так как эта неосторожность была бы нашей смертью. Вследствие того я требую, чтобы исключительно на трех командирах лежала ответственность за все распоряжения в предстоящем нам трудном походе. Пусть они сами выберут себе двух-трех помощников. Решения их останутся тайными и приказания будут исполнены немедленно, не требуя от них объяснений. Подумайте, господа, что только это может спасти нас и наши семейства.
– Да, если не хранить тайны, ничего не сделаешь, – согласился Оборотень.
– Однако, – прибавил Мишель, – мы оставляем за собою право в исключительных случаях советоваться с нашими офицерами, чтобы воспользоваться их добрым советом.
– Господа, – сказал старый капитан, – от имени моих товарищей и моего собственного я одобряю все, что было предложено. Мы играем в страшную игру, где успех может быть доставлен только силою воли, быстрым исполнением и строгою дисциплиной.
– Мы знаем наших предводителей и на что они способны, – сказал другой. – Единственное средство выйти из западни, это предоставить им полную свободу действий.
– Да, да, надо предоставить им полную свободу действий! – вскричали остальные офицеры в один голос.
– Разве мы можем колебаться оказать нашим предводителям полное доверие? – заметил капитан Пинерман. – Мы сражаемся за наших жен и детей.
– Вы возлагаете на нас тяжелую ответственность, господа, – сказал Мишель, – но мы не отклонимся от цели, которою задались. Благодарим вас за доверие к нам, что бы ни случилось, мы сумеем исполнить наш долг. Еще последнее слово перед тем, чтобы разойтись: нельзя терять времени, надо действовать с чрезвычайною быстротой – это главное условие успеха. Пусть в каждой роте, в каждом взводе немедленно приступят к приготовлениям, дабы можно было двинуться в поход при первом сигнале. Вы сейчас получите приказание выступить. А теперь, дорогие товарищи, да поможет вам Бог! Да здравствуют Франция и республика!
– Да здравствуют Франция и республика!
С воодушевлением восторга вырвалось восклицание это из груди каждого, потом офицеры почтительно раскланялись с начальниками и вышли, остались, по данному им знаку, только Оборотень, Паризьен, Конрад и Герцог, бывший трактирщик в Прейе.
Графиня де Вальреаль также встала, чтобы уйти, но Мишель любезно попросил ее сесть опять.
– Вы нам нужны, графиня, – сказал он улыбаясь.
– Теперь за дело, господа! – вскричал Отто, потирая руки. – Не знаю отчего, мне так и сдается, что мы будем иметь успех.
– И я так думаю, командир, – вмешался Оборотень с обычным своим непроницаемым видом.
Тут началось тайное совещание, от которого, по всему вероятию, зависело общее спасение.
Прения длились долго, несколько часов кряду, но когда члены тайного совета наконец встали, их воинственные лица сияли надеждой.
ГЛАВА XXI
Во время отступления
Прошло несколько дней после событий, переданных в предыдущих главах. Война точно разгорелась с новой яростью, и все предвидели, одни с отчаянием, другие с затаенной радостью, что страшный переворот неминуем.
Словно в гибельную эпоху Восточной империи, борусы и тевтоны нахлынули на Францию как стая саранчи и, распространяясь по всем направлениям, грозили покрыть ее всю полчищами хищников, и жадных и жестоких.
Города и деревни горели, словно мрачные маяки, везде, где проходил неприятель, оставляя за собою кровавый след вперемежку с почернелыми развалинами. Наши войска, сформированные второпях из молодых людей, которых любовь к отчизне заставила покинуть опустошенный домашний очаг, но которые не привыкли к тяжелому ремеслу солдата, отступали, содрогаясь перед волнами завоевателей, приливавших все с большею силой, и ознаменовывали свое отступление достославными победами, бесплодными, однако, для успеха войны. Наша военная честь была спасена благодаря самоотвержению и неодолимой отваге наших новобранцев, но обаяние нашей военной славы исчезло, и окровавленная, истерзанная Франция клонилась все более и более к бездне, которая, по мнению Европы, себялюбивой зрительницы, завидовавшей нашим прежним победам, окончательно должна была поглотить даже национальность нашу, без всякой надежды или возможности для нас когда-либо подняться после такого ужасного падения.
Все наши старые враги, владетели, часто нами разбитые и униженные, которых первый Бонапарт презрительно заставлял ждать в передних собственных их дворцов, где властелином был он, радуясь случайной мести, на которую никогда не смели бы рассчитывать, присутствовали спокойные, улыбающиеся и насмешливые при ужасных наших поражениях, мысленно деля между собою наши истерзанные провинции, которыми думали скоро обогатиться.
Ужасное «конец Галлии» было на всех тонких губах чудовищных очковых змей, составляющих европейскую дипломатию.
Один народ не отчаивался – он верил в призвание свыше дорогой Франции, он знал, что великие гуманитарные завоевания, прогресс и свобода покупаются только кровавыми жертвоприношениями и что сила ничего не основывает. Подавленные числом, наши солдаты храбро подставляли грудь врагу и падали с улыбкой на губах при восторженных криках «Да здравствует республика!».
Полагали Францию совсем убитою, она же, напротив, возрождалась и менее чем через два года поднялась с колен, чтобы занять, к всеобщему удивлению ошеломленных врагов, свое место между европейскими нациями.
Но тогда мы этого еще не достигли, будущность была подернута кровавою завесой, полной бурь, борьба, клонившаяся к концу, продолжалась с неслыханным ожесточением, то и дело раздавался грозный гул пушек и люди валились, словно зрелые колосья, которые падают под серпом жнеца.
Ночь была темная; восемь часов било на дальней колокольне; ветер яростно бушевал в лесу и сталкивал обнаженные ветви; серые облака стремительно неслись по небу. Многочисленный отряд вольных стрелков разбил лагерь на одной из вершин Менхберга в Эльзасе.
Менхберг не самая высокая гора в Эльзасе, однако, быть может, одна из любопытнейших и живописнейших, вся покрытая густым сосновым и черешневым лесом и орошаемая множеством ручейков, стремящихся великолепными водопадами с крутых скатов. До войны она была усеяна деревушками и возделанными полями, которые утопали в чащах темной зелени. С вершины ее открывается чудный вид на богатую и плодоносную долину Святого Григория, посреди которой, почти у подошвы Менхберга, стоит кокетливый городок Мюнстер, построенный на берегу Фешта; потом далее вид простирается с одной стороны до Кольмара, отдаленного от нее всего на двадцать километров, а с другой на множество городов и деревень, прихотливо разбросанных чуть не до высокой, затерявшейся в облаках вершины Эльзасского Балона.
Но со времени прусского вторжения вид горы совершенно изменился, деревушки и поселки брошены были жителями, которые бежали, захватив с собой домашнюю утварь и уводя скот, как только подходил неприятель. Мрачное безмолвие водворилось вместо оживления, которым некогда дышала эта очаровательная местность.
Опустошенные дома, обвалившиеся крыши, разрушенные стены и сломанные изгороди; смерть заменила жизнь, мертвое молчание – веселые песни трудолюбивых жителей, дни которых протекали так мирно и покойно, пока не нагрянула война со всеми ее ужасами и не вынудила их бежать, чтоб найти какой-нибудь приют вдали от своих пепелищ, оскверненных иноземцами.
Декабрь был на исходе: около полутора суток шел сильный снег, однако часам к семи вечера в тот день, когда мы снова приступаем к нашему рассказу, погода прояснела, и стало морозить.
Вольные стрелки, о которых мы упоминали, достигли места привала часам к четырем, в самую сильную вьюгу.
Они удачно выбрали, где расположиться. Это была деревня, брошенная с самого начала войны. Несколько уцелевших домов представляли им достаточное ограждение от стужи, становившейся все сильнее на этих высотах, и снег, заваливший тропинки и дороги, служил ручательством, что их не захватят врасплох. Никто, кроме горца, не мог бы ступить шагу по этим снежным сугробам, а вьюга, продолжавшаяся еще несколько часов после прибытия вольных стрелков в деревню, замела их следы и не оставила никаких признаков их прохода по горным тропинкам.
С ними было несколько из тех странных эльзасских телег, что безопасно могут проезжать по всем дорогам, даже самым трудным. В этих телегах, с верхом из смоленого холста, помещались женщины и дети, которые немедленно приютились в домах, тогда как лошадей с телегами кой-как разместили под навесами на дворах и в полуразрушенных сараях. Расставили часовых, так чтобы они не страдали от холода и видны не были, и все вольные стрелки ушли в дома, окна и двери которых старательно заткнули толстыми шерстяными одеялами и досками, оказавшимися понемногу везде. Приняв эти первые меры осторожности, развели огонь в очагах и принялись готовить ужин.
Своеобразный бивак этот был так расположен, что шагах в ста никто не подозревал бы тут присутствия трехсот человек, мужчин, женщин и детей.
Часам к девяти вечера небо совсем очистилось от туч и замерцало мириадами бриллиантовых звезд на темно-голубом фоне. Луна, в конце первой четверти, плыла в эфире, проливая на белую от снега землю холодные белесоватые лучи, придававшие картине местности отпечаток оригинальный, почти фантастический.
В обширной зале первого этажа довольно красивого дома, бывшего некогда местопребыванием мэра, несколько мужчин и дам сидели вокруг громадного камина, у огня таких размеров, что быка бы изжарить можно. Все они казались сильно озабочены. Одни с видом печальным курили громадные глиняные трубки на длинном чубуке, другие, машинально устремив взор на пламя, глубоко задумались, некоторые еще как будто спали, в глубине залы на тщательно разложенных снопах соломы две-три женщины лежали закутанные в одеяла и погружены были в сон.
Карл Брюнер, Герцог, Шакал и Влюбчивый накрывали стол под наблюдением Паризьена.
Из козел и досок пять вольных стрелков ухитрились устроить обеденный стол посредине комнаты, поставили вокруг полуразбитые скамейки, отрытые в груде развалин, и утвердили их по мере возможности, потом явились каждый с огромною корзиной посуды в руках и расставили приборы так же тщательно, как для обеда офицеров в мирное время в городе, где стоят гарнизоном.
Паризьен зорко следил за всем и наблюдал, чтобы блюда и тарелки оказывались в безупречной симметрии. Освещение было настоящим чудом изобретательности. Влюбчивый и Шакал устроили из дощечек люстру, утвердили на ней свечи и повесили ее над столом ровно посредине.
Нельзя представить себе зрелища более живописного, как вид этого роскошного стола при развалинах и нищете вокруг.
Когда зажжены были свечи в люстре и Паризьен удостоверился внимательным осмотром, что все в надлежащем порядке, он сделал знак товарищам и те вышли в боковую дверь.
Но через несколько минут они вернулись, неся кушанья, которые с подобающим этикетом поставили на стол.
Тут Паризьен подошел к Мишелю, сидевшему у одного из углов камина, вытянулся перед ним и доложил:
– Кушанье подано, ваше высокоблагородие. Молодой человек встал и, обратившись к остальным лицам, которые подобно ему сидели у камина, пригласил их к столу.
При звуке его голоса все как будто проснулись, погасили трубки, поднялись со своих мест и направились к накрытому столу.
Обед начался печально и безмолвно; кроме одних, быть может, простых стрелков, все ели с видом грустным и озабоченным.
Когда же первый голод был утолен и стали уже выбирать куски повкуснее, а несколько рюмок хорошего вина оказали свое действие, господин Гартман сказал сыну:
– Отчего ты так озабочен со времени нашего прибытия сюда, друг мой? Уж не опасаешься ли ты чего?
Молодой человек провел рукою по лбу, как бы силясь прогнать докучливую мысль, налил себе немного вина медленно выпил и ответил, опустив на стол пустой стакан:
– Мы здесь в безопасности, батюшка, наша позиция недоступна, особенно при таком снеге и морозе; за нас я не боюсь нисколько.
– Так ты встревожен насчет других?
– Быть может, батюшка, – ответил молодой человек почти машинально и тотчас вслед за тем вскричал с движением нетерпения: – Да что же это Оборотень все не возвращается? Уж не случилось ли с ним несчастья, сохрани Боже!
Все мгновенно подняли голову и устремили на него вопросительный взгляд.
Тогда только молодой человек заметил, что неосторожно выдал свою тайную мысль; он прикусил губу, опустил голову и впал в прежнее безмолвие.
– В чем дело? – спросил шепотом старик Гартман у Отто фон Валькфельда. – Что происходит?
– Ничего, надеюсь, – ответил тот также шепотом, – дай-то Бог, чтобы мы скорее получили известие!
– Но о ком же?
– О наших товарищах, оставленных позади в снегах и, быть может, попавших в руки немцев, которые со вчерашнего дня гонятся за нашим арьергардом и перестреливаются с ним.
– О! Дай Господи, чтобы подобного не случилось! – вскричал Гартман с прискорбием.
– Я надеюсь, что они спаслись. Людвиг так же хитер, как храбр, и, верно, успел уйти, всего более нас тревожит судьба женщин и детей, которые были с ними.
Все перестали есть, невыразимая тоска сжала им сердце. Теперь ясно было, почему встревожен Мишель, ему сочувствовали.
Людвиг командовал арьергардом. Итак, на его обязанности лежало прикрывать отступление и собирать отставших, которые от холода и голода не в силах были следовать за товарищами. Кроме того, с ним было пять-шесть телег с женщинами и детьми, охранять которых выпало на его долю. По всему вероятию, когда пруссаки подступили к нему слишком близко, он увидел себя вынужденным бросить телеги на дорогах, непроезжих от снежных сугробов. Именно этого-то и опасался Мишель, зная по опыту – раз уже был подобный случай, – что несчастные люди, если попались неприятелю в руки, уже, наверное, умерщвлены; пруссаки поклялись не давать пощады ни вольным стрелкам, ни их ближним.
Такова была война дикарей, которую вели немцы в том самом краю, на который заявляли право собственности.
Наконец Мишель, не в состоянии выдерживать долеедушевной пытки, встал из-за стола и отрывисто сказалПаризьену:
– Подай мне и плащ и оружие.
– Куда вы? – спросил Отто.
– Разве вы не угадываете? – с горечью возразил он.
– Хорошо, так я пойду с вами.
– Это невозможно. А кто будет наблюдать за безопасностью остающихся здесь, если вы уйдете со мною, Отто?
– Правда, но вы не один уходите, я полагаю?
– Нет, я беру с собою свой отряд. Паризьен, вероятно, уже предупредил людей.
– Так идите, друг мой, – грустно сказал Отто, – и да хранит вас Господь!
Люсьен и Петрус встали в одно время с Мишелем и подошли к нему.
– Что тебе, Люсьен? – кротко и ласково спросил старший брат, как всегда говорил с младшим.
– Я хочу идти с тобой, брат, – ответил Люсьен. – Петрус и я, мы принадлежим к отряду альтенгеймских вольных стрелков, в минуту опасности наше место посреди них.
Мишель было сделал рукой движение.
– Ты не должен отказывать нам в этом! – с живостью вскричал молодой человек. – Если случатся раненые, кто окажет им пособие, когда нас там не будет?
– К тому же, – прибавил Петрус своим мрачным и глухим голосом, – поручение к вам теперь исполнено, командир, и вы не можете мешать нам возвратиться к нашему посту.
– Вы правы. Пойдемте же, я не хочу и не могу препятствовать вам исполнять свой долг.
Вошел Паризьен.
– Товарищи готовы? – спросил его Мишель, между тем как вооружался и накидывал на плечи шинель.
– Они стоят на улице, командир.
– Так не надо заставлять их ждать. Каждая лишняя минута, которая проходит, может быть, ознаменована непоправимым несчастьем.
Он обратился к остальным лицам, которые стояли вокруг стола, пораженные унынием.
– Не опасайтесь за меня, мы скоро опять увидимся. И он вышел в сопровождении Отто, который хотел проводить до площади Люсьена, Петруса и Паризьена.
Стрелки ждали его, выстроившись в одну шеренгу, с ружьями на плече.
– Отто, я доверяю вам все, что мне дорого на земле, – тихо сказал Мишель, пожимая руку друга.
– Будьте покойны, я бдительно стану стеречь, – успокоил тот, отвечая на пожатие руки, – до свидания!
– Кто знает, вернусь ли я? – пробормотал Мишель так тихо, что приятель не расслышал его слов, и, утвердив голос, он скомандовал: – Марш!
Небольшой отряд, во главе которого стал Мишель, удалился беглым шагом и вскоре скрылся во мраке.
Мишель Гартман питал горячую дружбу к Людвигу, бывшему подмастерью на фабрике его отца, этому отставному унтер-офицеру зуавов, на коленях которого он прыгал ребенком, и благородство которого ценил, как и качества, великие в своей простоте, вообще отличающие во Франции настоящего работника, честного и деятельного труженика. Когда арьергард схватился не на шутку с немецкими войсками и в то же время снег повалил еще сильнее, грозя разделить партизан на две части, которым трудно будет соединиться опять среди мрака и по запутанным горным тропинкам, Мишель, ни под каким видом не соглашаясь бросить своего старого друга без помощи, взял лучших шестьдесят человек из отряда Отто фон Валькфельда, отдал их под команду Оборотня, которого тонкий ум и отвага, в особенности же искусство ориентироваться среди непроницаемой мглы ему были известны, и послал эти шестьдесят человек храбрецов к Людвигу с предписанием во что бы ни стало выручить отряд альтенгеймских стрелков и привести их в деревню, где он рассчитывал остановиться на ночь.
Это произошло в половине четвертого, когда начинало смеркаться и вьюга свирепствовала.
Оборотень ушел на помощь товарищам с вверенными ему людьми, и Мишель видел, как они, подобно лавине, скатились с крутого склона горы; вслед за тем они скрылись из глаз и с той минуты о них не было ни слуху, ни Духу.
Что произошло? Примкнул ли Оборотень к отряду Людвига? Или он также сбился с пути в снежном хаосе? Может быть, он погиб с людьми, которых вел, тщетно пытаясь соединиться с теми, к кому спешил на выручку?
На все эти вопросы, которые Мишель сам задавал себе, он не находил ответа, и неизвестность повергала его в крайнее беспокойство.
Оно еще усилилось, когда, достигнув часов в шесть лагеря, где должен был остановиться на ночь, он увидал Люсьена и сержанта Петруса.
Молодые люди были посланы к нему Людвигом требовать подкрепления. Отправившись в ту минуту, когда схватка была самая жаркая, Людвиг чувствовал, что его вольные стрелки колеблются, Люсьен и Петрус совершили чудеса искусства и отваги, взбираясь на гору, чтоб догнать Мишеля, которому они немедленно донесли о положении, в котором находился арьергард. Они не встретили ни Оборотня, ни его отряда и даже на дороге не видали следов их прохода.
Это известие было тем ужаснее, что оказывалось невозможно отправить тотчас новое подкрепление, следовало ждать, пока снег настолько отвердеет, чтобы можно было идти по нему без опасения увязнуть по горло, не то, пожалуй, скатиться с обрыва или провалиться в бездну. Мишель пришел в отчаяние. Очевидно, случилось несчастье, но спрашивалось, в какой мере оно было велико и как помочь ему? Относительно этого он мог оставаться в неведении еще много долгих часов.
Мы видели, как Мишель, не в состоянии долее сдерживать своего беспокойства и противиться чувствам, волновавшим его, решился во что бы то ни стало положить конец неизвестности и пойти самому на поиски товарищей.
То, что предпринимал Мишель, было исполнено трудностей. Несмотря на светлую ночь, оказывалось крайне затруднительно направляться по обширной снежной равнине, под которою исчезли все дороги и тропинки, не оставив ни малейшей возможности ориентироваться.
По счастью, его отряд состоял из тщательно выбранных Оборотнем горцев, контрабандистов и браконьеров, людей, привыкших постоянно жить в лесах и во всякую погоду ходить по самым диким местностям, а потому и приобретающих такую чуткость чувств, что свойство это походит на чутье и верный инстинкт породистой ищейки и делает их способными без всяких дорог безошибочно напрямик направляться к цели, назначенной заранее через громадные пространства.
Сознавая, что не может вести свой маленький отряд с уверенностью, Мишель приказал остановиться и держал нечто вроде военного совета под открытым небом, чтоб придумать средство заменить сведения, которых ему недоставало.
Влюбчивый и Шакал тотчас же вызвались служить товарищам проводниками, утверждая, что ничего нет легче, как отыскать отряд альтенгеймских вольных стрелков, где бы он ни находился.
– Однако, если это так просто, как вы уверяете, – возразил Мишель, – отчего же Оборотень еще не возвратился? Ведь он также знает, как направляться.
– Разумеется, командир, и лучше кого-либо из нас, – ответил Влюбчивый, – его, очевидно, удерживает что-то неизвестное нам, иначе он вернулся бы давным-давно.
– Итак, вы считаете себя в состоянии свести нас, куда мы хотим пройти?
– Вполне, командир, что вам кажется трудно, пустое для людей, привыкших всю жизнь проводить под открытым небом.
– В таком случае я полагаюсь на вас, вы люди честные и желаете не менее меня отыскать наших несчастных товарищей.
– Вы можете довериться нам, командир.
При этом уверении Мишель кивнул головой, предоставляя им распоряжаться по своему усмотрению.
Сначала Влюбчивый и Шакал всмотрелись в расположение звезд, потом в стволы деревьев вокруг и, наконец, в цвет льда. Кончив эти наблюдения и тихо обменявшись несколькими словами, они стали во главе отряда, и пошли быстрым шагом, взяв немного правее.
– Прежде всего, – сказал Мишель, шедший рядом с Влюбчивым, – надо бы отыскать ручей, вдоль которого мы шли довольно долго и через который перебирались несколько раз, но теперь его, должно быть, не видно под снегом.
– Это вероятно, командир, – ответил Влюбчивый, – но все равно. Как скоро мы отыщем прогалину, где привал делали, если вы припомните, чтобы обождать самую сильную вьюгу, мы непременно нападем и на ручей, ведь он в пятидесяти шагах от нее, не более.
– Правда, – согласился Мишель, качая головой, – но спрашивается, найдем ли мы прогалину-то?
– Велика хитрость! Мы скоро там будем. Вот, слышите крик совы? Это Шакал дает знать, что есть что-то новое.
Они ускорили шаги и вскоре догнали Шакала. Тот стоял у дерева, притаившись за громадным его стволом.
– Что тут такое? – спросил Мишель.
– То, что мы достигли прогалины! – весело вскричал Влюбчивый. – Поглядите-ка между деревьев в ту сторону.
– И в самом деле, – сказал Мишель, – но зачем же было останавливаться Шакалу?
– Тсс! – остановил тот. – Говорите тише, я слышу звуки, которых не могу понять; лучше скрываться здесь, чем идти вперед, не зная, с кем имеешь дело.
– Гм! – отозвался Мишель после того, как внимательно прислушивался несколько мгновений. – Я ничего не слышу.
– Вы не привыкли к лесу, командир, – возразил с улыбкой Шакал.
– Звуки едва уловимы и несутся издалека, – прибавил Влюбчивый. – Заметьте, командир, что воздух не шелохнется и замечательно чист; вы лучше нас знаете, что снег тело упругое, наделенное свойством далеко переносить звуки, которые точно отскакивают от него и прыжками несутся на большое пространство. Тот шум, который мы слышим, вскоре различите и вы, потому что он приближается довольно быстро, хотя нельзя еще при таком отдалении определить причину его. Одно можно сказать с уверенностью, это – что создают его люди, как, например, если б шел многочисленный отряд. Что вы решите, командир?
– Когда вы так уверены в своих словах, – шутливо возразил Мишель, – то мне остается только исполнять предписанное вами, и мы на первый случай притаимся здесь, а Шакал между тем пойдет на разведку.
– Слушаю, командир. Если я три раза крикнупо-совиному с равными промежутками, смело идите вперед;если один раз, то не худо пуститься наутек.
– Это решено, Шакал, с Богом!
Старый солдат не заставил повторять приказания, как змея юркнул сквозь ветви и несколько минут еще силуэт его обрисовывался на снегу, после чего исчез окончательно.
А тем временем быстро усиливался шум. Теперь стало очевидно, что многочисленный отряд идет к самому тому пункту, где стоят они.
Предписав величайшую бдительность, Мишель в тревожном состоянии духа ожидал исхода рекогносцировки Шакала.
Вдруг шум замолк, и водворилась тишина.
Она продолжалась несколько минут, когда раздался совиный крик, повторенный несколько раз.
– Это друзья! – вскричал Влюбчивый.
– Наши друзья, хотите вы сказать, – возразил Мишель и тотчас вышел навстречу к идущим, которые снова уже двинулись в путь.
Почти одновременно показались Оборотень и Кердрель, они шли быстрым шагом впереди многочисленного отряда, который длинной темной чертой, как громадная змея, извивался между деревьями.
По знаку Мишеля остановились на прогалине. Альтенгеймские вольные стрелки вовсе, по-видимому, не пострадали: с ними не только были все телеги, которые им поручили прикрывать, но еще вдвое больше, а сверх того они завладели четырьмя маленькими горными орудиями, вместе с ящиками их и упряжью.
После первых приветствий Мишель стал расспрашивать Людвига, горя нетерпением узнать, что случилось. Но со свойственными этому честному человеку откровенностью и благородством, которые составляли отличительные черты его характера и заставляли всех любить его, он весело обратился к Ивону Кердрелю и Оборотню, говоря:
– Вам, господа, следует рапортовать командиру, без вас мы погибли бы все, и мой отряд, и бедняги, которым мы служим конвоем.
– Что вы говорите, любезный Людвиг? – спросил Мишель с горячим участием.
– Говорю то, командир, – продолжал он, – что все мы обязаны свободою и жизнью вашими двум друзьям. Долг этот мы постараемся уплатить рано или поздно.
– Но что же, наконец, произошло?
– О! Дело самое простое, – вмешался Оборотень улыбаясь, – командир Людвиг преувеличивает то немногое, что мы исполнили и сам остается в тени, чтобы предоставить нам всю славу сражения, в сущности принадлежащую одному ему.
– Ну, уж это чересчур! – вскричал Людвиг. – Вы мне нравитесь, Оборотень, с вашим простым тоном. Лучше я сам расскажу вам все, командир, – обратился он к Мишелю.
– И я того мнения, любезный Людвиг, – ответил молодой человек с улыбкой.
– Сегодня на рассвете, мы только что выступили, когда на нас внезапно напали пруссаки. Мы не думали, что они близко, да и ринулись они на нас с таким ожесточением, что, признаться, в первую минуту я совсем потерял голову. Женщины плакали, дети кричали, сумятица была страшная, и я не знал, что делать. Предоставив мне выпутываться как могу, господин Кердрель стал во главе шестидесяти смельчаков, сказав мне, чтобы я держался в позиции во что бы ни стало, сделал обход влево, бросился в лес и, обогнув неприятеля, устремился на него с неслыханной яростью. Со своей стороны и я водворил некоторый порядок, стал за срубленные деревья, которыми окружен был стан, и смело встретил врага. Четыре раза немцы кидались на нас с ревом демонов и все-таки выбить с позиции не могли. Понятно, мы сражались за жен наших и детей, было, отчего воодушевиться отвагой. В эту минуту я отправил к вам господина Люсьена и сержанта Петруса.
– Меня предупредили о приближении немцев, и я послал к вам Оборотня с сильным отрядом.
– Я вскоре убедился в этом, командир, но в ту минуту ничего еще не знал.
– Правда, продолжайте.
– Сакраблё! Командир, дело было жаркое. Разбойники-пруссаки бились словно черти. Едва оттесненные, они опять лезли на приступ с прежним пылом и точно, будто росли числом вокруг нас. Несколько раз схватывались мы врукопашную, но позиция наша, по счастью, была сильная, да и мы поклялись лечь тут костьми. Особенно жарко приходилось нам от горных орудий, которыми то и дело палили в нас. Просто хоть удирать впору.
– Гм! Это понятно.
– Впрочем, не столько снаряды наносили нам вред – мы были ограждены поваленными деревьями, за которыми укрывались, и выстрелы, почти не касаясь нас, производили более суматохи, чем опустошения, разрываясь во все стороны и ломая ветви, – крики этих чертей и страшные их лица до того испугали женщин и детей, что они как безумные ежеминутно кидались к нам, путались в ногах и мешали сражаться. И то надо сказать, что рыдания и страх этих дорогих нам существ, за жизнь которых мы дрожали, все вместе вязало нам руки и лишало бодрости. Наконец, дело дошло до того, что я предвидел скорый конец борьбе. Отчаиваясь в возможности продолжать бой, я уже готов был дать какое-то приказание труса, когда мне показалось, что неприятель колеблется и в рядах его произошло смятение. Я стал вслушиваться с напряженным вниманием, и мне показалось, будто раздаются дружные выстрелы знакомых мне шаспо. На пруссаков нападали и с тыла, и с флангов. Я знал, что господин Кердрель с яростью атакует их с левого фланга, но меня совсем сбивало с толку, что теперь уже несколько минут шаспо пели свою песенку на правом фланге.