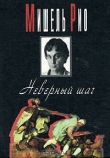Текст книги "Приключения Мишеля Гартмана. Часть 2"
Автор книги: Густав Эмар
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 33 страниц)
– Так есть надежда? – вскричал Мишель с радостью.
– Есть ли надежда? Еще бы ей не быть!
– Она спасена?
– Как нельзя вернее, любезный друг.
– Слава Богу! – сказал он с чувством. – Теперь, определив этот первый пункт, мы можем объясниться.
– Очень охотно.
– Скажите мне положительно, в каком состоянии она находится?
– В наилучшем, какое можно вообразить; завтра она будет танцевать гавот, если пожелает.
– Не шутите же, друг мой.
– В жизнь не говаривал серьезнее.
– Так рана ее?
– Булавочный укол и ничего более.
– Не понимаю.
– Однако дело ясно. Сапристи! Какой мерзкий табак курят дураки немцы, просто жалость, честное слово!
– Петрус, я как на угольях.
– Как святой Лаврентий или Гватимозен, знаю. Дело в том, что негодный Жейер, по счастью, имел охотничье ружье.
– Вы думаете?
– Когда же я вам говорю!
– Правда, дальше что?
– Он стрелял слишком издалека, и рука его дрожала. Пуля, неверно направленная и утратив большую часть силы, сделала одну легкую царапину под левою грудью, выше сердца, она не углубилась, а скользнула по поверхности тела, из чего следует, что ничтожная царапина только причинила потерю крови, следовательно, обморок и все такое. Более нет ничего, разве волнение, испуг и мало ли что могло способствовать обмороку.
– Ах, какое бремя вы у меня сняли с души!
– А, говоря по правде, она спаслась чудом: несколькими линиями ниже, и она была бы убита.
– Как?
– Да пуля попала бы прямо в сердце и положила ее на месте.
– Слава Богу, что этого не случилось!
– Аминь от всего сердца, любезный Мишель, это прелестная женщина.
– Какова она теперь?
– Очень хорошо чувствует себя, я успокоил ее насчет последствий; она хотела тотчас ехать, но я не допустил.
– И хорошо сделали, мне надо проститься с нею. Баронесса, еще бледная и трепещущая, показалась в эту минуту у отверстия дупла, опираясь о плечо Лилии.
– Простите мне беспокойство, которое я вам причинила, – с улыбкой обратилась она к Мишелю, – теперь все прошло, я чувствую себя совершенно бодрою. Ваш доктор, добрый господин Петрус, наделал чудес: он меня вылечил не только от раны, которая ничтожна, но и от страха, который она было нагнала. Я уезжаю, Бог весть, увидимся ли мы когда-нибудь, господа, но что бы ни случилось, воспоминание о вас всегда мне будет дорого, я навсегда сохраню его в моем сердце. Не теряйте драгоценного времени, пожалуй, в эту ночь уже совершилось несчастье, спешите, не теряя более ни минуты, куда влечет вас сердце и призывает долг. Прощайте, господа!
– Мы не оставим вас таким образом, баронесса.
– Не занимайтесь мной, мне опасаться нечего, через несколько часов я буду ограждена от всякого нападения, пожалуйста, не думайте обо мне и спешите к тем, кто теперь, быть может, с отчаянием призывают вас на помощь.
– Боже мой! Я все забыл, – вскричал Мишель, – мать моя, сестра!
– И невеста, – прибавила она с грустною улыбкою, – кто знает, что она выносит в это самое мгновение? Спешите, спешите, ради Бога!..
Она посмотрела на них с минуту, еще раз махнула рукой на прощание и ушла медленными шагами.
Вскоре она скрылась в кустарнике и вслед за тем раздался стук кареты, удалявшейся во весь опор.
Мишель и Петрус стояли неподвижно, все еще устремив взор на место, где исчезло пленительное видение.
Мишель вздохнул.
– Она уехала, – пробормотал он.
– Да хранит ее Бог! – сказал Петрус. – И мы не худо сделаем, если последуем ее примеру, – здесь нам делать нечего, а долг призывает нас в другое место.
– Пойдемте, – вскричал Мишель голосом, дрожащим от глубины чувств, – мы и то уж запоздали.
Прогалина, где произошли переданные нами роковые события, опустела мгновенно.
Вольные стрелки вернулись в шалаш.
ГЛАВА XXIX
В Севене
Страшная суматоха царствовала в вогезской сыроварне.
В мгновение ока это мирное жилище приняло совсем иной вид.
Пока Отто фон Валькфельд нес так же легко, как ребенка, на своих мощных руках бесчувственную Анну Сивере в ее комнату и сдавал ее на попечение верной Елены, большая часть вольных стрелков, с Ивоном Кердрелем и Гартманом во главе, в сопровождении слуг и волонтеров, которые несли зажженные факелы, бросились из дома и тщательно обыскивали все окрестности сыроварни.
Снег перестал, морозило сильнее, безоблачное темно-голубое небо сверкало блестящими звездами.
Позади дома виднелось множество следов: в некоторых местах снег был совсем затоптан, на опушке леса, метров на десять в глубь чащи, виднелись у развалившейся хижины дровосека следы около пятнадцати лошадей, которые, по-видимому, тут стояли привязанные часа два.
На этом месте, где снег едва покрывал землю, в грязи осталось множество следов ног – они шли кучкой на расстоянии ста или полутораста метров, потом разделялись веером по трем разным направлениям и, наконец, терялись окончательно в глубоких оврагах.
С постов, распределенных накануне по окрестностям для наблюдения и охранения всего отряда, ничего не видали и не слыхали.
Похищение совершено было с удивительным искусством и людьми, знакомыми до мелочей с местностью, где должны были действовать.
Всю ночь длились поиски с неутомимым усердием, однако ни к чему не привели.
Вольные стрелки, посланные на разведки по разным направлениям, вернулись один за другим, падая от усталости, но, не открыв ни единого признака, который мог бы повести к чему-нибудь положительному.
Гартман и Кердрель были в отчаянии.
Убедились только в одном – двери, должно быть, отворил неприятелю изменник, иначе похищение не совершилось бы с таким успехом. Но кто был он? Как уличить его? Вероятнее всего, что он бежал с похитителями.
Приступили к перекличке.
Два вольных стрелка не отозвались – эти два отсутствующие недавно поступили в отряд и вели себя примерно.
Что заключить? Виновны они или с ними случилось несчастье во время поисков ночью?
Часам к восьми утра, страшно изуродованный труп одного из двух исчезнувших стрелков нашли на дне оврага и принесли в сыроварню. Разве не мог другой отсутствующий быть жертвою такого же несчастного случая?
Словом, непроницаемый мрак облекал это мрачное событие.
А между тем надо было действовать быстро. Рассуждали без конца, а не приходили ни к какому выводу, вдруг увидали человека, который с ребенком и громадною черною собакою направлялся к сыроварне.
Это появление вызвало единодушный крик радости.
– Оборотень! Оборотень! – вскричали вольные стрелки.
Действительно, достойный контрабандист, присланный Мишелем, подходил к дому, не подозревая о несчастье, которое случилось ночью.
Оборотень вовсе не ожидал такого восторженного приема, при скромности своей он сильно был озадачен, и в самом деле, никогда его возвращение, после отсутствия более или менее продолжительного, не производило такого эффекта.
Он хотел уже осведомиться о причине, но ему не дали времени.
Гартман, Ивон и Отто завладели им, увлекли в комнату, где заперли за собою дверь, и голосом, который дрогнул не раз, Ивон рассказал без дальних околичностей события предыдущей ночи до мельчайших подробностей.
С грустным вниманием слушал контрабандист, не прерывая ни одним словом, печальный рассказ молодого человека, в голосе которого звучало отчаяние, трогающее сердце.
Когда же он кончил, Оборотень проворчал, качая головой и как бы рассуждая сам с собою:
– Вот несчастье-то! Что скажет командир Мишель?
– Увы! – вскричал Гартман. – Он будет в таком же отчаянии, как и мы все.
– С ума можно сойти! – пробормотал Ивон. Контрабандист гордо поднял голову, взор его сверкнул молнией.
– Нет, – сказал он, – не время теперь предаваться горю, надо открыть виновных и отплатить им по заслугам, надо доказать этим врагам без совести и чести, нападающим на женщин, что не такого мы закала люди, которых оскорблять можно безнаказанно. Что вы делали после похищения?
– Всю ночь провели в бесплодных поисках. – Насмешливая улыбка мелькнула на губах контрабандиста.
– Вы горожане, – сказал он, – вы ничего не смыслите в лесах и пустыне. Я найду.
– К несчастью, поиски займут много времени и, пожалуй, все-таки ни к чему не поведут, – сказал Гартман со вздохом, похожим на рыдание.
Оборотень слегка прищурил один глаз, и лицо его приняло выражение самое плутовское.
– Я прошу у вас два часа, – сказал он, – разве это много?
– Конечно, нет, – с живостью ответил Отто. – И в два часа?..
– Я все буду знать, – объявил Оборотень ясно и отчетливо.
– Да ведь это невозможно! – вскричал Ивон. – Повторяю вам, что мы производили самые тщательные поиски и ничего не открыли.
– Это не удивляет меня. Я открою все, ручаюсь вам,хоть бы они зарылись в землю, как кроты.
– Дай-то Бог! – пробормотал Гартман в унынии.
– Когда вы приметесь за поиски? – спросил Ивон.
– Сейчас же, – ответил он.
С этими словами он отпер дверь и крикнул:
– Эй! Мальчуган!
Ребенок прибежал почти мгновенно, говоря:
– Я тут батюшка.
– Не следует ничего забывать, – сказал Оборотень скорее про себя, чем присутствующим.
Тут он обратился к ребенку, стоявшему неподвижно на пороге.
– Мальчуган, ступай-ка ты назад в шалаш, откуда мы пришли, знаешь?
– Знаю, батюшка.
– Слышал от товарищей, что тут было ночью?
– Слышал, батюшка.
– Все передай командиру и скажи, что его ждут здесь с остальными, чтобы он спешил. Понял, мальчуган?
– Понял, батюшка.
– Повтори-ка для примера.
Мальчик повторил без малейшей ошибки инструкции, данные ему отцом.
– Хорошо, ты умник, смотри же духом беги, не зазевайся дорогой.
– Не беспокойтесь, батюшка.
Он поклонился, взявшись за клок волос, шаркнул ногой и убежал.
– Том, сюда, старикашка! – крикнул Оборотень. Собака примчалась на середину комнаты.
– Останься со мною, старикашка, у нас с тобою дело есть, – сказал он, похлопав собаку по спине.
Та устремила свои красные глаза на хозяина и помахала хвостом.
– Можете вы свести меня в комнату, которую занимали дамы? – спросил контрабандист. – Мне надо взглянуть на нее.
– Пойдемте, – ответил Отто.
Они вышли и вскоре были в большой комнате, где стояли четыре кровати, отделенные ширмами.
– Здесь, – сказал Отто.
– Останьтесь за дверью, но пусть она будет отворена, – продолжал контрабандист.
И, позвав собаку, он вошел с нею в комнату.
Постели были разрыты, крышки чемоданов откинуты, словом, все в величайшем беспорядке.
Оборотень, от которого не отходила собака, тщательно осмотрел комнату, порой останавливаясь, чтобы дать Тому понюхать платье, шаль или носовой платок.
Перчатку Ланий, брошенную на столе, он неоднократно заставлял Тома нюхать, и каждый раз после того собака помахает хвостом, тихо тявкнет и посмотрит на хозяина умными глазами.
Наконец после добрых двадцати минут, что он проделывал все эти штуки, Оборотень опять дал Тому понюхать перчатку и сказал:
– Шерш!
Собака уткнула нос в пол и обошла раза два комнату; вдруг она остановилась у одного из окон, помахала хвостом и тихо залаяла.
– Э! – вскричал Оборотень. – Окно-то приперто только, посмотрите.
– Это правда, – прошептали трое мужчин, последовавших за ним по его приглашению.
– Вот каким путем совершилось похищение.
– Вы полагаете? – вскричал Гартман.
– Сами видите, Том почуял, уж куда тонко у него чутье. Теперь мы напали на след, и, ручаюсь вам, доберемся до конца его, следите внимательно за тем, что произойдет.
Собака одним прыжком махнула в окно, Оборотень последовал за нею, но осторожнее: окно было в семи футах от земли.
Под ним земля была затоптана на довольно большое пространство.
Оборотень нагнулся и поднял из грязи тонкую золотую цепочку с крошечным крестиком, тоже золотым.
– Поглядите-ка, – сказал он.
– Это моей бедной Ланий, – вскричал Гартман, с рыданием целуя дорогие ему предметы.
– Как видите, я не ошибаюсь, – продолжал контрабандист, – едва я успел приняться за поиски, как уже напал на открытие.
Трое мужчин обошли двор вокруг и машинально смотрели на затоптанную ногами грязь.
Собака стояла неподвижно, глядя на хозяина с тем почти человеческим выражением, которое Господь вложил в глаза некоторых благороднейших видов собачьей породы.
– Ведь вы вернете мне дочь, друг мой? – с мольбою в голосе сказал Гартман.
– Мы с Томом сделаем что можем, сударь, – ответил контрабандист с свойственным ему непроницаемым выражением.
Потом он снова показал Тому перчатку, говоря:
– Пошел, торопись!
Собака повиляла хвостом и тотчас опять принялась искать.
Она прямо направилась к разрушенной хижине, где остались следы привязанных лошадей.
– Мы уже были здесь ночью, – заметил Отто.
– Немудрено, – возразил Оборотень с своим насмешливым видом.
– Правда, – согласился молодой человек, – следы довольно видны.
Том обогнул хижину, вошел внутрь ее и отправился далее, все, не теряя следа.
Гартман, Ивон и Отто, сильно заинтересованные странными проделками Тома и его хозяина, также пошли за ними.
Вольные стрелки, стоя кучкой у дома, смотрели издали.
– Предупреждаю вас, – сказал Отто, – что следы расходятся в нескольких шагах отсюда.
– Это старая штука и ввести может в обман разве только горожанина, а такого умного пса, как Том, этим не обманешь, вот увидите.
Достигнув места, где следы разделялись на три тропинки, образуя некоторое подобие гусиной лапы, собака, не останавливаясь, прямо свернула на следы влево.
– Мы попали на настоящий след, – лаконически объявил контрабандист, – теперь нечего бояться потерять его.
Трое мужчин все следовали за ним. Шагах в трех – или четырехстах далее собака вдруг остановилась, обнаруживая беспокойство, шерсть ее поднялась, она завыла так жалобно, что все содрогнулись и кровь застыла в их жилах, юркнула в кусты и мгновенно скрылась.
Через минуту она невдалеке испустила вой еще жалобнее первого.
– Что это значит? – спросил Гартман.
– Собака нашла что-нибудь, вероятно труп.
– Труп! – вскричали все в один голос.
– Надо пойти посмотреть, – решительно сказал Ивон Кердрель.
– Я только что хотел предложить, – подхватил Отто.
– Пойдемте, – сказал контрабандист, один вооруженный ружьем, которое поставил на второй взвод.
Все четверо вошли в кустарник. Они не сделали десяти шагов, как увидали Тома, сидящего на задних лапах возле мертвого тела, наполовину засыпанного снегом, что служило доказательством, что смерть последовала среди ночи.
Увидав подходящих мужчин, собака, не сходя с места, завыла в третий раз.
Они приблизились. Ивон и Отто с первого взгляда узнали исчезнувшего вольного стрелка, которого нигде отыскать не могли.
Оборотень наклонился к телу и несколько минут пристально рассматривал его.
– Человек этот был зарезан, – сказал он, наконец, подняв голову.
– Зарезан? – повторили с содроганием другие.
– Посмотрите-ка, шаспо его ведь не разряжено.
– Правда, – согласился Отто.
– Револьверы его, засунутые за пояс, тоже заряжены.
– Что же это все значит? – спросил Гартман.
– Суньте руку в карман штанов этого человека, и все объяснится, – ответил контрабандист.
Гартман отступил в ужасе.
– Вы не хотите? Постойте.
Оборотень сунул руку в карман и вывернул его – штук двадцать золотых монет, флоринов и фридрихсдоров, выкатилось на землю.
– Понимаете теперь? – спросил контрабандист.
– Почти, – сказал Отто.
– Ровно ничего, – возразил Ивон.
– Этот человек был изменник, – прошептал Гартман.
– Именно, – сказал Оборотень.
– О! Не обвиняйте, не будучи уверены, – остановил Ивон.
– Уверенность вы скоро сами получите. Вот что произошло. Этот человек доставил немцам необходимые сведения, чтобы пробраться в сыроварню, а так как похищение совершено через окно, то, разумеется, он же впустил в дом людей, которым оно было поручено. После похищения, когда вы занимались тщетными поисками, человек этот прямо прибежал сюда. Здесь ожидал другой кто-то, уплатил, вероятно, условленную за измену сумму и потом потребовал, чтобы вольный стрелок с ним ушел, когда же тот отказался, сделал вид, будто довольствуется его доводами, расстался с ним вот там, где снег утоптан, как видите. Вольный стрелок не остерегался и шел торопливо, чтобы успеть вернуться, прежде чем заметят его отсутствие. Немец, напротив, сделал сначала несколько шагов в противоположную сторону. Вдруг он повернулся на каблуках – видите, след их и теперь ясно еще выделяется – и после секунды нерешимости одним прыжком бросился на вольного стрелка, схватил его за ворот, потянул назад и перерезал ему горло длинным охотничьим ножом.
– Мнимый Дессау всегда носил при себе охотничий нож, – вставил Отто в виде пояснения.
Оборотень продолжал, как будто не слышал этих слов:
– Бедняга упал мертвый на месте, не вскрикнув даже, убийца наклонился над ним, пожалуй, с намерением отнять деньги, которые ему отдал, но что бы ни было у него на уме, исполнить этого он не успел. Видите, в каком беспорядке одежда несчастной жертвы, должно быть, внезапный шум помешал убийце – пожалуй, дикое животное промчалось в испуге, – он торопливо поднялся и бросился к месту, где привязал лошадь, вскочил в седло и ускакал во весь опор, вот что. Теперь надо похоронить этого беднягу, он и то дорого поплатился за свою вину.
– Не заботьтесь об этом, Оборотень, это наше дело, – сказал Отто.
– Разумеется, – прибавил Гартман, – а вы, друг мой, не прерывайте поисков ваших.
– Вы правы, господа, я и так много потерял здесь времени.
Он свистнул собаке, которая пошла за ним, понуря голову и поджав хвост, и вернулся на дорогу с видом грустным.
Другие следовали за ним молча.
Достигнув опушки леса, контрабандист указал рукою на дерево, у подножия которого снег был затоптан и на стволе, футах в четырех от земли, видны были следы от трения веревки или повода.
– Вот где привязана была лошадь, – сказал он. И пошел далее.
Прошло несколько минут. Собака опять стала искать следы по знаку хозяина, вдруг она остановилась, как будто понюхала воздух и громадным скачком скрылась в кустарнике.
– Что-то есть новое, – заметил Отто.
– Есть, – коротко ответил контрабандист.
– Поспешим.
– Не к чему, вот и Том.
В самом деле, он только скрылся на мгновение и появился опять.
Он бежал к хозяину, неся что-то в зубах.
Махая хвостом и слегка подавая голос, он остановился перед Оборотнем и опустил на землю, что нес.
Это была женская перчатка.
– Перчатка моей дочери! – вскричал Гартман, схватывая ее и поднося к губам в судорожном порыве горя.
– Господа, – сказал контрабандист, – как видите, я напал на след, что бы ни случилось, я не собьюсь с него и, клянусь вам, достигну цели. Перчатка эта брошена с намерением, я в этом уверен. Несомненно, окажутся и другие признаки, надейтесь. Я обязался отыскать похитителей во что бы ни стало и отыщу их, ничего не предпринимайте до моего возвращения, через час, много два, я вернусь со всеми необходимыми сведениями. Провожать меня далее бесполезно, ведь вы должны быть совершенно успокоены насчет результата моих поисков, разойдемся здесь, вы только задерживаете меня, а в доме, быть может, в вас нуждаются.
– Правда, друг Оборотень, – сказал Отто, – мы уйдем от вас в уверенности, что вы будете иметь успех.
– Верните мне дочь мою, – прошептал Гартман.
– Повторяю, сударь, я сделаю все, что может исполнить человек.
Он еще раз махнул рукою на прощание, свистнул собаку, которая, уткнув морду в землю, бросилась вперед, и удалился такими быстрыми шагами, что не многие в состоянии были бы следовать за ним.
Почти тотчас он свернул с дороги и скрылся из виду.
Гартман пошел к дому грустный и молчаливый.
Вольные стрелки, шаря по окрестностям, отыскали тело своего товарища и унесли его, в чем удостоверился Отто, когда проходил место, где бедняга был зарезан.
Оставим теперь сыроварню и вернемся в нашем рассказе на несколько часов назад, чтоб свести читателя в деревню Севен, о которой упоминалось не раз и где происходили тогда некоторые события, чрезвычайно важные.
Севен был до войны одним из самых населенных и промышленных местечек во всех французских Вогезах, но едва вспыхнула война, как все это процветание рухнуло словно от громового удара. Спустя несколько дней после Рейсгофена жители толпой оставили деревню и Севен опустел.
Надо сказать, что за неделю до того дня, когда мы входим в Севен, в пустынной деревне произошло нечто странное, что возбудило бы сильнейшее любопытство, не будь окрестности на десять или пятнадцать миль вокруг, также брошенные жителями, совершенно безлюдны, и в особенности, если б сообщения, даже на короткое расстояние, не были почти невозможны на этих высотах при необычайной суровости зимы.
В одно утро с раннею зарею длинный ряд телег, нагруженных домашнею утварью, а за ними стадо скота и, наконец, множество крестьян появились на крутой горной тропинке, которая вела к Севену.
Крестьяне, в одежде горцев, шли за телегами один за одним, не перекидываясь ни словом и мрачно куря громадные глиняные трубки.
Замечательно, что все крестьяне были молоды, сильны, с лицами суровыми и жесткими, и между ними не оказывалось ни одного преклонных лет, не было также ни одного ребенка, а женщины, все здоровенные, с смелым взором и почти мужскою походкою, отважно шли возле мужчин, вместо того чтобы укрываться в телегах от снега, валившего уже несколько часов кряду.
Женщин вообще было очень мало, десять или двенадцать, самое большее, а крестьян до шестисот, по меньшей мере. Это кочующее население, направлявшееся в Севен, превышало на добрую пятую долю число прежних жителей его.
Когда новоприбывшие достигли деревни, они остановились на площади, выстроились в две шеренги с точностью, которая сделала бы честь прусским солдатам, и ждали безмолвно, не переставая курить.
Телеги также поставились в ряд за двойным строем крестьян, один из начальников раскрыл тетрадь, которую держал в руке, и стал вызывать каждого по имени, а второй начальник указывал вызванному дом, где ему поместиться.
Тот выходил тогда из ряда, телега следовала за ним, и, не говоря ни слова, он шел занимать указанный ему дом.
И все это производилось холодно, спокойно, безмолвно, без торопливости и без замешательства, в стройном порядке, словно полк пришел на квартировку и ему раздаются билеты на постой.
Менее чем в час все было, как следует, люди размещены, телеги разгружены и под навесом, двери отворены, окна завешены занавесками, из труб валили клубы дыма, лошади стояли в конюшнях, скот в хлевах и петухи пели на задворках.
Если б посторонний часа через два прошел деревню, он с трудом поверил бы, что деревня была когда-либо оставлена жителями, и восхитился бы спокойствием населения, со всех сторон, однако, окруженного войною: так потекла там жизнь обычною колеею и каждый предмет казался вполне на своем месте.
Однако внимательный наблюдатель, особенно же любопытный, был бы озадачен этим самым спокойствием, исключительно наружным, только для глаза, так сказать, существующим, где семейной жизни не было, за отсутствием матерей и детей, и где малейшие действия, поступки, по-видимому, самые ничтожные каждого индивидуума казались заранее определены на вес и меру.
Словом, Севен в глазах этого любопытного наблюдателя скорее имел бы вид большой казармы, чем деревни трудолюбивых горцев. Ни песен, ни веселья, ни смеха, ни споров, ни драки, как это встречается в больших селениях на пороге кабаков, напротив, везде видны были одни сосредоточенные лица, холодно обменивались сдержанными словами и во всех местах сходки, вечером например, на посиделках, никогда не длившихся позднее восьми часов – мертвое молчание точно мрачное траурное покрывало нависло над этим странным населением, словно окаменелым.
Так продолжалось дней восемь с правильностью механизма, когда в одно утро, часу в пятом, человек пятнадцать всадников, в плащах, белых от снега, прискакали в деревню, окружая несколько лиц, закутанных до глаз в толстые накидки, похожие на шерстяные кафтаны ломовых извозчиков в окрестностях Парижа, лица эти казались в одно и то же время предметом самого заботливого внимания и бдительного надзора.
Во главе этой группы всадников, неслышно скользивших по снегу точно привидения, ехал на вороном коне человек, как две капли воды похожий на Дессау, которого мы в предыдущей главе видели в такой странной роли.
Всадники направились без малейшего колебания к стоявшему почти на середине деревни большому дому, окна которого ярко были освещены, тогда как все остальные дома погружены были во мрак.
Некоторые из всадников сошли с лошадей у дома, где их точно будто поджидали, потому что дверь отворилась сама собою, прежде даже, чем они постучали, чтобы дать знать о себе, и несколько человек с зажженными факелами в руках появились у входа.
Дессау, или, вернее, Штанбоу – пора вернуть ему настоящее имя, – сделал едва заметный знак рукой тем из всадников, которые соскочили наземь, они подошли к вышеупомянутым особам, взяли их лошадей под уздцы, подвели к двери и помогли им сойти, на что те согласились с очевидным неудовольствием и опасением, но, не говоря ни слова.
Они вошли в дом, предшествуемые бароном фон Штанбоу, а за ними следовали несколько человек с факелами и три-четыре кавалериста, которых тяжелые палаши гремели по плитам пола.
Поднявшись на лестницу в конце длинного коридора, Штанбоу очутился на площадке, куда выходило несколько дверей, одну из них он отворил и ввел шедших за ним в помещение, состоящее из нескольких комнат, порядочно меблированных: они были освещены, и в каминах горел яркий огонь, последняя комната, самая большая, с четырьмя кроватями, предназначалась для спальни.
Две женщины с наглым взором, грубыми чертами и непривлекательными ухватками стояли в этой спальне, как бы ожидая приказаний.
– Милостивые государыни, – холодно и с надменным поклоном сказал Штанбоу, обернувшись к особам, о которых мы упоминали, – вот назначенное вам помещение, эти две женщины будут вам служить, они в вашем распоряжении.
– Нам никого не надо, – возразила одна из дам, откинув капюшон и оставив этим движением на виду, бледное лицо госпожи Гартман, – мы сами будем служить себе.
– Как вам угодно, – ответил Штанбоу с насмешливой улыбкой, – я ни в чем не хочу стеснять вас, впрочем, и не худо, пожалуй, если вы научитесь обходиться без прислуги, – виноват, кажется, вы устали. Я ухожу, чтоб дать вам отдых, необходимый после продолжительного пути. В смежной комнате приготовлена для вас закуска.
С минуту Штанбоу стоял неподвижно, как бы в ожидании ответа, но, видя, что ответа нет и госпожа Гартман без церемонии повернулась к нему спиною с выражением убийственного презрения, он отвесил глубокий поклон, движением руки удалил странных камеристок и вышел с сопровождавшими его людьми.
За ним дверь на площадку заперта была на ключ в два поворота и часовой поставлен на площадке.
– Гм! – усмехнулся толстый господин, спускаясь с Штанбоу по лестнице. – Вот, ей-Богу, бой-баба.
– Вздор, – возразил Штанбоу улыбаясь, – я знаю ее с давних пор, весь этот гнев в час времени растает в потоке слез. У меня страшное оружие против нее – хочет либо нет, а согласиться она должна на то, что я потребую.
– Не думаю, чтоб вы успели, – заметил собеседник, покачав головой.
– Тем хуже для нее, если так, – презрительно сказал Штанбоу, – клянусь вам, я сломлю ее без малейшего колебания.
– Как хотите, барон, вам лучше знать, что делать, но берегитесь: французы и то обвиняют нас не без основания в жестокости к женщинам.
– Французы собаки! – вскричал барон вне себя. – Впрочем, как им и знать, что здесь произойдет, – прибавил он спокойнее, – разве мы здесь не у себя?
– Так-то так, однако, верьте мне, остерегитесь и свидетелей Ивика.
– Благодарю, доктор, – ответил Штанбоу насмешливо, – совет хорош, я припомню его, чтоб принять все меры осторожности. Не пойдете ли вы со мною на совет?
– Как же, барон, иду. – Они вместе вышли из дома.
Площадь уже опустела, всадники скрылись.
Отпустив людей, которые следовали за ними, двое мужчин перешли площадь, направляясь к дому, стоявшему напротив того, где заперты были женщины, и окна которого осветились несколько минут назад.
Когда в десять часов утра Штанбоу вышел из дома, где поместился, и проходил площадь, он увидел группу всадников, человек в двенадцать, с генералом в саксонском мундире во главе, который, остановившись у двери деревенской гостиницы, вел с трактирщиком переговоры. При генерале находился штаб-офицер. Всадники, сопровождавшие генерала, были в мундирах саксонской гвардии и под командою старого унтер-офицера с угрюмым лицом.
Само собою, разумеется, Штанбоу переоделся и теперь был в полувоенном, полуштатском костюме, который совершенно изменил его и выставлял на вид выгодную наружность. Штанбоу, как мы и заявляли в надлежащее время, не только был молод, едва тридцати двух лет, но и справедливо слыл за одного из красивейших и образованнейших дворян прусского двора.
Машинально бросив, по привычке все наблюдать, равнодушный взгляд на приезжих, он нашел как будто знакомыми черты генерала. Чтоб удостовериться, не ошибается ли, Штанбоу переменил направление и пошел к гостинице, которой достиг в ту самую минуту, когда офицеры входили в дверь.
Что же касается конвоя, то конюх отворил ворота и саксонские солдаты, под наблюдением унтер-офицера, ставили лошадей в конюшню и холили их с тою заботливостью, которую кавалеристы прилагают к этому важному для них занятию.
– Ба, ба, ба! – вскричал генерал, увидав Штанбоу. – Вот счастливая-то встреча! Не ожидал я найти в этом захолустье знакомое лицо.
И, бросив трактирщика, с которым говорил, он подошел к барону с улыбкой на губах и протягивая ему руку.
– Барон Фридрих фон Штанбоу, если не ошибаюсь, – сказал он.
– Кажется, я имею честь видеть графа Отто фон Дролинга, – ответил барон, дружески пожимая протянутую ему руку.
– Самолично, барон, – пошутил его превосходительство, – я очень рад, ей-Богу, что встречаю вас, не ожидал никак подобной удачи в этой горной норе.
– Очень счастлив, граф, и весь к услугам вашим, если могу быть чем-нибудь полезен.
– Благодаря тысячу раз, принимаю ваше обязательное предложение так же искренно, как оно сделано. Большое удовольствие найти с кем перемолвить слово среди плоских эльзасских лиц, которых выпученные глаза точно поглотить вас хотят. Доннерветтер! Нас недолюбливают здесь в краю.
– Действительно, не любят, граф, – ответил Штанбоу с улыбкой немного насмешливой.
– Однако знаете, барон, я удивляюсь, как это вы сразу узнали меня, когда мы, если память не изменяет мне, виделись всего один раз, лет пять назад.
– Совершенно верно, граф, на бале эрцгерцогини Софии в Берлине. Вы удостоили меня чести обменяться со мною несколькими словами.
– Так точно, дер тейфель! Какая у вас память, барон, чудо просто!
– Правда, – ответил Штанбоу с самодовольством, – я одарен довольно редким свойством: стоит мне раз увидеть кого-нибудь и я узнаю это лицо хотя бы через двадцать лет.