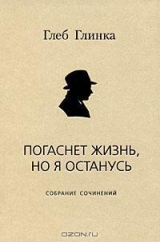
Текст книги "Погаснет жизнь, но я останусь: Собрание сочинений"
Автор книги: Глеб Глинка
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
* * *
Предсказания Барашкова оправдались. На другой день Пронин не вышел на работу.
В общей мастерской молодежь, как обычно, усердно режет игрушку. Только в дальнем углу обстановка изменилась. На полу, среди груды щепок, сидит Антип Ермилович, вид у него рассеянный. Он ковыряет пальцем трухлявые волокна большущей плахи и уныло сообщает, что изнутри никудышная оказалась древесина.
– Плохие здешние места, даже лесу нет настоящего… Вот в Семенове у нас лесу, что хошь… Непроходимые стоят леса.
Исаак Абрамов раскладывает на скамейке инструмент: топорик, два тесла, нож и круглый резец. Сверху вниз косит он на Антипа свой острый глаз.
– В Семенове? – ядовито переспрашивает Исаак. А чего же ты хвастал, что за Загорском лесу много?..
Но настроение у Абрамова тоже унылое. Что ни говори, а подходящего материала не видно.
Не сдается один Угланов. Он водрузил крепкий чурбак и подобрал небольшую осиновую плашку, зарубает торцовый ковш.
– Чего попусту сидеть, хоть мелких наделаю для показа. А ты придумал всё же какой-то исход? – обращается он к Барашкову.
Антип Ермилович совсем опустил голову. Скользкая черная борода его лежит на осиновой плахе.
Абрамов поясняет Барашкову назначение инструмента.
– Нож какой страшный, вроде свинокола, – говорит Барашков.
– Вашим ножом у нас не пойдет, сразу сломится, а этот для крепости, железный, и только наварен сталью. Мы смело работаем, как хочешь им верти. А тесло видишь, как поперечный топорик, и на конце полукругло на манер плотничьего пазника. Им нутро долбить у ковша, а потом дочищать резцом круглым. У вас тоже этаких нет. Ну, зато нам тонких стамесок добиться негде.
Тут же у края стола примостился Ерошкин. Его левая нога повыше колена обернута тряпкой. К ноге он для упора прислоняет фигурку и тщательно охорашивает ее лезвием узкой покорной стамески. Разговор Ерошкин не слышит, для него надо кричать громко, потому что глухой он.
– Тоже обертывает ногу от пореза, – отмечает Исаак.
Антип Ермилович курит папиросу и мрачно философствует:
– Ноги-то не жалко, она заживет, а штаны кончишь.
Пока мы все изыскиваем возможности добыть подходящее дерево, для ковшей, Михаил Угланов, виртуозно работая топором и теслом, успел приготовить два маленьких ковша – один платковый в виде уточки – другой из торца с резным петушком; затем нарядный уполовник, простую ложку и еще уполовник. Все это в каких-нибудь пятьдесят минут. Молодые богородские резчики не могут усидеть на месте, они обступили Угланова. Уполовники пошли по всей мастерской из рук в руки. Девушки в полном восторге от уполовников:
– Это в хозяйстве вещь!..
– А мы-то вот и не догадались сами сделать…
– Попробуй, ты над ним проковыряешься целый день, а тут видишь специалиста…
К Угланову приковано всеобщее внимание. Его хвалят. Удивляются его сноровке. Он даже покраснел от смущения, но старается держаться с достоинством, дескать, все это пустяки, а настоящее наше призвание много выше.
Исаака явно начинает тревожить успех Угланова. Он беспокойно ерзает на месте и что-то мучительно продумывает, потом вопросительно вскидывает глаза на Барашкова.
– А что ежели нам совместны сделать ковши?
– Как совместны? – не понимает Барашков.
– Так, что, скажем, я заведу ковш, а фигуры мне Ерошкин посадит на него.
Барашков оживляется:
– Эдак бы очень интересно получилось. Только мы из осины не сумеем вырезать тонкую вещь… Из сухой липы иное дело. Липы с Пучкова спрашивать не придется, она у каждого запасена на дворе.
Антип Ермилович стремительно поднимается от своей плахи и объясняет:
– Мы из любого можем. Что из сырой осины, что из тополя. А найдете в поперечнике тридцативершковую липу сухую, все едино сделаем. Решили совместно заводить, значит готовь липу, и говорить нечего. Ясно, приехали, чтоб вместе сообразить…
– Мы уж давай с тобой, – подмигивает Барашков Михаилу Угланову.
– Я полагаю, пушкинскую возьму тему. Вырежешь из Дубровского?.. Я в кино смотрел, всё помню. Ковш развернем большой и на крыльях твои фигуры.
– Не видал я картину, ну, Пушкина читал. Думаю сделать… Троекурова на коне, как он подъезжает к поместью Дубровских. А старик ваш, пускай, договаривается с Прониным.
– Я с Прониным, – охотно соглашается Антип Ермилович. – Мы удумаем… Я дома о балде Пушкина сделал. Все в точности: и как зайцев пускал, и с кобылой…, Чертенка сделал махонького. Три раза ходил к дочери, чтобы все упомнить. Читала она мне три раза. Сделал!
Во время совещания входит Стулов, внимательно прислушивается к разговорам, обращаясь ко мне, пожимает плечами:
– Зря это они затеяли. Разве возможно в десять дней создать новую композицию?!
– Да еще без пластелина, – в тон ему добавляю я.
– Вы не смейтесь, я тоже пришел поработать с ними. Только ничего не выйдет из таких грандиозных замыслов.
Абрамов смотрит на Стулова, будто стараясь угадать его способности.
– Посадишь цаплю, как в шкафу стоит, на мой ковш, чтоб из цельного куска?.. Оставлю тебе баклажку для нее, – говорит он.
– Надо попробовать, пожалуй возможно увязать с ковшом образец баландинской цапли, мне помогут художники… Попытаюсь…
– Вот так пойдет ковш… Чтоб получился из одного куска – придется торцовой, иначе сколятся фигуры. Понимаешь ли? – толкует он мне свой загадочный рисунок. – Двухсторонний будет он о рыбаке и рыбке. Я Пушкина не хуже ихнего читал. Тут старуха над расколотым корытом, а этак старик сеть держит, а сеть-то с наличной стороны пойдет на ковш. Понимаешь ли?
– Но с кем, же ты будешь делать такой ковш?
– Ерошкину докричусь на ухо. Я одноглазый, а он глухой, ну и договоримся по-свойски. Потому что против него здесь никто не может резать фигуры.
– Без готового образца!.. старика!.. старуху!.. Старуху, а под низом разбитое корыто! – кричит Исаак в самое ухо Ерошкину.
Тот молча кивает кудлатой головой.
Молодежь ушла обедать. Барашков отправил своего заместителя доставать липу. Мы продолжаем обсуждение совместных ковшей. В мастерскую входит Пронин. От него пахнет спиртным перегаром. Малахай надет набекрень. Но сегодня Михаил Алексеевич держится крепче и даже пытается понять замыслы Ершова.
– Из военной тематики тоже можем, – одобрительно кивает он. Затем вспоминает свои обиды. – Нет здесь мне полной возможности… Школа обманула… За мою работу они часы получили все, а мне и ста пятидесяти рублей не отдают обещанных… Дали сто, и крышка…
– Брось языком трепать, – унимает его Стулов.
Пронин многозначительно поднимает палец и пьяным голосом вопрошает:
– А кто тройку Чапаева сделал?.. Я сделал! Где часы? Вы получили с вашим директором!..
Стулов перебивает его и рассказывает, что с этой тройкой не оберешься теперь разговора. А дело происходило весьма просто. По типу древней народной тройки была создана коллективом школьных работников во главе с директором Карцевым композиция чапаевской тройки. И будто доделать ее по каким-то причинам не успели. Позвали Пронина. Тот подрядился и скопировал, а теперь бузит, что эта тройка его работы.
– Какая ваша, какая моя – сразу видать, – не унимался Пронин. – Тачанку не смогли сделать? Сделай, говорят, Михаил Андреевич, какую сам знаешь. Лошадей вы тоже против моих не можете. Я за жизнь переделал троек-то – конца не видать… Где же она ваша?! Только имя мне не позволили поставить, чтобы выдавать за свою. Ваша-то и сейчас стоит в школе, ни на что не похожа.
– Тачанка – пустяки, это не играет роли. Коней ты взялся точно скопировать. Даже приходил у нас брать другого коренника для образца. – И, обращаясь ко мне, Стулов говорит: – Жалко, ее уже нет у нас, а то бы вы посмотрели, там у лошадей настоящее движение, экспрессия.
Я отвечаю, что мне кажется, пронинская тройка никогда не страдала статичностью и очень сомнительно приписывать авторское право школе только за то, что она взяла готовый образец народной тройки, последним исполнителем которой является Михаил Алексеевич Пронин. Правда, школа переделала ее на чапаевскую, а потом дала не только скопировать, но и выправить тому же Пронину. Выходит, что тройка в самом первичном прообразе и, наконец, в окончательной фактуре принадлежит Пронину, а школа явилась
какой-то передаточной инстанцией…
– Нет, все это совсем не так! – горячится Стулов. – Михаил Алексеич сейчас просто пьян, когда проспится, поймет, и не будет попусту трепать языком.
– Вам сроду не вырезать таких коней, – усмехается Пронин. – Ладно, пусть пропадут мои пятьдесят рублей… Вот часы – обидно. Нам и в артели Пучков тоже не велит ставить подпись. Я раз ножом вырезал свое звание, а он распорядился сострогать начисто.
Исаак Абрамов о чем-то толкует с Барашковым и до нас долетают только отрывки фраз.
– Нисколько я не учился… дошел до всего сам…
Антип Ермилыч кривится презрительной гримасой.
– Есть же на свете чудаки такие, – кивает он в сторону Исаака, – не учился он! Ну, и чудак…
* * *
Я уехал из Богородского с тем, чтобы вернуться через десять дней и посмотреть, каков же результат первой встречи мастеров. В последний вечер моего пребывания в артель возвратился из Загорска секретарь парткома Резников. Он сразу понял значение предстоящей задачи и решительно заявил, что сумеет доставить мастерам весь необходимый материал. Он возьмет с Пронина слово не пить до окончания работы и обеспечит настоящие условия для творчества.
Меня радовало, что семеновцы уже оценили способ распаривания сырой осины. Они поняли, что для «живности» требуются тонкие стамески. Я вспоминал, с какой жадностью рассматривали богородчане поделки Михаила Угланова и как тут же отвергли они для себя работу с теслом. Им казалось способнее вынимать нутро ковша стамеской. Зато круглый резец был явно необходим богородчанам.
Все же приходилось сомневаться в успехе задуманных мастерами гибридов. И, конечно, тут дело не в художественном руководстве, отсутствие которого так беспокоит Стулова. Указка квалифицированного городского скульптора могла бы только засушить, даже исказить коллективные замыслы. Но ясно, что у резчиков было слишком мало времени присмотреться друг к другу. Они могли лишь угадывать взаимные возможности. И как бы ни выглядели задуманные ими гибриды, несомненно, что опыт этот, пусть даже неудачный, лучше всего поможет мастерам перенять многие технические особенности различных навыков резьбы, обогатит их скромный набор инструментов и натолкнет на новые темы.
В Москву я вез с собой неожиданно найденное на конторском шкафу произведение обиженного школой, обезличенного Пучковым Михаила Пронина.
Это собственная композиция мастера. На большой доске, по древнему типу так называемых хозяйств, которыми в свое время славился знаменитый Андрей Чушкин, Пронин расположил десять лошадей и девятнадцать человеческих фигур. Вся скульптура оцеплена жердочками низкого забора. Над воротами надпись: «Конный базар». Вещь смотрится с большим интересом. Тут изображено несколько характерных сцен старого базарного быта. Пузатые купцы солидно и со знанием дела торгуют у коннозаводчиков сытых коней. Барышник всучивает весьма среднюю лошаденку неопытному покупателю. Рядом, по всем обычаям, происходит продажа рабочего битюга, с хлопанием по
рукам и многозначительной передачей узды. Низкорослый парень повисает на узде вздыбленного жеребца. Бедняк в лаптях сиротливо стоит у ворот. В самой толчее испуганный, изогнувшийся жулик тянется к карману зазевавшейся тетеньки. В дальнем углу базара две клячи. Одна завалилась, и ее изо всех сил дергает за повод измученная деревенская женщина, а разъяренный мужик размахивает кнутом над костлявым крупом обессилевшего животного. Ярко показаны базарные нравы, но лучше всего сами лошади. Коня Пронин понимает превосходно. И, рассматривая его базар, невольно вспоминаешь сказку о коньке– горбунке.
Перед глазами конный ряд.
Два коня в ряду стоит,
Молодые, вороные
Вьются гривы золотые.
Над своим базаром Михаил Алексеевич трудился тайком от школьных учителей и от артельного руководства. Затем принес готовую вещь и предложил её для отсылки на выставку в Загорск. Но артельные судьи тут же на месте забраковали его работу, по соображениям будто бы идеологическим: «Зачем, дескать, изобразил здесь карманника? И вообще старая тематика». Так и провалялась вещь на конторском шкафу в течение двух лет.
Пронинский базар передан в Третьяковскую галерею на выставку народного творчества.
* * *
В деревню Богородскую я вернулся вечером. Окна мастерской были ярко освещены. Здесь шла окончательная доделка гибридов.
Барашков и Угланов старательно прилаживают к крыльям большущего ковша приставные фигуры. На нравом крыле расположена часть стены с крылечком – это помещичий дом Дубровского. За ним два дерева с типичными для богородчан дрожащими на проволочках листьями. У самого края, над впадиной ковша, стоит крестьянин, вооруженный топором. Худощавый испуганный Дубровский бросается предотвратить восстание. Тут же крестьянская фигура с обнаженной головой покорно переминает в руках свой картуз. С левой стороны, верхом на прекрасной лошади, спокойно подъезжает Троекуров, за ним еще два всадника. Вся работа несколько перегружена и композиционно не увязана с ковшом, но в деталях своих выполнена блестяще. Особенно хороша группа с Троекуровым.
Антип Ермилович с Прониным вырезали из целого куска дерева белого медведя на ковше. И уже самостоятельно Пронин попытался соединить медведя с вазой, тоже в одном куске. Но ваза вышла претенциозной, и добротный мишка выглядит около нее слащавым.
– Я следующего с колодой вырежу, – говорит Михаил Алексеевич, – а то верно, что вроде нашего буфетчика получился он у меня…
Стулов сумел ловко увязать модернизированную цаплю с ковшом Исаака Абрамова. Сын Бобловкина из оставленных на углановском ковше баклашек изобразил орла, следящего за курицей.
Но всех лучше удалась сказка о рыбаке и рыбке. Сказочное представление о море воплощено в округлой впадине чудесного ковша, сработанного Исааком. Злобная старуха сидит у разбитого корыта. А на другой стороне ковша-моря старик мечтательно смотрит вдаль, вытягивая обеими руками сеть с золотой рыбкой. Из сквозной, скульптурной сеть, постепенно расширяясь, переходит в рельеф и затем в плоскостную резьбу, идущую по наружной стороне ковша. Фигуры резал Ерошкин. Вся скульптура сделана из одного куска липы и настолько гармонична и строга по своей силе и простоте форм, что никак не верится в ее гибридное происхождение. Здесь оба мастера слились в едином творческом порыве, и никак не скажешь, что лучше, ковш с сетью или фигуры: просто не мыслятся в отдельности. И Ерошкин ли тут внушил одноглазому Исааку сказочный образ моря, или Исаак сумел прокричать на ухо глухому Ерошкину свое заветное понимание Пушкина – неизвестно. Только ясно, что в этой вещи мощно прозвучал подлинный народный отклик на сказку гениального поэта.
Антип Ермилович, несмотря на всяческие препирательства с Исааком, безоговорочно признает, что о рыбке получилось «умственно», что все остальные вещи ни в какое сравнение с этой идти не могут.
– Я сделал о Балде, – вспоминает он, – теперь приеду в Деяново, тоже о рыбаке буду резать, а потом надо о царе-Салтане…
Весь стол завален белыми легкими вещами. Рядом с гибридами семеновские уполовники, и малый ковш-павлин, и уточки, и новое создание Исаака Абрамова – дракон, закрутивший богатыря.
Наконец, ковши собраны и упакованы. Все мы должны уехать с ночным поездом, а поэтому заключительный банкет проходит спешно и скомкано. Богородчане с грустью переживают разлуку.
– Ничего, – утешает их Угланов, – теперь вы к нам приезжайте. Мы встретить сумеем… У нас можно поработать совместно.
На прощанье семеновцы отдают своим друзьям круглые резцы, поясняя, что у них на родине любой кузнец может сделать такой инструмент.
Угланов и Абрамов выпили на дорогу по стакану вина. Они обнимаются по очереди со всеми участниками банкета.
– Наши мелкие поделки в шкафу поставьте, – предлагает Угланов, – а павлина дарю товарищу Резникову за дружескую поддержку.
Антип Ермилович подает руку Пронину и торжественно говорит:
– Ты всё же не унывай, Михаил Лексеич, мы тебя поднимем!
* * *
В Москве, в моей комнате громкоговоритель провозглашает, что на пушкинскую выставку поступил ряд экспонатов от народных художников Палеха, Семенова, Хохломы и Богородска и что особенно интересен ковш на тему пушкинской сказки о рыбаке и рыбке, сделанный из целого куска дерева Абрамовым и Ерошкиным. И я пытаюсь рассказать о зарождении нового ковша случайно зашедшему ко мне соседу. Но он не слушает меня. Его совершенно не интересуют народные художники. На ковши и на богородские изделия моей коллекции он тоже смотрит с полным равнодушием. Тогда я достаю привезенные с Керженца шахматы.
– Сразимся? – предлагаю я.
Он соглашается сыграть партию.
Шахматы расставлены. Я поднимаю коня.
– Ты неплохой шахматист, – пробую я задобрить его, – но посмотри все-таки, как сделан конь, это тоже произведение народного художника. Это древнейший мотив…
Тут он грубо перебивает меня:
– Что ж, если это народное искусство, так мне молиться на него, что ли?
– Но понюхай, ведь он из можжевельника!
– Гнусный запах, – говорит он.
Я знаю, что я выиграю эту партию, тем более, что в противнике моем я почуял сейчас не просто обывательствующего соседа. Я замечаю, что он что-то уж слишком похож на Василия Петровича Пучкова, заведующего производством богородской артели, что близорукостью своею он напоминает директора профтехшколы Карцева и, наконец, что его апломб, самодовольство и равнодушие целиком заимствованы у руководителей Союзигрушки. Он не одинок, а потому чувствует себя весьма крепко. У него замечательная броня. Эта броня – отсутствие чуткости и вкуса. Но все же я должен заставить его сдаться, хотя и досадно играть с человеком, который ничего не понимает в народном искусстве и которого тошнит от запаха можжевельника.
1937 г.
ПЕРЕВАЛ
Уничтожение литературной независимости в СССР
(1953)
Нас было много на челне;
Иные парус напрягали,
Другие дружно упирали
В глубь мощны веслы. В тишине
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчаньи правил грузный челн;
А я – беспечной веры полн,
Пловцам я пел… Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный…
Погиб и кормщик и пловец! —
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.
Пушкин
НА ПУТЯХ В НЕБЫТИЕ
(Основные контуры советской литературы)
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей.
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон и дверей.
Для более пристального изучения истории советской литературы, для того, чтобы понять пути и перепутья любой литературной группировки и даже каждого отдельного советского писателя, прежде всего необходимо наметить основные – невольно хочется сказать: «этапы развития или роста», но в данном случае ни то, ни другое понятие не соответствует действительности; точнее – необходимо наметить основные этапы существования художественной литературы в Советском Союзе.
В среде иностранцев и в кругах старой русской эмиграции то и дело приходится сталкиваться с двумя крайними мнениями о советской литературе, не только противоречивыми, но и просто исключающими друг друга.
Одни, приводя ряд убедительных примеров из произведений Михаила Зощенко, Бориса Пильняка, Бабеля и некоторых других авторов, склонны думать, что цензурные рамки и давление казенной идеологии в советской художественной литературе весьма относительны. Следовательно, говорят они, писать там всё же можно, и кое-кто пишет даже очень и очень свободно.
Вторые утверждения сводятся к тому, что при отсутствии свободы общественного мнения и печати никакая подлинная художественная литература немыслима, а потому вся советская литература состоит из более или менее ловких подделок, где задана не только тема, но и весь психологический рисунок произведения выполнен в строгом соответствии с требованиями Центрального комитета партии.
Но, как это ни странно может показаться на первый взгляд оба эти утверждения являются в основном вполне правильными. Дело лишь б том, что первое мнение относится имущественно к литературе двадцатых годов, ко временя ее становления, совпадающему с новой экономической политикой (1922-28 гг.). Тогда как второе утверждение имеет в виду советскую литературу с конца тридцатых годов но сегодняшний день.
Таким образом, историю советской литературы возможно разделить даже не на два, а скорее на три условных периода. Первый – с 1921 года по 1929; второй, переходный период – от 1930 по 1936 год. И, наконец, последний – с 1937 года до настоящего времени.
(Здесь некоторое – правда, весьма относительное – ослабление контроля падает на годы войны, и затем снова – энергичный возврат к террору как в общественности, так и в литературе.)
Первый период характерен эволюцией роста молодых писателей. К этим же годам относится наибольший расцвет лирической поэзии. В эти годы даны лучшие вещи попутчиков (т.е. писателей, вступивших на литературное поприще еще до октябрьского переворота и волей-неволей примкнувших к революции). В то же время, кроме присяжной, казенной критики, которая тогда уже появлялась в лице Авербаха, Горбачева, Ермилова и других представителей РАППа (рабочей ассоциации пролетарских писателей), действовало и сдерживающее начало; не только в чисто литературных кругах, где был исключительно высок авторитет Александра Константиновича Воронского, но и в самом Центральном комитете партии были люди, обладающие достаточной культурой, – Луначарский, Троцкий, Бухарин, Каменев. Просматривая журнал «Красная Новь» под редакцией А.К. Воронского за эти годы, невольно удивляешься: неужели можно было так свободно высказывать свое мнение в советской печати. И даже в конце этого периода в критической литературе, наряду с произведениями вульгаризаторов марксизма, появляются такие смелые и совершенно немыслимые впоследствии книги, как «Поиски Галатеи» Димитрия Горбова (1929) или «Искусство видеть мир» А. К. Вронского (1928). Следовательно, эти годы, по сравнению с позднейшими временами, несомненно являются золотым веком советской литературы. Второй период – переходный. В литературной общественности шла перестройка на ходу. Подготовлялись коренные реформы. Главари бывшего РАППа, ныне уже ВАППа (всесоюзной ассоциации пролетарских писателей), в порядке самокритики каялись в целом ряде ошибок, допущенных их организацией, объясняя такие промахи недостаточной бдительностью и проникновением в их среду «классово-чуждых элементов». И тут же, используя политическую обстановку, ВАПП сводил свои старые счеты с остатками малых литературных объединений. Даже самые названия книг, появившихся в это время в разделе литературоведения и критики, показывают характер подобных «проработок»:
В. Ермилов. «Против меньшевизма в литературной критике». 1931.
С. Малахов. «Против троцкизма и меньшевизма в литературоведении». 1932; «Против буржуазного либерализма в художественной литературе» – дискуссия о “Перевале”». 1930.
П. Рожков. «Против толстовщины и воронщины». 1931.
И. Макарьев. «Показ героев труда – генеральная тема пролетарской литературы». 1932.
В. Киршон и Д. Мазнин. «На высшую ступень – призыв ударников в литературу и критику». 1932.
Возникший в эти годы «призыв ударников в литературу», то есть попытка из лучших рабочих сделать писателей и критиков провалилась на первых же своих шагах. Рабочих с производства сделать писателями не удалось, но посылать писателей на производство для наблюдения и зарисовок с натуры было значительно проще. Литературные жанры романа, повести и рассказа в это время всё более уступают место производственному очерку.
В 1932 году последовало историческое постановление ЦК партии о ликвидации всех литературных группировок. Мотивирована такая решительная ампутация тем, что на данном этапе гигантских достижений во всех областях советского строительства, в том числе и в области художественной литературы, старые формы общественности становятся тесны и отмирают, уступая дорогу новой структуре, дающей неслыханные возможности еще большего творческого роста. Затем создается организационный комитет будущего союза писателей. И в 1934 году в Москве, в Доме Союзов, происходит торжественное открытие Союза советских писателей, на котором после речи Бухарина многие писатели буквально бросаются друг другу в объятия и, захлебываясь от восторга, говорят о перспективах подлинного освобождения искусства от вульгаризаторства и вапповской тенденциозности. Тут же появляются весьма настойчивые слухи о создании реального беспартийного блока, который будто бы должен был возглавить Максим Горький.
Но чаяния и мечты не сбылись. Вместо ожидаемых свобод прежде всего оказалось, что все основные посты в руководстве Союза советских писателей, в издательствах и в журналах заняли те же бывшие вапповцы, но только теперь они являлись уже не представителями главенствующей литературной группировки, с которой всё же можно было полемизировать, а облеченными доверием партии сановниками, проводящими в жизнь постановления ЦК. Свободная критика стала немыслимой.
Надежды на Максима Горького тоже не оправдались. Он по-прежнему руководил гигантскими по своему размаху, но не имеющими прямого отношения к художественной литературе изданиями вроде «Истории фабрик и заводов», либо беззастенчиво проектировал силами лучших писателей создать «Историю Горьковского края» (бывшей Нижегородской губернии, носившей теперь его имя). Организованные Горьким журналы тоже не обещали широких перспектив для свободного художественного творчества. «СССР на стройке», «Колхозник» и «Наши достижения» состояли преимущественно из тех же производственных опытов.
Вся окололитературная шумиха с открытием Союза советских писателей была лишь средством выявить настроения писателей, последний раз дать им возможность свободно высказаться, чтобы затем без особых усилий отделить овец от козлищ и в нужный момент произвести решительную чистку.
По существу ликвидация литературных группировок и создание единого союза были ничем иным, как насильственной коллективизацией писателей. И Союз писателей оказался не центром свободной писательской общественности, а всего-навсего бутафорской избушкой на курьих ножках, правда, далеко не сказочной, зато действительно «без окон, без дверей».
Последний, третий период советской литературы начинается со времени так называемой ежовщины, заранее продуманной, предрешенной и подготовленной. В первую голову Сталин с помощью ежовщины рассчитался со всеми действительными и потенциальными оппозиционерами, а наряду с этим шло такое же беспощадное раскулачивание города, которое к этому времени уже было вчистую закончено в деревне. Не было ни одного участника в советском хозяйстве, строительстве, в армии, в науке и в искусстве, который не был бы захвачен этой грандиозной прополкой. Список исчезнувших в эти годы писателей насчитывает сотни имен. В их числе есть имена достаточно широко известные, как, например, Борис Пильняк, Клычков, Бабель, Артем Веселый, Валерьян Правдухин, Иван Катаев, Абрам Лежнев, Зазубрин, Орешин и другие.
Дальше забота партии и правительства о советских писателях развертывается полностью. Как методы поощрения введены в обиход ордена, звания «заслуженных», и наконец – лучшие из лучших становятся лауреатами сталинских премий со всеми вытекающими отсюда материальными благами: квартиры в специально отстроенных для этой цели писательских домах, автомобили, путевки в дома отдыха и даже роскошные дачи с прилегающим к ним участком земли. Однако все эти богатства принадлежат писателю лишь до тех пор, пока он идеологически безгрешен. Достаточно ему, волей или неволей, ошибиться, не уследить за каким-либо новым извивом, зигзагом и броском, который, по своему обыкновению, неожиданно вывернет генеральная линия партии, – и тогда пропали не только дача, автомобиль и квартира, но и жена, и дети, а самого пошлют пилить лес где-нибудь на Медвежьей Горе.
Но и в такой «свободной» общественности, разумеется, не благодаря заботам партии и правительства, а наперекор этим заботам, художественная литература всё же как-то существовала. И дело тут в основном сводится к подпочвенной литературной преемственности, которую не в силах были приостановить никакие партийные преграды. Как первая советская литература невольно впитала в себя многие навыки дореволюционной русской литературы, так же художественная литература второго и даже третьего периода не смогла окончательно сбросить свою преемственность от литературы периода становления, то есть, в конечном итоге, от былой русской литературы. Сквозь все фильтры и заграждения своими глубинными и уже худосочными корнями она продолжала и продолжает тянуться всё к тем же источникам. Недаром один из наиболее вдумчивых и талантливых советских критиков А. К. Воронский в своей статье «О пролетарском искусстве» в 1923 году утверждал:
«Никакого пролетарского искусства, в том смысле, в каком существует буржуазное искусство, у нас нет; попытка представить современное искусство писателей пролетариев и коммунистов пролетарским искусством, противоположным и самостоятельным в отношении буржуазного искусства, – на том основании, что эти писатели и поэты отражают в своих произведениях идеи коммунизма, – наивна и основана на недоразумении, так как на самом деле у нас в лучшем случае есть искусство целиком, органически и преемственно связанное со старым, – искусство, которое стараются приспособить к новым потребностям переходного времени диктатуры пролетариата. Идеологическая окраска нисколько не изменяет положения дел и не дает права на принципиальное противопоставление этого искусства искусству прошлого, как самобытной культурной ценности и силы: речь идет только о своеобразном приспособлении».
И дальше:
«Путь к самостоятельному новому искусству лежит через усвоение и овладение “наследством”, коего пролетариат был лишен в недрах буржуазного общества».
Но вот как раз на этом самом «через» и споткнулась советская литература. Так или иначе, «наследством» она овладела (иной вопрос, как это наследство используется), но перешагнуть через него к самостоятельному новому искусству не удалось. И совсем не потому, что ощущалась нехватка в даровитых художниках с пролетарским самосознанием, а в первую очередь из-за отсутствия права на самостоятельное мышление, на какие бы то ни было идеи, рожденные самим художником. Следовательно, не удалось потому, что вся работа писателя в СССР сведена к вышиванию по готовой канве казенного мировоззрения, и то лишь при условии использования только дозволенных методов мастерства. Таким образом, ясно, что, так и не сделавшись пролетарским и даже потеряв надежду когда-либо сделаться таковым, искусство в стране Советов дышит лишь до тех пор, пока связывающая его с прежним искусством пуповина не оборвалась окончательно. И каждый действительный художник там понимает это, если не сознанием, то интуитивным творческим постижением, и контрабандой пытается сохранить на возможно более долгий срок свою нутряную связь с прошлой культурой.








