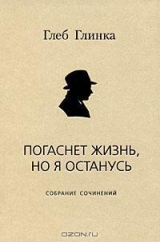
Текст книги "Погаснет жизнь, но я останусь: Собрание сочинений"
Автор книги: Глеб Глинка
Жанры:
Поэзия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
СОЧУВСТВИЕ
Цвети как одуванчик, дева,
Люби порядочных мужчин:
Они без страсти и без гнева
Тебе предложат апельсин.
Но бойся, бойся, одуванчик,
Превыше смерти бойся тех,
Кто ложитдевку на диванчик,
Чтобы разделать под орех.
СОКРОВЕННОЕ
Понятно и не ново,
Всё ж повторяю вновь:
Любовь – святое слово,
Не эрос, а любовь.
Что может быть светлее
И может ли так быть:
Любить людей в сабвее,
В rush hour 1 любить?..
Любить чужих, немилых
Нам трудновато ведь,
Но коль любить не в силах,
Попробуем жалеть
Уродов и пригожих,
Маститых и не в масть;
Тогда мы сами сможем
Свободнее дышать.
1. Час пик (англ.).
ДВА КРЫЛА
Среди деталей и основ
На свете много дряни.
Воображения покров
Любой дороже ткани.
Раздень весь мир и посмотри;
Как черви, скользки девы,
Под платьем голы короли
И даже королевы.
Пускай цветет, врагам на страх,
Незнания истома.
В любви, в изменах и в стихах
Не обнажай приема.
ВДОХНОВЕНИЕ
Не признавая ремесла поэта,
Нельзя надеяться на колдовство
И созидать ничто из ничего,
У вдохновенья требуя ответа.
Необходим талант и мастерство,
И те, в ком есть соединенье это,
Не ждут потустороннего привета,
Но в творчестве их дышит волшебство.
Плоды безграмотного вдохновенья
Не слаще бесталанного уменья.
Победа мастерства искусству впрок.
Поэзия не только птичьи трели –
Гармонии и синтеза залог:
Двуликий Янус – Моцарт и Сальери.
БОРЬБА С СОБОЙ
Был злобным, но рыхлым
Тьмы переполох.
Бесшумно свет вспыхнул,
Как молнии вздох.
Бред бился без жалоб,
К бессмертью стремясь.
В испуге дрожала
Поэтики вязь.
Казалось, потухнет
Сиянье огня
И, словно на кухне,
Начнется стряпня.
Но в плавном размахе,
Сквозь хаос и страх,
Звенел амфибрахий
В коротких стихах.
СУДОК МУДРОСТИ
Шпаны словесной голытьба
Живет вне норм и статики:
Сама собой встает соба
Наперекор грамматике.
Строптивая соба потна
Возвратным самомнением,
Хоть называется она
Для всех – местоимением.
Тут именительный падеж
Дает случайный выигрыш,
Но на победу нет надежд,
Сам из себя не выпрыгнешь.
С собой покончить нету сил –
Живуча, окаянная,
Ведь столько лет ее носил
Под сердцем постоянно я.
МОЙ ЧИТАТЕЛЬ
Две металлических совы
Подвешены на ветке,
И чувствую – они, увы,
Мои родные детки.
Не голуби, не соловьи,
А совы неживые
Похожи на стихи мои
Надменные и злые:
Условность примитивных форм,
Колючесть в опереньи,
Добра и зла, вне всяких норм,
Холодное кипенье.
Причем тут творческая боль?..
Совиных тел победа:
В них перец и земная соль
Для моего обеда.
НЕПРЕДВИДЕННОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО
В сознании и в чувствах
В нем много моего,
И всё в моем искусстве
Понятно для него.
Родная, не чужая,
Душа близка с душой, –
Он довоображает
Придуманное мной.
Так в строй моих созданий
Вползает, как змея,
Боль творческих дерзаний
Читательского «Я».
Но где такой читатель,
Соратник, верный друг?
С какой бы это стати
Он появился вдруг?
Не смех, не горький юмор —
Отчаяния стон…
Возможно, уже умер
Иль не родился он.
СКРОМНОСТЬ
Идут в искусство массы
Любой страны и расы.
Идет за ратью рать,
Чтоб жизнь отображать.
Для живописной блажи
Повсюду есть пейзажи,
А скульпторам в удел
Даны извивы тел.
И только у поэтов
Конкретных нет предметов,
Их творческая прыть
Должна в созвучьях жить.
Не нужен здесь анализ,
Чтоб люди не пугались,
Но всё ж напомним им:
Талант необходим.
ЛОПУХИ
О звукосмысле размышляя,
Вникая в глубину и суть
Чириканья, мычанья, лая,
Воссоздаю свой стихопуть.
Но тут же совесть грубо, смело
Напоминает мне опять:
«Брось заниматься грязным делом,
Давай углями торговать.
Оставь сей труд научным силам,
Они тебе ни сват, ни брат…
Куда уж нам с конкретным рылом
Лезть в отвлеченный звукоряд».
ЧЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ
Стихам, что у забора
Родились среди сора
Через союз раздора,
Через словечко «но»
Судьбою суждено,
Грамматикой дано
Незыблемое право,
Словесности во славу,
Быть многим не по нраву.
НА УЩЕРБЕ
Навозну кучу разрывая,
Бодлер нашел жемчужное зерно,
В нем злобы прелесть неземная.
В поэзию оно вошло давно,
Гордыней разум отравляя.
Под тусклым блеском дьявольских сетей
Жемчужный мир красив и страшен.
В беспомощном безумии затей
Заражены искусства наши
Чесоткой вожделений и страстей.
СМУТА
Изношенность словесных тканей
И плесень песенных затей
Не украшают наших дней
Тщетой беспомощных дерзаний.
Где ж воплощенная мечта,
Что в вечность проросла из тлена,
Косноязычье Демосфена,
Бетховенская глухота?..
ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫЕ СРЕДСТВА
В болоте или на мели
Искусство чахло час от часу.
Заветные пути к Парнасу
Чертополохом поросли.
Но вот нежданно, безобразно,
Раскачиваясь вкривь и вкось,
Всё сдвинулось и понеслось,
Безмерности справляя праздник.
Провозглашая на ходу
Стихов бесформенных кипенье,
Традиций разбивают звенья,
На крест эстетику ведут.
От нас отторгнуты отныне
Поэзии живой сосцы,
Стихосложения жрецы
Священнодействуют в пустыне.
ПРИБАВЛЕНИЕ СЕМЕЙСТВА
Чтобы преодолеть изъян
И цены удержать на рынке,
Цыплят ссыпают в океан
В корзинах или без корзинки.
И слышим мы со всех сторон,
Что шар земной, должно быть, вскоре
Сплошь будет перенаселен
На разоренье всем и горе.
Трещит двуспальная кровать,
Но дело вовсе не в кровати.
Всё можно, только не рожать:
Топить детей с какой же стати?
В искусстве лишь талант ценя,
Ищу я некоего сходства
В вопросах, близких для меня,
Иного перепроизводства.
Талант – один среди толпы,
Кругом – бездарные творенья,
Плодящиеся как клопы.
Где ж тут контроль деторожденья?
АНТИТЕЗА
На перекрестке, у забора
Стоит потерянный поэт.
Он наблюдает, как из сора
Растет классический сонет.
Мир творчества устроен тонко,
Темны поэзии пути.
Стихи, как малого ребенка,
В капусте можно обрести.
Иль весь узор стихотворенья,
Чтоб мук не длилась канитель,
Чудесный аист вдохновенья
Приносит автору в постель.
ТАЙНА
Невозможно обобщить
Смысла разобщенного.
И не надо, не ищи
Ночью солнца черного.
Нет реальности иной,
Кроме обывательской,
Потому поэт порой
Терпит издевательства.
Хоть корову через «ять»
Напиши в усердии —
Необъятного объять
Не дано в поэзии.
ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Дерзаний творческих удача –
Победа мастерства и воли.
Блестяще решена задача,
Без вдохновения и боли.
На месте всё, но, как ни странно,
Сам сознаешь в бессильной дрожи:
Созданье это бездыханно,
Чего-то не хватает всё же.
И тут приходит сокровенно
Еще строфа, под стать и кстати,
Рожденна, а не сотворенна,
Единосущна благодати.
От ласкового дуновенья
Все строки радуют друг друга.
И ожило стихотворенье,
Но в этом не моя заслуга.
БИОГРАФИЯ
Всё дальше детства яркий праздник,
Сгущаются сплошные будни,
Ничто не радует, не дразнит,
Груз возраста уныл и труден.
Ребенка первый шаг на свете,
Шаг шаткий старика больного,
А между ними жизни сети
От будущего до былого.
Лишь изредка и на мгновенье
Прорежет духоту тумана
Луч творческого вдохновенья,
Последнего самообмана.
НЕДОУМЕНИЕ
Был он автор,
Был поэт.
Завтра завтрак,
Нынче нет.
Весь в заботах,
Свет немил,
Но работал
И творил.
Неврастеник
С юных лет.
Мало денег,
Много бед.
Боль до дрожи:
Нету крыл…
Умер всё же,
Значит – жил.
ОПЫТ
Счастия на свете
Я не ждал, не требовал.
Где же тут ответить,
Было ль оно, не было.
Был любим, не скрою,
Сам влюблен без памяти.
Ну, и всё такое,
Вы, конечно, знаете.
Как закалка стали,
В цвете побежалости
Души расцветали
От любви и жалости.
Мужем и женою
Стали с нею значиться,
Разного покроя
Завели чудачества…
Старость нас накрыла
Без предупреждения.
Счастье ли то было
Или наваждение?
СИЛА ЛЮБВИ
Есть воспоминания близкие к стону —
О том, что случается редко и вдруг,
О страсти и нежности по телефону,
О боли обид, о безумье разлук;
О том, как дрожали испуганно руки
И не поддавался замок как назло,
Об узкой кровати, о неге и муке,
О счастье нелепом, о том, что ушло.
В любви постоянной всё просто и ясно.
Сомнений туманы теперь далеко,
И ключ от квартиры привычно, бесстрастно
В замочную скважину входит легко.
Моей жене
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Вспоминаю домишко тот благостный
И колечко мое на тебе.
На истоках пути много радостей
Было в нашей суровой судьбе.
Мы блуждали тропами неровными,
Малодушествуя и греша,
Но любовью, нам Богом дарованной,
Омывалась и крепла душа.
Может быть, как теперь, полузрячими
Добредем до земного конца,
Чтоб мольбами своими горячими
Умолить друг о друге Творца.
ЗАВЕЩАНИЕ
Мне прошептала смерть: «живи»
И отпустила на поруки.
С тех пор из всех богатств любви
Предпочитаю я разлуки.
В них судорога губ и рук
И опьяненье вольной волей.
Земное счастье, без разлук –
Как день без ночи, хлеб без соли.
Боль расставаний – пустяки,
Романтика наивной муки,
Тут нет следа слепой тоски,
Последней и сплошной разлуки.
Светлой памяти о. Павла Флоренского
РОК
В любви дано не «Я»
Нам милостью Господней, —
Чтоб ячества змея
Иссохла в преисподней!
Душой, не головой,
Не в самости, а в духе,
В себе познай Его
Среди мирской разрухи.
Прочувствуй, виждь и ведь,
И братьям заповедай:
Попрать любовью смерть
Не поздно в жизни этой.
БЛАГОПОЛУЧИЕ
Не боль и не испуг,
Само собой понятно:
Замкнулся жизни круг.
Часы идут обратно.
Заводят хоровод
Дней пролетевших стаи,
Прошедшее растет,
А будущее тает.
УПОЕНИЕ В БОЮ
Лицом к лицу с своей судьбой,
Без панциря и без забрала,
Был смелым я, когда со мной,
Как кошка с мышкой, смерть играла.
Давно закончена война:
А я, седой и бородатый,
Теперь кричу в тенетах сна,
Мышиным ужасом объятый.
ЛЬДЫ
В газете, в «Комсомольской правде»,
Была заметка обо мне,
Что будто я Отчизны ради
Пал смертью храбрых на войне
Прошли года в тоске унылой.
Сомненья мучают меня.
Не убежден, что это было, —
Всё ж нету дыма без огня.
Хотите верьте иль не верьте,
Но, задыхаясь и смеясь,
На фронте я вступил со смертью
В непозволительную связь.
И с той поры в заботах быта,
В земной любви и в царстве сна
Ее объятья не забыты —
Я знаю, ждет меня она…
СКЕПСИС
Прислушайся… Ты слышишь треск в туманах?..
Смертельный холод чувствуешь ли ты?..
Из всех открытых нами океанов
На человека двигаются льды.
А мы еще грустим, и негодуем,
И ссоримся по мелочам…
Никто не даст нам молодость другую,
И не придет. И не поможет нам.
СВЕТОТЕНИ
В убогость каменных палат
Сурово, без привета
Приходит старость невпопад
На смену пустоцвету.
Дрожат тенями по углам
Надежды и потери.
Что значит здесь? Что будет там,
За тьмой последней двери?..
Вокруг, как частокол, торчат
Вопросы без ответов:
Не сад цветущий – сущий ад
Для мыслящих поэтов.
И всё же с болью пополам
Живу, не лицемерю.
Совсем не верю зеркалам,
Календарю не верю.
ЗАГРОБНОЕ БЫТИЕ
Лава славы и удачи.
Юмор висельника?.. Что ж,
Боль смешна – от счастья плачут
Листья в благодатный дождь;
Юность этим не вернешь.
Так что нечего судачить,
Ерепениться, как ерш:
Бесполезная задача,
Явь иль сон – не разберешь…
Навечно, а не на столетья,
Нам дан искус свободной воли.
Есть в каждом «я» залог бессмертья,
Иной реальности юдоли.
И как бы ни противоречил
Мне разума двуликий Янус,
Пусть путь недолог человечий –
Погаснет жизнь, но я останусь.
ЭПИЛОГ
Бесстрастен времени полет,
Безжалостна натура,
И старости из года в год
Всё злее авантюра.
«С изнеможением в кости»
Хотелось бы на склоне,
Как на костыль, налечь на стих
Упрямый, непреклонный;
Чтоб трепетный оставить след
Для новых поколений:
Груз мастерства, нелепый бред,
Что море по колено,
О тол, что, как ты ни живи,
Смерть в час придет урочный,
О нерастраченной любви,
О нежности и прочем.
Хотя б немногие и пусть
Не сразу, постепенно
Почувствуют всю боль и грусть
В стихах моих надменных.
ПРОЗА
БАБУШКИНЫ СТАРИНЫ
Бежали километры сквозь колючий ветер в полдни над улыбающимся в синих лужах солнцем и ночью и под замороженными звездами. В простейших вычислениях от станка до станка двигалось время. Были накромсаны дни и ночи неровными кусками. Приходилось когда три, а то и четыре станка на сутки. Широко полыхали северные зори. Ехали рекой, кое–где сворачивали в сторону, чтоб сократить путь, забирались глубоко в берег, и тогда ночь вплотную к саням гнала темноту гулких лесных стволов, а над собачьими дохами, над тиуковским пыжиком и телячьим малахаем бабая путано колыхалась корявая оголенность ветвей. Потом снова наваливалась луна, переплывала вместе с путешественниками побледневшую Обь и, окровавленная, западала в кустарнике.
Посреди пустынной обледенелой реки, у натыканных чьей-то заботливостью прутяных вех крылась, рябила бессонная вода. Тут слезал бабай, с разбойным свистом набрасывался поземок и относил его, не защищенного санями, прямо к проруби. Звенело ведро. Коняга пил не спеша, подрагивая раздутыми ноздрями.
На постоялых спали, ели холодное мясо, сено докупали и скармливали коню остатки овса. Колхозные дворы отчитывались избяной натопленной похожестью.
Чаще и смелее сворачивал бабай на проселочные. Снег сыпал по отвесу неистощимо. Спотыкалась лошадь, перебрасывая с ухаба на ухаб сани. Наконец выбрались на неведомую речонку и погнали вдоль. По берегам тянулся хвойный лес. Плыл он неустанно вверх, силясь подняться над снежной вуалью. На фоне темных стволов, над ровным срезом бровки появились совсем рядом белые, будто вырезанные из картона, профили куропаток. Бесшумно опахнув кусты, поднялся беркут и поплыл над ивняком, оглаживая испуганный воздух ленивым размахом саженных поржавленных крыльев.
Встревожился бабай, как бы зря в сторону не отбиться. Свою дорогу упустили, и придется им теперь до первых изб добираться, покормить да разузнать, как способнее обратно податься на тракт. Выехали с рассветом, а время уже давно за обед перевалило. Примаялся конек, мокрый весь сделался, едва нахлестали к далеким петушиным призывам, к собачьему гавканью.
Домики грибным семейством притаились в овраге, на их коротких срубах взгромождены пышные шапки снега. Выглядела улочка непроторенной. Казалось, зазимовало, законсервировалось становище с неведомых времен.
В прибранных сенцах приезжие сухим полынным веником отряхнули пимы, разделись, и пригласила их пухлотелая старушка в горницу, вихрастой внучке велела самовар ставить, а сама опять за пряжу села. Чем-то древним пахнуло от длиннот ее голоса, отвечала на расспросы обстоятельно, ласково, всё будто забирала сливочное масло щербатым ножом прямо из туеска и обильно уснащала аржаную речь – «покушай, дескать, родименький, нашего хлеба-соли».
Русская печь белела, точно гипсовая; под ногами стлались крашеные половицы, и во всем гнездился непоколебимый покой. Тишала горница сказочным зачином, а принявшийся самовар уже тоненько выводил:
«В некоем царстве, в некоем государстве…»
– Старик мой хаживал, как же, и лабазы ладил, – напевала хозяйка, – а вот давеча гость-то к нам под окошко приходил. Слыхать – возится, навалился кто-то. Скрипят наличники. «Кому быть?» – думаю. Наутро вышла я, следу босого наворочено, не приведи Господи. Приклонилась и вижу: всё с когтями пришлепывал и наличник поцарапал. Как мужик, в избу заглядывал. Много у нас зверя этого. О прошлом годе мой-то с Миколаем, зять ему будет, на берлогу ходили…
Время шло по-медвежьи, вперевалку. Под линялым повойком сладким испугом морщилась старушечья память. Пряжа сучилась и покачивалась, наплывали одутловатые ситца, будто налитые теплым тестом.
Самовар ныл:
«Я на липовой ноге, на березовой клюке…»
– Кто тама? – окликнула бабушка.
Горница затаила дыхание. В окнах насторожились лиловые тени. Дверь скрипнула и широко отвалила березовую челюсть. А через мгновенье, ломай кости, рухнул фантастический сказ, полный страхов и жадных мечтаний о подвигах безвестной старухи. Неустрашимым реализмом ввалился и сорвал шапчонку с потных кудрей представитель нового поколения. От самых дверей несся, сокрушая затихшие бабушкины древности, его восьмилетний мужественный голос.
– Опять, бабка, избу не освежила, несознательная ты. Протухнем с тобой без воздуху, полезай на печь, дверь открою, – командовал он.
На приезжих мальчик округлил глаза, бросил на стол учебники и подошел поздороваться. От его улыбки пахнуло морозной свежестью:
– Что же чай плохо пьете, товарищи?
– Ты чего, родимый, поздненько? – робко осведомилась бабушка.
– Я уж уроки сделал. У Васьки был. Вместе с Васькой заданное учили, – пояснил он.
В подражание хозяйке Тиунов перевернул пустой стакан и, вытирая губы платком, обратился к мальчику.
– Нравится школа?
– Учитель толковый у нас, – и, неприязненно покосившись на литровку бабая, школьник с осторожностью тронувшего пешку шахматиста подвинул вопрос:
– А ты из каких будешь?
– Я писатель, книги пишу.
Мальчик прищурился, рассматривая Тиунова с недоверием, как вещь незнакомую и едва ли отвечающую своему назначению.
– Чего ты уставился? – не выдержал тот.
– Значит, говоришь, писатель?
– Да.
– И карандаш ты имеешь?
Тиунов открыл полевую сумку. Передний простеганный карман ощерился целым строем карандашей.
– Толковые у тебя карандаши, – с достоинством сказал мальчик.
Тиунов отбросил сумку и, закуривая трубку, спросил:
– Медведей не боишься, малый?
– Бабка набрехала уже тебе?
– Разве не правда?
– Не в центре живем, понятное дело… Ну, мне не до них. Отец всё по берлогам шарил, а мне первый интерес в учебе.
Он повел плечами, независимо отвернулся к обледенелому окну и вдруг стремительно:
– Ты один карандаш дай мне, нет у меня хорошего, – и, глубоко вздохнув, заключил: – всё равно не исписать тебе столько…
Старушка сладко зевнула и часто-часто закрестила рот пухлой щепоткой. Протягивая школьнику пару карандашей, Тиунов подмигнул:
– Таких бабушек больше не будет!
– Теперь молодые будут бабушки, – захохотал мальчик.
1934 г.
ВСТРЕЧА
Впервые я услышал имя Антипа Ершова от загорского художника Ивана Ивановича Овешкова.
– Вы знаете богородских резчиков, – сказал он, – эти мастера безукоризненно владеют ножом и стамеской, но вам еще необходимо познакомиться с Антипом Ершовым. Это топорник из лесного Семеновского района. Более высокой техники топорного мастерства вы ни у кого сейчас не найдете.
И слово «топорник», и фамилия Ершов ассоциировались с лохматым человеком, в седой, курчавой, как львиная грива, бороде которого застряли древесные стружки. В моем представлении всклокоченный Антип стоял посреди поверженных бревен с блуждающим взглядом голубых, выцветших глаз и, точно на пожарище, размахивал в воздухе топором.
Увидеть Антипа Ермилыча мне пришлось в декабре тридцать пятого года в городе Горьком, на выставке хохломских и городецких изделий. Здесь, на слете мастеров Горьковского края, собрались преимущественно художники народной росписи. Из резчиков присутствовал один Ершов.
Неслышно ступая по паркету, он вошел в залу. В нем не было и следа взъерошенности, не оказалось у него ни голубых глаз, ни размашистых движений. На нем – длиннополый, коричневый, старого покроя и очень добротного материала пиджак. Он костляв, худ и по-стариковски поднимает плечи. Голова его как бы облита черными, длинными и прямыми волосами, которые переходят в маслянистую, растущую от самых скул бороду. Древний раскольничий лик перерезан чертой густых бровей. В провалах глазниц искрится темный проницательный взгляд.
Я подошел поздороваться. Ершов подал костлявую широкую руку и раздумчиво произнес:
– Здравствуйте.
– Как жизнь, работа? – осведомился я.
– Вот, видишь, на завещание нас вызвали. Хотят премии давать, – сообщил он. Затем, бесшумно шагнув вплотную ко мне и таинственно озираясь по сторонам глубоко запавшими карими глазами, он зашептал: – Ну как, глядел ли мои вещи?.. Тут они стоят. Только лачены под Хохлому и виду в них настоящего нету…
Осиновых драконов Антипа Ершова, его ковши с конем-зверем, которого держит на деревянной цепи монументальная фигура ездока, его женщин у колодца с подвешенными к коромыслу на таких же деревянных цепях ведрами, его традиционные братины, ендовы, скобкари и причудливые уполовники знают не только у нас в Союзе, но и далеко за рубежом.
Об Ершове писал в «Правде» Михаил Кольцов. В «Наших достижениях» был о нем очерк Е. Вихрева. Ершова приглашал к себе в гости Максим Горький. Бородатый облик знаменитого резчика украшает программу, изготовленную к последнему совещанию мастеров хохломской росписи, созванному в Москве…
Древний центр щепного промысла, родина деревянной ложки и ковша – Семенов – оказался крохотным, почти игрушечным городком. На центральной площади его громоздится недостроенный Дом культуры и возвышается ажурная, наподобие Эйфелевой башни, пожарная каланча. От каланчи лучами расходятся во все стороны опрятные улицы. Вплотную к городу примыкает узкий и длинный поселок Хвостиково, а вокруг города, за огородами и полями – кольцо сплошного, подернутого дымкой леса.
Мне рассказали, что Антип Ершов сейчас дома, у себя в деревне Деяново, в трех километрах от города, и что у них в Ложкосоюзе объявился недавно новый мастер со Взвоза – одноглазый Исаак Абрамов, и будто ничем он Ершова не хуже, и хотя много моложе, но, должно быть, Антипа перекроет в работе. Рака сделал Исаак такого, что Ершов совсем огорчился и три дня ходил мрачный, а потом тоже рака принес. Но у взвозовского всё же рак получился лучше, потому, дескать, Абрамова вместе с Ершовым в Москву во Всекопромлессоюз вызывали на совещание и обоим дали премию по пятьсот рублей. Мне советовали обязательно съездить к Исааку Абрамову – хоть это и подальше Ершова, но тоже недалеко, всего за восемь километров, на берег Керженца, деревня Ввоз.
В одно из своих свиданий с Антипом Ермиловичем в Деянове я спросил, как расценивает он работу Исаака Абрамова
Мы сидели в тесной избе Ершова. Он был в очках, в черной косоворотке и сосредоточенно резал огромным остроконечным ножом осиновую цепь. А за его спиной, на бревенчатой стене, покоились увесистые, хозяйственно запасенные на зиму вязанки репчатого лука.
– Про взвозского ничего не стану говорить, хороший мастер, – сказал Ершов, – только у его рака усы склеены, приставные, а я сделал самородны, из цельного куска, и вверху всё вырезал по природе, а под низом, конечно, ни к чему делать природу. Я на Сановку ходил за раком, измок весь, не поймал ничего. Уже к вечеру зацепил одного махонького. Он у меня попортился за ночь, дух от него – бросить только. К чему, думаю, ловил на Сановке, а в расчет не взял, что в пивной он всего десять копеек вареный… Но мне только форму снять, чтоб по природе. Я эдак раз по лавкам ходил. Придумал вырезать ковш с рыбами. Спрашиваю окуня либо сорожку. Хоть солёну, а достать требуется…
В очках у Ершова вид весьма академический. Прямые гладкие волосы спадают к самым бровям. На фоне бороды, в узловатых пальцах зажат осиновый брусок еще не рассыпанной цепи. На расспросы отвечает он скупо и, будто нехотя, сообщает певучим голосом, что ему теперь шестьдесят шестой год, что до двенадцати лет работал уполовники.
– Я, пока не женимый был, в балагане на Нижегородской ярмарке играл на гармони, слух у меня имелся хороший… И тут насмотрелся я всякого елименту и разгадал все ихние секлеты…
Полный суровой мечтательности, он смотрит куда-то вдаль, за пыльные стекла окон, где холодный осенний дождь сечет облупившиеся жерди забора.
– При Миколае я определился в казенны лесники. Годов мне было что-нибудь двадцать пять. Обход тут же, у Деянова. Получал двенадцать рублей в месяц. Ну, через водку беда получилась, потому и сам лесничий, и объездчик тоже выпивать могли до отказу. Мужики у нас клейма украли да и наклеймили чуть не сорок дерёв. Гляжу, пропадать мне за такую историю… С этого стал я умственно задумываться. Был в Семенове купец Пирожников, на него работали старики: Чуркин из Деянова, Ложкарев из Колоскова да Иван Сергеевич Музжухин – первый мастер был по ковшам. Я у него поучился и тоже Пирожникову сдавал года три. А потом заболел Пирожников; ему триперацию сделали, но не угадали Он жить-то и наплевал. А нас доверенный его Буреничев еще крепче притеснять стал ценой. Я у конторщика и выведал: «Скажи, мол, мил человек, куда хозяин представляет их, наши-то вещи?..» Тот парень был простодушный: так, говорит, и так, «отправляет к Троице-Сергию, Миките Миронычу Митрейкину, у того своя мастерская имеется. Там отделывают и полируют ваши ковши». Неграмотный я приехал в Сергову Лавру, в Загорск по-нашему, и тут же разыскал Микиту Мироныча… Только смотрю, положения мне настоящего нету. Подобрал он меня к рукам, а заработком обижает, жмется. И тут случилось, что на улице Вифанке, через чайну, познакомился я с одним хорошим мастером. Тот свои поделки носит прямо к художнику Владимиру Ивановичу Соколову. Я тут хитрость делал и обманул Митрейкина. Теперь, значит, Соколов мне стал давать образцы старинных ковшей, и по чертежу работал я для него. Говорил он, чтоб пусть меньше, но лучше старался сделать, воспитывал. Потом я каждый год стал ездить в Сергиев. Бартрам-художник тоже давал мне листки и чертежи… Тонко я вызнал все заказы; Соколов расставит, бывало, образцы, а я ему отберу: «Вот, мол, эти не пойдут». Удивляется: «Почему?» – «Знаю». Так и выходило по моему слову.
Пятнадцать лет Владимир Ивановичу носил ковши, больше никому. А Владимир Иванович Соколов был поставлен на то дело от Саввы Морозова. Огромадные тыщи в банке имел Морозов… Я и в Кудрине бывал. Перенял там круглу резьбу и геметрическу. Искусственно могу резать. Вот выборная резьба затруднительна… Я и сейчас стал бы выборной разделывать ковши, но полировать не научился, только на пятьдесят процентов могу. В Кудрине хорошо стали полировать, я смотрел. Может, я и смог бы, ну нет у нас в Ложкосоюзе этого естества для полировки. А геметрическа сама проста резьба, у меня старуха может резать геметрическу.
Антип Ермилыч снова склоняется над осиновым бруском, размечает его поверхность огрызком лилового химического карандаша и молча зарезает первые членения будущей цепи. За окном смеркается, и хозяйка Ершова. Марфа Захарьевна, бережно снимает стекло с подвесной керосиновой лампы.
Я жду, не расскажет ли Антип Ермилыч еще что-нибудь. Но он усиленно работает огромным, как косарь, ножом и молчит. Мне хочется выяснить отношение Ершова к лесу, и я спрашиваю:
– Когда лесником служил, наверное, охотой заниматься приходилось, Антип Ермилыч?
– Давали мне ружья, – кивает Ершов, – стрелял, стрелял, не умею… Зашиб пичужку махоньку и сжалился над раненой птицей. Больше в руки не брал ружья… Зато за грибам против меня никто не может. Рыжиков едал ли в этом годе?.. То-то! Не уродились рыжики, а у меня цельна кадка их засолена, потому я один знаю, где их найти сухим годом. Рыбой я тоже интересовался. На Сановке у нас называется жужелевский омут. Пять человек сидят попусту, а я один подергиваю. Марфа, – обращается он к хозяйке, – ты рыжиков принеси гостю, первый по вкусу гриб рыжик соленый, с лучком, с конопляным маслом.
На столе появляется самовар и плошка с солеными грибами. Некоторое время мы занимаемся рыжиками и пьем густой чай. В чае Антип Ермилыч знает толк и признает только самые высокие сорта.
– Курить вот набаловался, – говорит Ершов, – до шестидесяти лет не куривал, а тут взял в привычку. Раньше по старой вере не курил. Сейчас отстал от старой веры и к новой не пристал. Хозяйка по новой вере, а я, значит, нигде.
Антип Ермилович поднимается и достает из кивота пачку фотографий. На фотографиях установлены рядами его ковши, ендовы и скобкари.
– За свою жизнь я боле тыщи штук переделал разных. Один не сделал, а о другом думаю, чтоб придумать первый выпуск… Не влечет к деланному-то. Всю жизнь не сплю. Всё умственно задумываюсь, чего бы сотворить… С картинки не хочется, а вот бы из природы снять, с реки.
Ершов оживляется и путанно рассказывает о своих созданных для удивления ковшах «огромадных» с медведем и боярином, где при помощи гусиного пера и кнопки медведь подавал голос. За этот двухаршинный ковш при Николае ему хотели определить золотую медаль, но медаль для него не представляла интересу, и потому он попросил деньгами и тут же в одни сутки прогулял все сто пятьдесят рублей. Были у него ковши и с шестью язями, и еще был ковш с двумя халупами, колодцем и скворешником, на котором «самочка махонького червячком кормит». Тут, умильно улыбаясь, совал Антип Ермилыч себе в рот заскорузлый, согнутый наподобие червя палец, пытаясь изобразить, как это она кормит махонького.
– Много я за свою жизнь обучил народу, – говорит он, – если теперь выставки будут каждый год, то пойдет это дело у моих племянников, у молодых Углановых. Потому они через выставки друг перед дружкой тянутся…
И, как бы устыдившись своего возбуждения, Антип Ермилович принимается яростно ковырять цепь. Строго взглянув на меня, он поучает:
– Ты на чепь смотри. В Москву приедешь – расскажешь, как чепь делать из цельного куска, чтоб не склеена была нигде. Вот сейчас рассыпать ее буду. Понимаешь ли теперь?..
Я робко признаюсь, что понимаю и, пожалуй, теперь сам сумею вырезать такую цепь.
– А я что говорю. Кому покажу – всякий сделает. Ты вот первый бы придумал это умственно, а покажу – конечно, сделаешь… Хоть не сразу, ну, помаленьку. Я сам сначала только по два кольца в день делал. Теперь по тридцать колец могу.
Известно, что подобные деревянные цепи на ковшах резали в Монголии, но я молчу, понимая, что Ершов никого не повторял, в действительно сам изобрел уже существующую, но не виданную им цепь.
– В Сергове резчик Александров смотрел мою чепь. «Ничего, говорит, не могу сказать» Семьдесят пять резок у него, а у меня всего четыре, и отказался понять, – победоносно повествует Антип Ермилович. – «Оставь, говорит, мне ее до завтра». Утром прихожу, объясняет. «Вот как ты ее сделал…» Правильно, мол, а ты как дошел?.. Он признался, что мочил чепь и по слоям дошел, а не умственно. Я вот и в Москву отвез чепь, сто колец, бесконечну. Сама в себе замкнута и вся из цельного куска. Уж эту, если не скажу, не догадается ни один. Бесконечну сделать – это самая хитрая работа.
Антип Ермилович начинает бережно пропиливать, разнимать звенья уже принявшей скульптурную форму цепи. Это и значит на его языке – рассыпать цепь. Я с большой осторожностью поднимаю вопрос о смысле этих цепей. О том, что, быть может, не обязательно тратить столько времени на любопытную забаву, не имеющую прямого отношения к его художеству. По ковшам он первый мастер, а тут интересный трюк, фокус, и только. Ведь сам же он утверждает, что если показать, то любой сможет вырезать такую цепь, тогда как ершовский ковш неповторим…
Антип Ермилович, по-видимому, не собирается возражать. Некоторое время он продолжает зачищать ножом аккуратные звенья цепи. Затем откладывает работу и снимает очки. Он искоса взглядывает на меня и тотчас отводит в сторону глубокие темные глаза. Ершов вообще избегает смотреть в упор на собеседника и только изредка метнет зрачки, как бы вскользь, но такая мгновенная встреча с его глазами всегда значительна. И сразу понимаешь, что сейчас он обязательно скажет что-то главное, без чего никак невозможно понять ни цепи, ни ковша, ни самого Антипа.
– При Миколае дело было, за Москвой, в Сергове. Лет сорок уже было мне… Через свою работу сшибался с ума, – говорит он. – Сну не было. Пища не шла. Стал сшибаться. Только выплатили мне за ковши полторы сотни, всё серебряным рублям. Билет тоже был выправлен у меня третьим классом до Нижнего. А я сшибся и пошел пешком по шпалам, от Сергова на Москву. Ночь была, июль месяц. Иду, оглянусь, и видится мне толпа. Соображаю, убить меня хотят. Стал откупаться. Положу рупь серебряный на рельсы, поспешаю дальше. Оглянусь – идут они опять. Так все сто пятьдесят новеньких разложил, сам бегу. Неужто, мол, не отстанут?.. И откупаться дальше нечем. Тут в понятие вошло, что за струментом это они. Поставил им корзину, весь свой струмент, отбежал шагов за сто, смотрю – отстали. Дошел до станции Пушкино, взял ручку семафора, как рвану!.. Сломал. Сила во мне была в то время огромадная. Забрали меня. Видя, пачпорт в порядке, а я не в себе. Вернули в Сергов, а оттуда в сумасшедший дом. Сейчас помню, какая тоска находила, мечтал, хоть бы нож, либо в петлю. Три месяца отсидел в сумасшедшем доме. Найдет тоска со всего вольного свету, куда деваться?.. Тайком оторвал кромку от одеяла, заделал петлю и скорей в уборную давиться. Смотритель за мной, а я ухватил чугунну пластинку – в уборной была такая пластинка для прикрытия, вроде гирьки, – в лоб ему тюкнул. Прошиб голову. Меня скрутили в одеяло и начали валять. Уму непостижимо как остался жив. Но сделался смирный. Подержали еще столько-то и выпустили домой. Пить не велели совсем.








