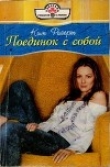Текст книги "Марджори в поисках пути"
Автор книги: Герман Воук
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
– Боже мой! – непроизвольно всплеснула руками Марджори.
– Это еще не все. Да, эти люди – соль земли. Милдред Уиллс собралась и ушла в самом разгаре всего этого, а меня оставила расхлебывать. У Элен и Боба в довершение всего не оказалось ни копейки денег. Похоже, что за них платила Милдред. Так что мне пришлось расплачиваться за весь разгром и платить доктору, прежде чем мы убрались оттуда. Чудесно, не правда ли? Мне это обошлось в двести долларов. Но я, по крайней мере, горжусь тем, что это ничуть не нарушило моих планов, я много работал по вечерам. Тебе все это отвратительно? Надеюсь, что так. Мне тоже. И я рад, когда чувствую твое отвращение ко всему этому.
– Но, Ноэль, ты же знаешь, как я всегда относилась к этим людям… обыкновенным мещанам…
– Да, но надо знать и это, дорогая. Я отнюдь не утверждаю даже сейчас, что единственно достойный образ жизни – это отдых добропорядочных граждан в Центральном парке. Но и эти загулы мне не по душе. Ты совершенно права насчет этих людей и всегда была по-своему права… – Он взглянул на часы. – Проголодалась? Для Парижа еще чертовски рано ужинать, но так как ты с дороги…
– Да я хочу есть с того момента, как ты начал жарить у меня под носом эту курицу.
Он засмеялся и встал.
– Это было час тому назад. Почему ты мне ничего не сказала? Я бы поторопился. Можно попросить тебя приготовить классический салат? А я в это время накрою на стол.
Марджори несколько раз ужинала в квартире Ноэля в Гринвич-Виллидж. В те времена он был довольно небрежным кулинаром, но прилично готовил спагетти и жареных цыплят по старинным рецептам. Однако с тех пор все изменилось. Они ужинали при свечах, в ведерке с колотым льдом охлаждалось вино, горячие блюда стояли на декоративном очаге с электроподогревом; он даже разыскал в спальне Герды цветы и уложил их розеткой в центре стола. Быстро и без тени смущения он подавал и убирал блюда. Но все это производило на Марджори прямо противоположный эффект, она становилась все скованнее и не могла расслабиться, потому что Ноэль являл собой довольно курьезное зрелище, сначала возясь на кухне и подавая еду, а потом разваливаясь в своем кресле с видом пресыщенного жизнью сибарита, ужинающего при свечах. Сначала он подал креветок в густом горчичном соусе, которого ей до этого никогда не приходилось пробовать. Он сказал, что соус приготовлен по его собственному рецепту. Затем последовали горячие рогалики и густой острый суп. Цыпленок в вине оказался великолепным – изысканно вкусным, тающим по рту, мясо и хрустящая корочка отделялись от костей при одном прикосновении вилки, вкус птицы ненавязчиво доминировал над кисловатой терпкостью бургундского – за все свои путешествия ей не приходилось есть ничего более вкусного. К этому моменту Марджори выпила уже довольно много вина и ей приходилось себя сдерживать. Она сказала:
– Не знаю даже, что это на тебя нашло, Ноэль. Могу только сказать – какой-нибудь девице повезет с таким мужем.
Он усмехнулся, его глаза заблестели от удовольствия.
– Нет, в самом деле, удался цыпленок? Выпей еще немного монтраше.
– Благодарю, все изумительно, абсолютно все блюда. Не могу понять, почему ты решил блеснуть, но это мастерское представление. Я никогда не решусь больше что-нибудь приготовить для тебя.
– Что ж, я рад, что тебе понравилось. Должен сказать, кулинария может быть настоящим искусством созидания. Я более или менее серьезно занялся ею лишь в последнее время. После Касабланки. Не могу даже сказать, почему… Ты когда-нибудь читала «Дженнифер Лорн»? Там есть довольно трогательный рассказ о юном принце, который был кулинаром от Бога, и в трудные для него времена он пытается заработать себе на жизнь этим искусством. Я так далеко не захожу, для меня это никогда не было более чем хобби, но, должен сказать, я извлекаю из него огромное удовольствие. Что из того, что твои творения уничтожаются и исчезают в считанные минуты после своего появления на свет? Разве это умаляет их достоинства? Я готов поспорить с любым поэтом, что по-настоящему талантливый кулинар приносит людям куда больше радости, чем вся поэзия.
– Надеюсь, это не относится к твоему творчеству, не так ли, Ноэль?
Он подался вперед, закурил сигарету от огня свечи и откинулся назад, улыбаясь.
– Надеюсь, что нет. Кстати сказать, это американский варварский обычай, от которого я не хочу отвыкать, – курение до окончания ужина. Но, несмотря на все мои прегрешения, я еще и сделал куда больше того, о чем написал тебе в письме, Мардж. Я с головой ушел в философию. И мне кажется, что я смог отыскать жемчужину. Если ты помнишь, я как-то говорил тебе, будто собираюсь заняться экономикой, чтобы поспорить с коммунистами на их собственной почве, – так вот, я это сделал. И пришел к любопытным результатам. Я прочитал всего Маркса и Энгельса, и, конечно, их изучение ни к чему не приводит, а если взять все английские труды Маркса, то ясно только то, что он пытается всех опровергнуть вплоть до старого доброго Адама Смита, но потом приходится прочитать новейших экономистов вплоть до Кейнеса, и даже основные философские работы, потому что экономика не более чем кусочек общей проблемы поведения человека в материальном мире… Тебе неинтересно слушать все это, не так ли?
– Напротив, нет ничего интереснее.
– Ладно, сейчас я подам кофе и коньяк – и кусочек сыру, не правда ли? Острого? Или мягкого?
– Какой у тебя есть.
Сыр оказался мягкой зеленоватой массой, почти жидкой, с резким запахом. Марджори ужаснулась ему. Но Ноэль так страшно им гордился, – очевидно, это был редкий и дорогой французский шедевр, – что она намазала немного этой массы на кусочек бисквита и проглотила его. Коньяк, наоборот, имел странный светлый цвет, слегка маслянистый вид и великолепный вкус. Пока он говорил, она выпила несколько маленьких рюмок. Кофе, приготовленный Ноэлем, оказался чудесен, кофе всегда ему удавался. Он похвастался, что знает несколько мест в Париже, где можно отведать настоящего кофе по-американски.
– Это еще один варваризм, большая чашка, на вид не очень крепкий, но от небольшого глотка этого напитка лягушатники бегают по стенкам… я люблю кофе по-американски и всегда буду любить… Так о чем это я? Относительно дискуссий с коммунистами, получилось так, что это вообще перестало быть проблемой. Маркс довольно убедительно критикует капитализм девятнадцатого века, особенно в его английском варианте. Но уже после, скажем, мировой войны это столь же далекое прошлое, как и времена Птолемея. На самом деле вся теория стоимости стала просто абстракцией, инструментом, кстати, очень специализированным инструментом, работающей абстракцией вроде квадратного корня из минус единицы. Что же до теперешней линии партии, то это просто клубок догматической болтовни, который имеет столько же общего с Марксом, сколько и с Марком Твеном. Это банальный итог всякой теории, которая едва ли стоит беспокойства о ней. Но открытие, которое сделал я, – а я на самом деле думаю, что это только мое открытие, хотя во всей литературе рассыпаны намеки на это, – это нечто другое. Ты знаешь, Маркс заявил, что он поставил Гегеля с ног на голову. Я считаю, что нашел способ поставить на голову Маркса. И если я еще не утомил тебя – я же знаю, что такими вещами ты не интересуешься…
– Нет, я тебя слушаю. И наслаждаюсь этим коньяком, Ноэль.
Марджори пришло в голову, что он становится все более и более привлекательным. Она начала замечать самые незначительные перемены в нем. Она еще решила, не без скрытого удовольствия, что он начинает проявлять тот же мальчишеский энтузиазм, который ей приходилось и раньше в нем наблюдать. Когда он говорил, его глаза сверкали, как и раньше; было приятно узнавать знакомые ей нервные жесты, то, как он запрокидывает голову, как время от времени проводит костяшками пальцев по чисто выбритой верхней губе; все это оживляло старые воспоминания, порой болезненные, порой приятные, но всегда чертовски яркие.
– Как и положено всем основополагающим идеям, – продолжал между тем Ноэль, – эта была явлена миру в восьми толстых томах, но ее суть можно изложить в одной строке. Главной заслугой Маркса и его вкладом в критицизм является то, что он выводит мораль, религию и философию как функции экономических отношений в обществе. Это истина, великолепное наблюдение, в этом нет никакого сомнения. Эффект этого открытия был сокрушительным. Мое же открытие состоит в том, что, если погрузиться в эту теорию достаточно глубоко, то вся картина меняется. Она выворачивается наизнанку – это мой взгляд на ее сущность, И я должен посвятить остаток жизни доказательству этого; но – я в этом уверен – получается, что все экономические отношения в обществе на самом деле определяются религиозными верованиями того же общества– и что вся экономика, все глобальные понятия – деньги, доход, труд, абсолютно все – являются частью прикладной теологии. Вот что я понимаю под словами «поставить Маркса на голову». – Он замолчал и посмотрел на нее, положив обе руки на край стола. – Думаю, что все это для тебя не более чем скучная заумь…
Этот монолог так живо напомнил ей его былые теории, что она, едва удерживаясь от улыбки, произнесла:
– Нет, мне интересно, Ноэль, но, дорогой, ты взял на себя колоссальную задачу.
– Колоссальную? Да это же потрясение основ, – сказал Ноэль, и пламя свечей двумя желтыми точками отразилось в его глазах. – Ну а как тебе коньяк? Великолепен, не правда ли? Выпей еще, ты едва к нему притронулась.
– Что? Да я и так уже хороша, Ноэль… Нет, не так много, пожалуйста, половину рюмки…
– Давай, такого тебе больше не придется пробовать. Лягушатники выходят из себя, если американец покупает бутылку такого коньяка, для них это все равно что продать картину из Лувра. На ней никаких завлекательных этикеток, никакой паутины, ничего, это настоящая конспирация против иностранцев – человек, который мне ее продавал, был бледен и трясся всем телом. Он, должно быть, схлопотал за это лет десять тюрьмы. Бедный парень, я так и вижу его, голыми руками роющего себе подземный ход… – Он изобразил сошедшего с ума заключенного.
Марджори расхохоталась.
– Боже, какой ты фантазер! Это отличный коньяк, но не более того… Ноэль, неужели ты в самом деле все это прочитал? Мне кажется, на это должны уйти годы.
– Это правда. Я всего лишь поскреб верхний слой. На самом деле я, наполовину прочтя «Капитал», едва понял основную мысль. И это так меня заинтересовало, что я пролистал его до конца и пробежался по основным трудам Энгельса… Кстати, он гораздо лучший стилист и куда четче мыслит. Исторический парадокс и даже несправедливость заключаются в том, что все это учение стало известно как марксизм. Я очень верю в театральный эффект исторических событий, как ты знаешь. В это верил и Наполеон, еще один отличный мыслитель… и я убежден, что если бы у Энгельса была такая же длинная и густая борода, как и у Маркса, то учение стало бы известно как энгельсизм… но это всего лишь побочный вывод… что же до…
Марджори зашлась от смеха. Ноэль спросил:
– Что такое? Что с тобой случилось?
– Э… Энгельсизм… Это так смешно звучит! Честное слово, Ноэль. Энгельсизм. Ха-ха-ха!
Ноэль усмехнулся, потом его лицо стало серьезным, это была его обычная реакция, когда его шутка достигала цели.
– Отлично. Ты всегда была моим лучшим слушателем. Но здесь я шучу лишь наполовину. Во всяком случае, здесь можно прийти к серьезным выводам, так что не хихикай. На самом деле я просмотрел целую кучу конспектов, энциклопедий, компиляций и тому подобного, вполне достаточно, чтобы убедить самого себя, что идея в основных чертах абсолютно верна и совершенно оригинальна. Но такой вопрос нельзя разрабатывать поверхностно. Я готов года на четыре зарыться в книги, а потом еще года четыре писать. Считая все задержки, тупики, неудачи и прочие препятствия, все предприятие, по моим прикидкам, займет лет десять. Но это будет работа в охотку. Единственная проблема в том, чем я буду жить все эти десять лет. Заказы на песни выпадают слишком редко, и, если уж говорить совершенно честно, я вкладываю в них слишком много души. Может быть, мой талант измельчал, или изменился я сам… мне ведь все-таки тридцать три… так что я должен решить, как мне прожить от тридцати трех до сорока трех лет. Ну что ж, я решу и это… Если ты больше не будешь, то я выпью еще коньяку. И давай перейдем в гостиную. На этих стульях невозможно долго сидеть.
– Но, может быть, сначала уберем со стола и вымоем посуду?
– Не строй из себя идеальную домохозяйку. Я же говорю с тобой о серьезных вещах.
– Да это минутное дело, а потом – вдруг она появится? Давай рассказывай, и будем убираться.
– Когда я мою посуду, то могу только проклинать тот день, когда я появился на свет, а что до Герти…
Но Марджори уже встала и начала убирать со стола, чувствуя, что коньяк ударил ей одновременно и в ноги, и в голову.
– Помолчи, Ноэль, давай все-таки уберем со стола. Иначе я просто не смогу здесь сидеть…
Бурча себе под нос, он согласился. Но когда посуда была собрана в мойку, он отказался ее мыть.
– Будь я проклят, если и дальше позволю тебе помыкать мною в моем собственном доме. Потерпи до тех пор, когда мы поженимся. А теперь замолчи и пошли отсюда. – Он за руку вытащил ее из кухни. – Давай сюда. Хорошо, что ты захватила коньяк. Я сейчас принесу свечи. Ты не хочешь еще рюмку?
– Ни единой капли, если ты хочешь, чтобы я тебя слушала.
Огоньки двух свечей, внесенных им в гостиную, были маленькими и голубыми. Но, поставленные на пианино, они разгорелись и стали большими и светло-желтыми. Приятный мягкий свет разлился по большой комнате. Ноэль, сев на рояльный вертящийся стул, рассеянно перебирал клавиши, а Марджори склонилась и оперлась на пианино рядом с ним. Огоньки свечей ярко и ровно отражались в черной полированной крышке пианино. Ноэль поднял взгляд на Марджори, его левая рука наиграла несколько тактов вальса «Южного ветра».
– Вспоминаешь былое, а? Ты, я и пианино…
– Да, правда…
– Ладно, не будем становиться сентиментальными. Нам нужно серьезно поговорить. Ты пересекла океан вовсе не для того, чтобы предаваться ностальгии. Я тоже не вижу в этом смысла. К черту былое! – И он с глухим стуком захлопнул крышку клавиатуры. – Ящик Пандоры закрыт.
– Отлично.
– А теперь слушай внимательно, потому что многое будет зависеть от того, как ты это воспримешь.
Он облокотился на крышку пианино, не отрывая от Марджори серьезного взгляда. При свете свечей он куда больше напомнил ей того богоподобного мужчину, которого она впервые увидела в «Южном ветре» так давно.
– Я уже говорил, что много думал о тебе в последнее время. Думаю, я стал лучше понимать тебя. Так помоги мне, потому что после возвращения из Биарритца я почти не могу думать ни о чем другом. В определенном смысле то, что произошло с Бобом и Элен, стало для меня концом всего – концом Парижа, Герды, Европы, бродяжничества, да и даже моего пренебрежения мещанством. Дорогая, на каждое письмо, которое я отправлял тебе, приходится девять написанных и разорванных из-за того, что они вышли сумбурными и глупыми. Думаю, даже сейчас одно такое незаконченное письмо лежит в моей спальне. Но, милая, вот так разговаривать с тобой куда проще и лучше. Я так благодарен тебе за то, что ты нашла меня. Я готов покончить со своей прошлой жизнью, Марджори. Это должно тебя обрадовать. Единственное, чего я теперь хочу, – стать тупым обывателем. Я ясно и четко осознал одно – что бы человек ни делал, он не может оставаться всю жизнь двадцатидвухлетним. И еще мне стало ясно, что двадцать два года, вообще говоря, – довольно утомительный возраст. Быть все время на ногах, спать урывками, постоянно поддавать, постоянно сходить с ума – все это чертовски, чертовски, чертовски надоедает! – Он хлопнул ладонью по пианино. – Даже быть служащим в транспортной конторе, по большому счету, не так надоедает, хотя бы потому, что ты все-таки что-то делаешь. Будучи вечным двадцатидвухлетним – и я честно сознаюсь, что был им чересчур долго, – я не делал абсолютно ничего, только бегал по кругу, как бегает наевшаяся отравы мышь, пока не упадет замертво. Мои планы очень просты. Я хочу уехать домой. Хочу найти какую-нибудь тупую надежную работу в каком-нибудь тупом рекламном агентстве, ходить на нее с девяти до пяти, пять дней в неделю, пятьдесят недель в год, а на две недели августа брать отпуск и постепенно расти по службе до заместителя заместителя вице-президента. Я уже готов принять все это однообразие и скуку. В этой жизни не будет никаких падений, никаких нервных срывов, потому что у меня будут реальные стимулы к жизни, а не просто желание порисоваться, показать миру, чего я стою.
– И какие же это будут стимулы, Ноэль? – мягко и страстно спросила Марджори. Коньяк приятным янтарным туманом заволакивал ей мозг.
– Их два. Прежде всего, это ты. А второе – мое творчество. Я должен написать эту книгу, и я знаю, что никогда не смогу этого сделать, если не уйду в рутину обывательского существования, а ты будешь рядом со мной. Ты единственный человек, который вписывается в эту картину. Вот вкратце и вся история. И я так много думал о тебе, потому что… что ж, потому что я люблю тебя, и еще потому, что ты единственная из всех знакомых мне людей, которая может понять и одобрить это. Если рассказать обо всем этом Герде, или Бобу, или даже Ферди, это будет безнадежно, я знаю.
– Разумеется, – согласилась Марджори.
– Итак, ты одобряешь?
Не зная толком, что ответить на это, и чувствуя, что не вполне сохраняет ясность мысли, Марджори произнесла:
– Я всегда говорила – ты можешь делать все, что считаешь нужным, Ноэль. Если все это так серьезно, почему…
– Я никогда не был более серьезен.
Он взял ее за руку, легко покоившуюся на крышке пианино.
– А ты? Какие планы у тебя?
– Сейчас я еще толком не знаю.
– Если я правильно помню, ты хотела, чтобы из тебя сделали честную женщину. Правильно?
– Что ж, именно это я имела в виду, когда ехала сюда.
– А теперь?
– Друг мой, нынешним вечером я выпила слишком много коньяку, тебе не кажется?
Он усмехнулся.
– Я задам тебе только один вопрос. Ты все еще любишь меня, Марджори? Пережила ли твоя любовь весь тот ад, в который я вверг тебя? От этого зависит все.
– По-моему, здесь есть еще один нюанс, не так ли? Знаешь что, Ноэль? Я хочу, чтобы ты сыграл мне. Думаю, мне надо еще погрузиться в волны ностальгии, как раз сейчас.
Он взглянул ей в лицо. Потом открыл крышку пианино. Одна из свечей притухла и задымила, но потом снова ярко разгорелась. Он сказал:
– Можно мне задать тебе бестактный вопрос?
– Конечно.
– Мне почему-то кажется, что ты влюблена в Майка Идена.
Волна тревоги, чем-то даже приятная, пронеслась в душе Марджори.
– Что заставляет тебя так думать?
– Весь вечер я чувствую в тебе нечто такое… не забывай, дорогая, что я Чародей в Маске. Иногда девушка произносит как-то по-особому имя или особенно выглядит, когда говорит об этом. – Марджори ничего не ответила. Он не отводил он нее взгляда, его пальцы по-прежнему покоились на клавишах. – Но это же совершенно невероятно. Человек, который даже не еврей… – Она по-прежнему молчала, и после паузы Ноэль продолжил. – Дорогая, я могу понять и принять все, и я искренне надеюсь – все, что я скажу тебе, ты примешь без обиды. Если ты не знаешь самое себя, то я знаю тебя и поэтому могу сказать тебе: если ты что-то задумала насчет Майка Идена, то это не более чем пустая мечта, и чем скорее ты откажешься от нее, тем лучше будет. Если ты хочешь забыть меня – прекрасно, это именно то, о чем я все эти годы просил, по правде говоря. Но Майк – это отрезанный ломоть, не говоря уже о том, что он не еврей, это же просто кусок льда, клинический невротик, обуреваемый своими комплексами…
Марджори прервала его:
– Это становится несколько утомительным, ты не находишь? Да и кто тебе сказал, что я влюблена в Майка Идена? Я вовсе не влюблена в него и не хуже тебя знаю, что быть в него влюбленной невозможно. Но это вовсе не значит, что он меня не привлекает. На самом деле я нахожу его очень привлекательным, и если это задевает твое тщеславие, то я ничего не могу с этим поделать, дорогой.
Озабоченное выражение на лице Ноэля сменилось прежней улыбкой, сардонической и довольной. Когда эта улыбка расцвела на его лице, Марджори почувствовала, что ничего не изменилось.
Он медленно провел костяшками пальцев по верхней губе.
– Черт возьми, хорошо сказано! Мне остается только встать и поклониться. Марджори, ты прошла долгий путь. Ты духовно выросла, это совершенно очевидно, а мне предстоят из-за этого большие хлопоты. Но все равно это чудесно. Именно такого вызова я ждал уже долгое время. Позволь только спросить и не бей за такой вопрос канделябром: что, ради всего святого, ты нашла в Майке? Я знаю, он далеко не дурак, но его всегдашняя презрительная усмешка, надменный вид, постоянная озабоченность – и ты, самая добрая и воздушная из всех людей, кого я знавал… Но теперь он даже начинает мне нравиться – потому что он читает книги и всегда может с тобой спорить, пока ты не потеряешь сознание… и в то же время я совершенно уверен, что он никогда не переспорит меня, но…
– Ладно, он для меня только приятный собеседник. И еще мне нравится его чувство юмора.
– Чувство юмора? Милая, да об одном ли человеке мы говорим? За те три недели, что мы провели вместе, Майк не сказал ничего смешного – всегда нервный, злой, как собака… Более того, я никогда не видел, чтобы он обратил внимание на девушку. Уверен, что у него по этой части не все в порядке.
– Ну, здесь ты совершенно не прав.
– Очевидно. – Он посмотрел на нее. – Ты знаешь, чем он занимается, не правда ли?
– Чем-то торгует, полагаю.
– Нет, он покупает. Покупает наркотики. Он живет только на то, что зарабатывает, торгуя с немцами, а теперь этот идиот еще умудрился разозлить их.
– Ноэль, если ты ничего не имеешь против, давай перестанем говорить о Майке Идене.
– Конечно. Хотя каждая девушка, которой он нравится, должна знать о нем много таких вещей… не очень приятных вещей, должен сказать… но, поскольку ты…
– Если ты хочешь сказать, что он употребляет наркотики, то я это знаю.
После долгого молчания Ноэль произнес:
– Ты изменилась, Мардж. И очень здорово.
– Пожалуй, да. Хотя я сама этого и не чувствую. Мне кажется, я двигаюсь к пониманию этого, Ноэль. Сыграй, дорогой, сыграй какую-нибудь из твоих старых песен.
Он заиграл.