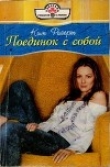Текст книги "Марджори в поисках пути"
Автор книги: Герман Воук
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
Что касается отца, то она чувствовала: для нее было бы легче зарезать его кухонным ножом, чем сказать ему правду.
Она рассчитывала открыться Маше Михельсон и пошла с ней вместе на ленч. Но они поели как-то быстро, разговор был беспредметным, и они провели день, вместе делая покупки.
Маша стала теперь какой-то далекой и неотзывчивой. Она болтала без умолку, как всегда, но не было и следа от прежних интимных разговоров. Как будто Марджори сказала или сделала что-то, чего Маша не могла простить ей. Она говорила только о пьесах, кино и домашней обстановке. После шестимесячного свадебного путешествия за границей и четырех месяцев во Флориде Михельсоны купили большой старый дом в Нью-Рошелл. Маша замучила Марджори болтовней об эпохальной обстановке, модернизированной кухне, изменениях планировки дома и нашествиях кроликов и кротов на цветочные грядки. Она считала предместья совершенно здоровыми, такими отвратительно здоровыми, какими всегда их описывал Ноэль. Маша стала худой, но и диета испортила, а не улучшила ее облик: кадык теперь был слишком заметен на ее горле, карие глаза выглядели запавшими, почти как у мумии, и губы казались нарисованными над зубами, словно оскаленными.
Письмо от Ноэля пришло, когда Марджори уже проработала у своего отца почти месяц. Проштампованное во Флоренции, напечатанное на желтой бумаге, оно не имело обратного адреса. «Я не хочу получить известия от тебя, дорогая, – начиналось оно. – Я просто подумал, возможно, ты хочешь узнать, что я не бросился с «Мавритании» посреди океана от страшной тоски по тебе или чего-то другого. Мне в самом деле хорошо, я коричневый, как поденщик, и не грущу, если что-то спутывает планы». Он намеревался зарегистрироваться в Сорбонне, как только прибудет (так он писал), но Париж выглядел слишком чудесно, когда он добрался туда, и он решил отложить свою учебу до осени. Он уже побывал в Швейцарии, Голландии и Норвегии, во Франции и Италии. В письме много говорилось о женщине по имени Милдред и паре Боб и Элен. Ноэль встретил их всех на корабле. Милдред возглавляла группу и, кажется, оплачивала некоторые или все их расходы. Было справедливо предположить, думала Марджори горько, что Милдред была той женщиной в красном. Мардж сначала рассердилась. Потом ей внезапно стало противно на день или два, когда она думала, что освободилась наконец от своего увлечения Ноэлем. Потом это настроение прошло, и она почувствовала себя совершенно как прежде, только более озабоченной и раздраженной.
Марджори плохо удавалось проявлять интерес к другим мужчинам. Она пыталась. Она ходила по пятам за родителями на церковные церемонии, на свадьбы, даже поехала в горный отель. Наконец наступило следующее лето. Было унизительно торговать повсюду незамужней дочерью, но во всяком случае Марджори была самой симпатичной девушкой везде, где бы ни появлялась. Ни она, ни ее мать не завидовали женщинам, которые вынуждены были сдерживать своих мужей, когда Марджори оказывалась рядом, и часто даже не могли отпустить локоть мужа ни на минуту.
В своих объездах «брачного рынка» Марджори столкнулась со многими приятными молодыми мужчинами и с парой экстраординарных интересных личностей. Но при самом большом желании она не могла проявлять к ним сердечность, не могла быть с ними оживленной, веселой и бодрой. Обычная сексуальная реакция, казалось, истощилась в ней. В Марджори появилось что-то настолько холодное, что большинство мужчин не пытались поцеловать ее. Тем, кто пытался, она уступала с покорной вялостью, и обычно все на этом заканчивалось.
Это не значило, что Марджори хранила верность или преданность Ноэлю. Она не в силах была ничего с собой поделать. Она могла бы иметь что-то наподобие любви с другим мужчиной, как ей казалось. И она уделяла время любому приемлемому парню, который этого хотел. Однако все мужчины не выдерживали сравнения с Ноэлем. Хотя ни один из них не имел своего особенного живого обаяния, у них были грустные добрые глаза или какие-то другие привлекательные черты. Но это ее не трогало – ее сознание и сердце были закрыты, запечатаны. Она была женой. Марджори давно уже не смотрела на Ноэля как на эталон мужчины. Она знала все его слабости слишком хорошо. К несчастью, она доверила ему душу и тело, и теперь он владел ею, был у нее в крови – женатый на ней или не женатый.
Как Маша убеждала ее переспать с Ноэлем, думала Марджори, как убеждала и как ошибалась! Все это было почерпнуто из книг и пьес, и только. Марджори поражалась, что в жизненном опыте Маши было такого, что могло бы заставить ее столь сильно заблуждаться насчет секса. Очень просто нести чепуху о любовнике и возможности им насладиться, чтобы потом иметь сладкие воспоминания, согревающие старые кости. Но грубая реальность показала, что связь с мужчиной ввергает тебя в шокирующее необратимое изменение, подобное ампутации. Это вовсе не погружение в бассейн, из которого человек выходит и вытирает то же самое тело теми же самыми руками. И сверхназойливые воспоминания отнюдь не грели Марджори. Они были непрекращающимися муками, которые она с удовольствием выжгла бы из мозговых извилин. Секс в лучшие моменты был потрясающим, прелестным, но даже в эти лучшие моменты он омрачался страхом и непобедимым притворством. Кроме того, этому сексу, хорошему или не такому хорошему, Марджори заплатила непомерную цену. Она чувствовала, что ее собственная индивидуальность была украдена. И это сделал Ноэль. Он был теперь ее другой большой личностью, а она лишь пустой раковиной. Инстинкт самосохранения, желание сберечь себя верно служили Ноэлю Эрману и направляли его поступки. Сейчас она поняла это. И еще. Прекращение сексуальных отношений – не конец дела вообще. Это только начало опыта сердца, который углубляется страданиями и депрессией. Этой осенью Марджори обнаружила первые седые волосы на висках – просто серебряная нить или две. Они были преждевременны; ей только двадцать три, но ее отец поседел рано, и, очевидно, она пошла в него. Открытие страшно угнетало ее и в то же время принесло ей какое-то извращенное удовольствие.
Марджори не думала о том, что может произойти с ней, если она попытается вернуть Ноэля. Паника обрушилась на нее, когда она реально представила себе, что он ни разу больше не прикоснется к ней, никогда не женится на ней. Никогда! Это было невозможно. Что же могла она принести другому мужчине, кроме ограбленного тела и пустого сердца? Ее единственной надеждой в жизни было вернуть Ноэля. Так же окончательно, как он избавился от нее, она решила его настигнуть.
И она верила, что рано или поздно придет к победе. Сила и решительность Ноэля были поверхностны; она знала теперь, что в душе он был гораздо слабее. Когда его сильно прижимало, он бежал. Мужчину, который бежит, можно поймать.
Ноэль, как все еще казалось ей, имел задатки хорошего мужа, даже если он и перестал быть для нее белокурым богом «Южного ветра» и блестящим героем генеральной репетиции «Принцессы Джонс». Она не знала в точности, сколькими творческими талантами он действительно обладал. Она вовсе не хотела обманывать себя, потому что это делало ее чувство похожим на идиотизм, после того как она в слепом девичьем поклонении восхваляла каждое написанное им слово. Пришло время стать лицом к фактам. Реклама, вероятно, могла бы стать его полем деятельности, как он сам сказал; и он слишком хорош для такой работы, чтобы влачить убогое существование вечно. В рекламном агентстве его работа шла великолепно, – так говорили ей его начальники, – пока он не прогулял день без предупреждения. Он, несомненно, владел пером. Его излияния в длинном письме были яркими и живыми. Фраза типа «Твоя левая шпора – это американская идея успеха, а твоя правая шпора – еврейская идея респектабельности» не была написана ординарной личностью. Ей пришло в голову, что Ноэль действительно мог бы стать юристом. Его обаяние, его убедительность и речистость, его способность к строгому анализу должны были продвинуть его далеко, – возможно, на пост судьи, как и его отца! Но для этого было слишком поздно теперь, конечно; вопрос был, как лучше спасти его дарования, с учетом его дикого темперамента и запутанной биографии.
Марджори надеялась, что этот побег в Париж – последний рывок старого Ноэля, последняя попытка добиться «респектабельности». Ноэль слишком любил хорошую жизнь, чтобы стать учителем философии; тем не менее Марджори была совершенно готова довольствоваться академическим окладом, если это было то, чего он хотел. Еще она мечтала, чтобы он стал ее мужем, мужчиной, чьей постели она принадлежит. Она не торопилась следовать за ним в Европу; этот порыв угас. Инстинкт говорил ей, что он хочет ее, в сущности, больше, чем кто-либо еще на свете. Он скучал о ней сейчас, скучал все больше и больше.
Она чувствовала потягивания ниточек, которые связывали его с ней через открытый океан, в его редких веселых письмах, всегда без обратного адреса, обычно со штемпелем Парижа, один раз Каннов и один раз Лондона. Во время оптимистических подъемов ее эмоционального состояния ей казалось, что он может вообще не возвращаться к ней от своей сегодняшней гармонии, он может быть очень рад увидеть ее, пришедшую за ним, он может убрать закопченные ширмы циничных слов, маскирующие его капитуляцию, – от времени и судьбы, так же, как от нее, – но он может капитулировать с облегчением.
Это было основанием для ее утешения в течение этого черного, черного года. Это утешение приходило и уходило с переменой настроений; оно было тихим, не оформившимся полностью, не рассмотренным как следует с чьей-нибудь помощью; оно вплеталось в ее мысли и покидало их; утешение это было в целом приятно спокойным. Оно чередовалось с состояниями отчаяния и ужасной боли, боли настолько сильной, что страдания в кресле дантиста, когда она ходила к нему, были по сравнению с ней развлечением и облегчением. Она часто проклинала тот день, когда встретила Ноэля, и свое фатальное поклонение герою, которое дало ему возможность поглотить три года ее жизни, три лучших ее года, тех самых, когда большинство девушек выходят замуж. Сколько шансов счастливого брака прошло мимо нее, пока она тряслась и тряслась и тряслась над Ноэлем? Теперь нельзя было исправить это; исправить мог только Ноэль, или жизнь остановится.
Она просыпалась, думая о нем, засыпала, думая о нем, и думала о нем весь день и всю ночь – когда не работала, или не читала, или беспокойно спала. Она читала за завтраком и за ленчем, в тоннеле по дороге на работу и с работы, даже в машине отца, когда ехала в офис вместе с ним. В свободные минуты в офисе она могла открыто читать свои романы. За неимением денег она посещала публичные библиотеки. Ее зрение ухудшилось, и она стала читать в очках, но продолжала читать и читать.
Она перенесла тяжелое время в эту черную зиму, когда у нее не было ни простуды, ни кашля, ни жара, но целую неделю ее мучила парализующая головная боль. Потом появилась таинственная сыпь, которая то исчезала, то возвращалась. У Марджори не было аппетита месяц за месяцем. Она заставляла себя есть, чтобы избежать озабоченных вопросов матери и болезненных взглядов отца. Еда по вкусу напоминала ей солому. Марджори увядала так очевидно, что родители уговорили ее показаться доктору. После долгого медицинского осмотра он спросил о ее эмоциональном состоянии, глядя на нее иронически мудро, и дал ей множество пилюль, капсул и микстур. Лекарства немного помогли ей, но всю зиму она была слаба и раздражительна.
И всю зиму ее банковский счет увеличивался. Цель, к которой она стремилась, стоила семьсот долларов.
Марджори поняла, что сможет поехать в Европу третьим классом, пробыть там три недели и вернуться. Но она еще не накопила достаточно. Эта забота все больше мучила ее. В лучшем случае она могла откладывать в неделю по десять – двенадцать долларов. Она вернула отцу деньги, потраченные на театр «Рип Ван Винкль», хотя он и не пытался получить их. Это успокоило ее, но отложило отъезд в Париж на пару месяцев. Последнее письмо Ноэля пришло в феврале. Из-за того, что он молчал весь январь, она крайне волновалась. Она часто думала о том, чтобы занять денег у родителей. У нее уже было пятьсот долларов, и еще пара сотен помогла бы ей решить проблему. Но она не могла этого сделать.
Однажды вечером, покупая билет на французскую пьесу, Марджори узнала в кассирше хорошую актрису – умницу с красивыми рыжими волосами, – сейчас она, правда, выглядела несколько потрепанной. Марджори немного поболтала с ней. Девушка по-прежнему билась головой о все стены Бродвея и за последнее время успела дважды побывать замужем и развестись с красивыми безработными актерами. Сейчас она жила с третьим возлюбленным безработным. Она сообщила Марджори, что место театральной кассирши хорошенькая девушка может получить легко. Кассирши быстро менялись из-за распространенной практики продажи в киосках фальшивых билетов и присваивания чуть ли не трети выручки. Марджори пришло в голову, что она сможет удвоить свой заработок, подрабатывая по вечерам в театральных кассах, – честно, конечно. С помощью рыжей актрисы она действительно получила работу двумя днями позже. Ее родители, естественно, возражали. Они утверждали, что она слишком устает от ночной работы. Миссис Моргенштерн в отчаянии заметила, что Марджори, видимо, обречена кидаться из одной глупости в другую. Отец повысил Марджори оклад, надеясь сделать ночную работу дочери ненужной. Она приняла прибавку, считая, что заслужила ее, усердно трудясь в офисе, но не оставила работу в театре.
Работа была легкая, но нездоровая: система отопления в кассе действовала плохо, и часто Марджори либо замерзала, либо чуть не варилась заживо. Через три недели жестокий грипп прервал ее труды. Она, кашляя, поднялась с постели через десять дней, еще совсем ослабевшая. Ее охватывала паника оттого, что за все это время она не заработала ни цента. Отец попытался отослать ее из офиса домой, но она отказалась. Резко кашляя, она села печатать и работала весь день, игнорируя отцовские встревоженные взгляды. Вечером после ужина, когда она заявила, что отправляется в театр, родители пришли в ужас. Но она все равно пошла на работу, хотя у нее подгибались ноги.
Она дрожала и покрывалась испариной все три часа, проведенные в душном киоске, опасаясь свалиться с пневмонией. Когда наконец зал опустел, она не могла и подумать об обратной дороге и потратила все заработанные за вечер деньги на такси. Замерзшая, она вернулась домой, прошла прямо на кухню и, взяв бутылку бренди, сделала большой глоток. Потом она бросилась на кровать не раздеваясь и, дрожа, натянула на себя плед.
– Как насчет горячего чая? – Отец стоял на пороге в пижаме и старом сером купальном халате. Его седые волосы были всклокочены. В одной руке он держал стакан молока, в другой – чашку с чаем.
– Спасибо, папа, с удовольствием. – Она села, бренди уняло озноб.
Мистер Моргенштерн уселся на край кровати и потягивал молоко, смущенно глядя на нее. С тех пор, как она стала работать в театре, она натыкалась на этот взгляд – пристальный, сосредоточенный и довольно сердитый. Помолчав, он сказал:
– Марджори, довольно. Ты что же, хочешь угробить себя? Зачем все это? – Марджори не ответила. – Послушай, – продолжал отец. – Мы не нищие. Сейчас дела идут неплохо. Чего ты хочешь? Шубу? Тряпки? Путешествие? Я пока еще твой отец. – Она молчала. – Мама говорит, что ты хочешь в Париж. За ним. Вернуть его.
Марджори рассмеялась, презирая себя. Рассмеялась в знак согласия. Отец покачал головой, отхлебнул молока и уставился на дочь.
– Помнишь время, проведенное в «Южном ветре»? Кажется, что это было так давно. Мы беседовали на озере, а лодка – помнишь, ты сказала? Как ты это представила? Тебе тогда только начинало нравиться его общество и приятное времяпрепровождение – ведь это Соединенные Штаты. Ты тогда и не помышляла о замужестве.
– Я… Папа, я была еще так мала, понимаешь…
– Это не объяснение, Марджори. Даже в Америке. И, в любом случае, не для меня. – Отец запустил пальцы себе в волосы, взъерошив их еще больше. Долго молчали. Он сказал: – Скажи, он действительно много для тебя значит? Даже через год? На свете столько мужчин. Это обязательно должен быть он? – Что-то высокопарное в его голосе и взгляде заставило ее почувствовать сухость в гортани.
– Папа, – произнесла она, – я девушка, ты понимаешь? Я ничего не могу поделать.
Он поднялся, взял ее за подбородок и повернул к себе.
– Послушай, у него много достоинств. Будь что будет. Он станет нашим сыном… Ты выезжаешь через неделю. Хорошо?
– Нет, папа, нет. Это не то…
– Почему нет? Ты хочешь ехать или не хочешь?
– Я… У меня достаточно денег на билет третьего класса. Все равно спасибо.
– Третий класс? Это твоя первая поездка в Европу. Ты поедешь первым классом.
– Нет, я не могу.
– Мама говорит, что мы должны послать тебя туда, и кончено. Довольно этих глупостей: ночной работы, болезней, истощения… Она права. Она всегда права, правда?
– Папа, послушай…
– Ты поедешь первым классом, и точка. Я пока еще твой отец. – Он принял деловой вид. – Решено. Ты уезжаешь на следующей неделе. А раз ты теперь такая независимая девушка, ты можешь занять у меня денег. Иди спать, ради Бога. Ты выглядишь ужасно. – Он быстро поцеловал ее и поспешно вышел из комнаты.
Родители, брат, кузины, тетушки и дядюшки Марджори и несколько служащих ее отца толпились вокруг нее в тамбуре «Куин Мэри» и заглядывали в каюту, восхищаясь роскошью убранства. По просторной комнате были расставлены цветы и корзины с фруктами, на столе в серебряном ведерке стояло шампанское и на всех столах – тарелки с бутербродами. Ошеломленная Марджори показала стюарду, куда положить ее чемоданы, пока мать, быстро осмотрев карточки на букетах, спрашивала:
– Откуда взялось шампанское? Кто заказал? Ты, Арнольд? Ты, Сет? Что это? Праздничный подарок?
Родственники один за другим отрицали покупку ими вина, как вдруг из угла переполненной каюты послышался приглушенный голос:
– Вам привет от старого друга, мисс Моргенштерн.
Толпа тетушек и дядюшек расступилась, как хор в опере, чтобы открыть взорам сидящего в одном из кресел молодого человека с крупным носом, одетого в изящный костюм из серого твида. Его умные глаза поблескивали за стеклами больших очков. По рядам родственников пролетел слух, что это, наверное, ухажер Марджори, короче, они заинтересовались. Марджори с некоторым смущением представила Уолли своей семье, а Уолли, вовсе не смущенный, поднялся с кресел и сорвал аплодисменты, с шумом откупорив шампанское. Стюард обнес всех бокалами. Вино играло и пенилось. Уолли удостоился еще больших оваций, предложив тост в честь Марджори. Гости накинулись на еду, и торжество значительно оживилось. Марджори досталось множество объятий и поцелуев от молодых незамужних кузин. Невиль Саперстин, который к восьми годам превратился в толстого бледного мальчика, крайне тихого и робкого, запил несколькими бокалами шампанского целое блюдо бутербродов и уже через несколько минут страдал в ванной. Потом он лежал на кровати и стонал, а его мать гладила мальчика по голове. Это стало единственным печальным моментом в веселом семейном торжестве. Отец Невиля изумил всех, вскарабкавшись на стол с бокалом шампанского в руках и исполнив несколько арий из опер Верди, содержавших партию колоратурного сопрано, несмотря на несчастье сына и возмущенные восклицания жены.
Марджори была удивлена и растрогана, найдя среди подарков огромный букет роз от Сета. Прикинув, сколько брат должен был сэкономить, чтобы купить этот букет, она отозвала его в сторонку и поцеловала. Он покраснел и пробормотал нечто невразумительное. Уолли подошел к ней с бутылкой в руке, когда она рассматривала подарки.
– Еще шампанского?
Она взяла бокал.
– Это очень мило с твоей стороны, Уолли. Я никогда этого не забуду.
– Уделишь мне две минутки?
– Три.
– Допивай и пойдем.
Они покинули торжество, которое продолжалось в каюте и за ее пределами, и уселись в углу странно тихого и безлюдного салона среди пустых стульев и кушеток.
– Ты сегодня хороша, как никогда, – сказал он. И его голос ослаб и затих в просторной комнате.
– Да, ты должен был так подумать. Все равно спасибо, Уолли.
– Я только хотел сказать тебе, что продал свою пьесу, Мардж.
– Черт побери! Продал пьесу! Никто с тобой не сравнится, так? – Глядя на Уолли, она думала, что у него вид победителя: никаких явных знаков триумфа, но выдают уверенный взгляд, доверительная улыбка, по-новому расправленные плечи и добродушная подчеркнутая учтивость. Ноэль никогда не напускал на себя такой вид, никогда, даже на генеральной репетиции «Принцессы Джонс». Он всегда был ироничен, напряжен и нетерпелив. – Какую пьесу, Уолли?
– Новую. Я, по-моему, тебе о ней рассказывал. Фарс для радио.
– Ты уже отделался от поденщины?
– Черт побери, нет. Пьеса же будет идти, пока вконец не провалится. Как ты думаешь, она будет популярна? Мне нравится, когда платят каждую неделю.
– Кто ее ставит? – Он назвал одно из самых известных имен. Она сказала: – Я думаю, что ты, Уолли, преуспеешь.
– Одна постановка еще не карьера.
– Тебя ничто не остановит. Я горжусь знакомством с тобой. Я восхищаюсь тобой со стороны.
– Со стороны? Что случилось с Марджори Морнингстар?
– Она не преуспела. Я знала, что так и будет. Миллионы таких, как я, а ты единственный и неповторимый. Так и должно быть. Как там в этой пьесе, в «Гондольерах»: «Когда все становятся чем-то, кто-то уже ничем».
– Ладно, тогда как насчет Марджори Ронкен? – Он произнес это небрежно, но так серьезно, что смутил ее.
– Почему бы и нет, дорогой? Ты сразил меня. Пойдем попросим капитана поженить нас, пока ты не передумал.
Его глаза за стеклами очков даже не сморгнули.
– Ты, конечно, считаешь меня дураком.
– Когда я тебя видела в последний раз, Уолли? Шесть – восемь месяцев назад? Тогда ты просто проел мне плешь, но я зла не помню. Ты всегда твердил мне о своей гениальности, видимо, ты прав. Приношу свои извинения, что так долго тебя не понимала. О'кей?
– Я годами охотился на этого зверя, чтобы бросить его к вашим стопам. А вы не хотите взглянуть на добычу. Я оскорблен.
Марджори быстро взглянула ему в глаза.
– Тебе действительно так нравится меня мучить, или как? Ты выкидываешь такие штуки, что я была бы идиоткой, прими я тебя всерьез. Согласись я на твое предложение и скажи: «Хорошо. Я твоя!» – ты удрал бы отсюда, как заяц.
Он обиженно взглянул на нее и выдавил из себя смешок.
– Ну конечно, все, что бы я ни сделал, достойно недоверия!
– Вот именно. Тебе по каким-то своим причинам нравится насмехаться надо мной. Зная, что это безопасно, ты позволяешь себе все, что угодно. Ты вел себя со мной так с восемнадцати лет, Марчбэнкс, и сейчас продолжаешь свои штучки. Смотри, я убита. Я раздавлена. Я трепещу. Нравится? Само собой, я должна была влюбиться в тебя. Ты гигант мысли и неописуемо обаятелен. Я влюбилась в другого. Застрели меня.
– Не важно, сколько месяцев я тебя не видел, – сказал он. – Мне знакомы несколько сотен девушек. Ты самая замечательная. Ты не красивее всех. Но ты единственная, Марджори. Пора наконец сказать правду.
Марджори осмотрела пустой салон, встала, взяла его за руку.
– Я забыла про полную комнату родственников, маму и папу, – пробормотала она. – Давай вернемся к ним.
– С Ноэлем не все ладно, Мардж. Ты, наверное, найдешь, что он изменился.
Она направлялась к двери, но остановилась. Холодная дрожь пробежала по ней.
– Изменился? Ноэль? Как?
– Он… ну… изменился. Он подхватил какую-то лихорадку, разъезжая по Северной Африке.
– Как ты узнал?
– Он написал мне.
– Какой у него парижский адрес?
– Не знаю. Он писал не из Парижа.
– Правда?
– Конечно, правда.
– Мне действительно нужен его адрес, Уолли.
– Боже мой, я бы сказал тебе его адрес, Марджори, если бы знал его.
Они молча вернулись в ее каюту.