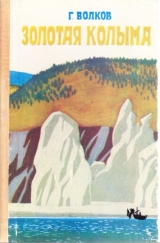
Текст книги "Золотая Колыма"
Автор книги: Герман Волков
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
Часть шестая
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
КРАСНЫЙ ГРАНИТ И БЛАГОРОДНАЯ ШПИНЕЛЬ
Вернувшись в Ленинград в декабре, Юрий Александрович в январе женился.
Ни на Алдане, ни на Колыме ни словом не обмолвился о своих сердечных помыслах и вдруг, едва сошел с поезда, сразу – в узы Гименея. Его друзья-догоры поверить не могли, чтоб их улахан тайон, свободолюбивый и разумный, так скоропалительно дал надеть на себя хомут, что даже на свадьбу никого не успел пригласить, да и была ли она, свадьба-то?.. Все это так не похоже на Билибина! И подумывали, что это очередной розыгрыш, которые частенько предпринимал их любимый начальник.
Но был не розыгрыш, и ничего скоропалительного в женитьбе Билибина тоже не было. На этот высокий и крутой перевал своей жизни Юрий Александрович взбирался четыре с лишним года, бывало, и скатывался не без ушибов, и терял уверенность в своей неотразимости, И лишь когда Сергей Обручев на берегу реки Колымы, ниже речки Утиной, передал ему почту из Ленинграда, а вместе с ней и маленькую фотокарточку с дарственной надписью той, по ком вздыхал украдкой от людей, Юрий Александрович понял и почувствовал, что он – в чем был и не был виноват – прощен и ему до вершины перевала осталось несколько легких шагов...
Задержавшись в Москве с докладами, отпустив всех членов экспедиции, в Ленинград он приехал на «Красной стреле» один. Все родные и та, к которой он стремился, уже знали, что он со дня на день приедет, ждали, собирались встретить его на вокзале, но он решил телеграмму никому не давать, хотел нагрянуть вдруг.
За полчаса до прибытия в Ленинград он облачился во все таежное: в оленьи торбаса, медвежью доху и тот якутский малахай, что подарила ему в Сеймчане столетняя Тропимна. К этому звериному одеянию борода его шла как нельзя лучше. Ну а глаза – светло-голубые – делали его совсем похожим на врубелевского Пана.
И в таком обличии Билибин, сдав багаж в камеру хранения, вышел на привокзальную площадь, крикнул извозчика, завалился в сани, важно огладил бороду и густым басом пророкотал:
– Барда на Острова!
И вдруг серебристым девичьим голоском залился:
Гайда, тройка! Снег пушистый,
ночь морозная кругом...
Кучер, видавший всякие питерские чудачества, изумленно воззрился на седока и пытливо глянул на дно повозки: не спрятал ли под полостью рыжебородый детина певунью-красотку?
Довольный розыгрышем, Юрий Александрович раскатисто захохотал.
– Граммофон. Как есть граммофон,– пробурчал возница и тронул свою худющую пегую лошаденку.
Утро стояло туманное, с морозцем и дремотной тишиной. На карнизах и подоконниках висели сосульки, вероятно накануне была оттепель. После тайги Невский проспект – без единого деревца – показался унылым и пустынным, а сами дома за два года вроде бы осели.
Лишь на стрелке Васильевского острова Юрия Александровича неожиданно обрадовали тонконогие молоденькие липки, недавно высаженные у парапета набережной. Унизанные мохнатым инеем, они звонко поблескивали и, словно серебряные колокольчики, приветствовали возвратившегося в пенаты Билибина.
И сам Билибин вскочил им навстречу, навалился на одну сторону саней так, что они рискованно накренились, и вся Пушкинская площадь услышала:
– Здравствуй, племя младое, незнакомое!
Дремавший извозчик спросонья испуганно взвизгнул:
– Выручай, кормилица! – и отчаянно хлестанул по ребрам пегашки, но, уразумев, в чем лихо, перекрестился: – У, черт, шебутной! То бабой голосил, то мужиком заревел. Не вздремнешь!
Возок круто развернулся. Заиндевелые тонконогие липки, будто балерины, поменялись местами. Но пока они не скрылись за углом старой Биржи, Юрий Александрович не отрывал от них глаз, и сердце его наполнялось предчувствием радостных встреч.
А тут еще выступили засвидетельствовать свое почтение старожилы петровских времен, знакомые каждой лепной завитушкой, каждым камнем и каждой щербиной на камне. За два года они тоже будто постарели – Кунсткамера, двенадцать сестер-коллегий, Меншиков дворец...
Впрочем, что с ними за два года может случиться?.. Это ему на два года стало больше.
– Отец, сколько мне лет? – спросил он возницу.
– А это глядя по обстоятельствам. По бороде – давно пора остепениться, деток нянчить, а по всему прочему – вроде и рано.
– Ох и уклонист ты, батя...
Возле Академии художеств Билибин вдруг остановил сани и так же неожиданно отвалил извозчику за всю дорогу, которую еще не проехали, щедро дав ему на чай, а его кормилице на овес.
Кучер почтительно привстал и, маленький, в огромном тулупе, начал раскланиваться, словно колокол раскачиваться, малиново вызванивая:
– Благодарствуем. Премного благодарствуем, гражданин хороший.– Проворно спрятал выручку и добродушно ухмыльнулся: – А шебутной. Как есть шебутной.
– А это хорошо или плохо?
Старик, опасаясь, что сболтнул лишнее, поспешно повернул оглобли:
– А это по обстоятельствам...
– Опять по обстоятельствам! Ну, а долго будешь скрипеть на своей колымаге по обстоятельствам-то? Времена-то ваши проходят. Лимузины едут на смену пегашкам.
– Отходят, сынок, отходят,– охотно и даже со слезой согласился извозчик.– Овес день ото дня дороже. Налоги на закладку все больше. Такие обстоятельства – хоть в профсоюз пишись. Но еще поскрипим от ваших щедрот, товарищ хороший.
– Ну, скрипи, старик!
Юрий Александрович двинулся было к проспекту Пролетарской Победы, но остановился: рано еще, все спят, и она спит...
Он вернулся к набережной, смахнул снег с парапета и по студенческой привычке уселся на него. Под теплой ладонью гранит засверкал блестками слюды и полевого шпата. Юрий Александрович погладил его и ласково, с чувством признательности, произнес:
– Рапакиви. Красный гранит рапакиви...
...После разгрома белополяков он вместе с отцом продолжал служить под командованием Тухачевского. Самим командармом был направлен в Политехнический институт Западного фронта. Учился и преподавал математику в красноармейском университете и на пехотных курсах начсостава, но быть всю жизнь военным, как его отец, не собирался.
И вот однажды, после подавления кронштадтского мятежа, в красную казарму с просветительной целью прибыл докладчик. Военком представил его:
– Наш красный профессор! Был депутатом Петроградского Совета. Царь не давал ему учиться, ссылал его, студента-революционера, в Чердынский край, тянул он солдатскую лямку на царской службе. И лишь после Октября, несмотря на свой уже немолодой возраст, он сел на студенческую скамью и за один год не только закончил Петроградский горный институт, но и стал его профессором! Поприветствуем, товарищи красноармейцы, нашего красного профессора товарища Болдырева! Ура!
От смущения профессор покраснел, насупил черные густые брови и, не дав затихнуть рукоплесканиям, начал:
– Я расскажу вам про камни, про обычные камни, которые нас окружают, про булыжники, по которым мы ходим. Знаете ли вы, из какого камня сделаны набережные Невы, колонны Исаакия и Казанского собора? Они сделаны из красного гранита, называемого по-фински рапакиви. А знаете ли вы, как родился этот рапакиви?
И профессор, как будто сам все видел, что было миллиарды лет назад, рассказывал, как из глубин земли вырывались газы, выплескивались огненные лавы, а потом эта масса застывала в камень...
После лекции красноармейцы приняли резолюцию: «Приветствовать доклад красного профессора товарища Болдырева о красном граните и булыжниках – оружии пролетариата. Недра земли принадлежат народу! До последней капли рабоче-крестьянской крови будем защищать эти недра!» И щедро угостили докладчика морковным чаем.
Юрий и прежде, в реальном училище, увлекался минералами, собирал камешки на даче в Лиозно, в окрестностях Смоленска, но только после этой лекции твердо решил изучать камни и стать таким же ученым, как этот профессор. В том же году по Красной Армии вышел приказ: откомандировать всех студентов-горняков в Петроградский горный институт. Юрий таковым студентом не был, но решил попытать счастья, обратился к самому Тухачевскому с просьбой перевести его из Института Западного фронта в Петроградский горный. Командарм с большим сожалением: «Из вас, товарищ Билибин, стал бы хороший красный командир, как отец!» – все же разрешил. Юрий на имя ректора Петроградского горного института послал прошение о зачислении его студентом и был зачислен как демобилизованный боец Красной Армии.
Солнечным сентябрьским утром, в изрядно потрепанной солдатской шинели и отцовской с красным верхом папахе, поднимался он по широкой лестнице навстречу величественным белым колоннам портика и изваянным из пудожского камня скульптурам. Статуи на мифологические сюжеты долженствовали внушать студентам, что знания легко не даются, их надо, как Геркулес Антея, вырывать из земных недр или похищать, как Плутон Прозерпину. Билибин чувствовал в себе геркулесовы силы и поднимался уверенно, не думая, как и на что будет дальше жить.
Жить ему, как и многим студентам того времени, приходилось очень туго. Ни от какой работы, изредка предлагаемой биржей труда, студент Билибин не отказывался: расчищал снег на трамвайных путях, выгружал уголь в порту, мостил булыжником улицы... Но заработки были случайные и скудные, голодовать доводилось отчаянно. И хотя Юрий самолюбив был, однако приходилось просить руководство института:
«Вносить плату за учение я не в состоянии. Не имея никакого постоянного заработка, я сейчас живу только тем, что мне удалось заработать осенью в порту, употребив на это полтора учебных месяца. Рассчитывать на поддержку из дома не могу, так как отец, член профсоюза транспортников, получает ограниченное жалование, содержит на своем иждивении мою сестру и мать...»
После гражданской войны его отец служил в управлении Днепропетровского водного транспорта, мать попала под сокращение штатов и не работала, сестра Людмила училась в Могилевском институте народного образования и стипендию тоже не получала.
На прошение наложили резолюцию: «Оставить в силе прежнее постановление».
И студент Билибин вынужден был снова писать: «Даже последний выход – продажа своих вещей – для меня закрыт, потому что имею только то, что на мне. Остается одно – уходить из института. Этот выход мне тем более обиден, что, несмотря на крайне тяжелые условия жизни, я все же проявил полную активность, в настоящее время мной сдан не только рождественский минимум, но даже более 100% годового».
Юрий страдал малокровием, упадком сил, и, по заключению комиссии, ему дважды разрешали месячные отпуска на поправку к родителям в Могилев.
Теперь открывателю золотых месторождений об этом нелегко и не очень приятно вспоминать. Но так было. Почти все студенты голодали и даже профессора. Тот же Болдырев жил коммуной со Смирновым и Наливкиным, будущими академиками, и питались впроголодь.
Юрий квартировал в общежитии рабфаковцев – без печей, с недействующим отоплением. На пол клали кирпичи, на них разводили костры, варили похлебку в армейских котелках. Спичек не было, и, как в первобытные времена, для поддержания огня переносили зажженную лучину из комнаты в комнату. Спали на голом полу по-солдатски – на шинели и шинелью укрывались. Лишь книги, подложенные под голову, свидетельствовали: красноармейцы-фронтовики стали студентами-горняками.
Над богатейшей коллекцией минералов институтского музея и над книгами Билибин просиживал до ломоты в костях и говаривал:
– Нет такой книги, которую нельзя прочитать за одну ночь.
Посещение лекций было свободное: хочешь – ходи, хочешь – нет. Надо лишь набрать минимум очков, баллов, чтобы оставаться студентом. Многие готовились к экзаменам только по книгам да по конспектам товарищей или сдавали их по шпаргалкам. Сдавали экзамены тогда, когда считали, что достаточно хорошо усвоили предмет, или, если подпирал страх быть отчисленным, шли на арапа. Одних это приучало к самостоятельности и углубленному изучению той или иной науки, другим позволяло бездельничать.
Юрий ходил на все лекции. В аудиториях замерзали чернила, пальцы от холода коченели, а он записывал все, да так, что его конспекты, написанные четким крупным почерком, толково и ясно, ценились как прекрасные учебники, и многие студенты успешно сдавали экзамены по ним.
Надеждой института называли Билибина профессора. Даже самый строгий и требовательный Болдырев, который от каждого студента требовал, прежде чем назвать минерал, хотя бы и известный, проделать все процедуры его распознавания, восхищался студентом Билибиным, его знаниями, пытливостью, памятью.
Однажды в минералке Юрий, с большим тщанием осмотрев, поцарапав, понюхав, полизав, взвесив, обмерив камень, сказал:
– Благородная шпинель. Показатель преломления – 1,725.
Болдырев приподнял густые черные брови:
– А как же вы, молодой человек, запомнили показатель преломления? На камне он не написан.
– Очень просто, Анатолий Капитонович. Петр Великий носил в галстуке булавку с благородной шпинелью. Это был его обожаемый камень. А как известно каждому школьнику, Петр почил в бозе в тысяча семьсот двадцать пятом году. Так я запомнил показатель преломления этого драгоценного камня – 1,725.
– Мнемоника, значит,– улыбнулся строгий профессор.– А это точно, что Петр Первый носил благородную шпинель?
– Не ручаюсь. Кажется, где-то читал или слышал. Но я хорошо помню, когда умер первый русский император, остальное могу и придумать. Он с меня не взыщет.
– Конечно,– улыбнулся профессор,– хорошему студенту сам Петр служит,– и с удовольствием вывел в зачетке «пятерку».
А Билибин взял себе за правило – каждый минерал определять, как учил Болдырев. И таким методом, будучи еще студентом, когда готовил дипломную работу по материалам Хакасской экспедиции, открыл неведомый науке минерал – алюмогидрокальцит. Его сообщение опубликовали «Минералогические записки». О дипломной работе «Алюминиевые минералы Хакасского округа» председатель квалификационной комиссии Болдырев отозвался как о почти готовой диссертации.
Это было весной 1926 года. 10 мая Билибину присвоили квалификацию горного инженера. Свидетельство об окончании Ленинградского горного института геологоразведочного факультета по геологической специальности подписали председатель квалификационной комиссии профессор А. К. Болдырев и секретарь этой же комиссии Н. И. Трушков.
НА ВЫСОКОМ ПЕРЕВАЛЕ
На последних курсах Юрий Александрович уже не бедствовал.
Летом двадцать четвертого года под руководством профессора Заварицкого он исследовал Бакальский рудник в Златоустье. Профессор и прежде, когда читал лекции, принимал экзамены, выделял пытливого студента, а на Урале увидел в своем любимом ученике серьезного исследователя. На следующее лето, по рекомендации Заварицкого, Билибин отправился помощником начальника Хакасской экспедиции в Минусинский край, а когда вернулся, то для обработки полевых материалов этой экспедиции был зачислен в штат Геологического комитета научным сотрудником.
Зарплаты хватало на безбедное житье и даже на обновление гардероба. Красноармейскую, изрядно потрепанную, шинель и отцовскую полковничью папаху из облезлого каракуля Юрий сменил на полную студенческую форму: фуражку с горняцкими молоточками над лакированным козырьком и тужурку на белой шелковой подкладке, но без наплечников, какие, с екатерининскими вензелями, носили студенты Горного до революции, а белоподкладочники и после.
В это же время случилось несчастье, без которого не бывает счастья. Дом на 20-й линии, стоявший напротив института, где жили такой дружной коммуной, что цигарки прикуривали ради экономии от одной горящей спички, просовывая ее в щель деревянной перегородки,– дом на 20-й линии сгорел, возможно от этой самой сбереженной спички. Билибину как сотруднику Геолкома выдали ордер на жилплощадь в коммунальной квартире дома № 56 по проспекту Пролетарской Победы. Он перевез сюда свою мать из Могилева и зажил маленькой семьей.
И надо же так случиться, что в этом же доме в это же время получил квартиру профессор Трушков, только в другом подъезде. У Билибиных была квартира 84, у Трушковых – 48.
До этого Трушков Николай Ильич много работал на различных рудниках страны, изучал рудное дело в Европе и Америке, словом, был крупнейшим горным инженером, специалистом по разработке рудных месторождений, напечатал много трудов и учебников, в последние годы профессорствовал в Томском технологическом институте. Из Томска его и пригласили в Ленинградский горный.
Профессор перевез из Томска свою семью: ослепшую восемь лет назад жену, дочь девятнадцати лет, сына помладше.
Была у Трушковых огромная собака, довольно свирепого вида. Этого пса, еще не зная, что он профессорский, Юрий старался обходить. Выгуливала его слепая женщина, держа за короткий поводок. Иногда с ним прохаживалась миловидная девушка. Юрий не раз хотел с ней познакомиться, но в присутствии пса подойти близко не осмеливался, а без оного никогда ее встречать не доводилось, и единственное, что оставалось, это кланяться издали ей, а она этих поклонов вроде бы не замечала, да может быть, и девичья гордость не позволяла ей раскланиваться с незнакомым молодым человеком.
Так бы они ходили мимо друг друга. Но вскоре Юрию посчастливилось познакомиться с ней. Случилось это у самого порога профессорской квартиры и при обстоятельствах весьма забавных.
Профессор Обручев Владимир Афанасьевич, главный научный консультант треста «Алданзолото», сразу же, как Юрий Александрович получил квалификацию горного инженера, порекомендовал его геологом на Алдан. Будущий академик выразил надежду, что молодой одаренный инженер разработает новые методы поисков золотых месторождений и Алдан станет последней страницей в длинной истории случайных открытий золота, а русская золотая промышленность вступит в научную фазу своего развития.
После получения рекомендации Обручева Билибину нужно было перед отправлением на Алдан подписать кое-какие бумаги, направления. Требовалась подпись и секретаря квалификационной комиссии профессора Трушкова. В институте Юрий его не нашел, решил побеспокоить на дому.
От стука Юрия незапертая дверь профессорской квартиры распахнулась. Из нее бросилась с угрожающим рычанием та самая огромная свирепая собака. Билибин остолбенел:
– Свой, свой...
Но пес не пожелал признать его за своего и, надвигаясь, оскалил крупные клыки.
Выбежала из комнаты в прихожую та самая миловидная девушка с книжкой в руке и замахала этой книжкой:
– Ермак! Нельзя! Фу!
Но Ермак продолжал напирать. Девушка потянула его за ошейник. Где там! Пес был гораздо сильнее ее.
– Уйдите, пожалуйста, и закройте дверь! Я успокою его и загоню в ванну...
Но Юрий Александрович почел унизительным, да еще на глазах такой девушки, по которой вздыхал, отступать и прятаться за дверью. Откуда взялась смелость! Он сам опустился на четвереньки, зарычал не хуже пса, оскалив зубы, и, страшно выпучив глаза, попер на собаку.
Такого зверя пес не видел, а, будучи по характеру незлым, добродушным, сам недоуменно попятился и отступил. Не стал связываться.
Девушка захохотала:
– Вы какой породы? Из дворняг?
Билибин встал, выпрямился, ответил не то всерьез, не то шутя:
– Чистокровный дворянин.
Так они познакомились. Ее звали Наташа. Родилась на Урале, в Екатеринославле, выросла в Сибири.
– Челдонка,– говорила она о себе.
Разница в их возрасте была пять лет. Он уже закончил институт, а она лишь первый курс Ленинградского университета.
Когда горный инженер Билибин уезжал на Алдан, между ними не было еще никакой договоренности. Об истинной цели своей поездки, о рекомендации и пожелании Обручева Юрий Александрович умалчивал, чтоб не показаться хвастуном, но о своих чувствах к девушке и своих мечтах на будущее прозрачно намекнул:
– Еду на два года... Подзаработать на мебелишку...
Она поняла, почему он говорит о мебели, ответила так же:
– А мне томиться в университете еще четыре года...
Это значило: буду ждать хоть четыре года и замуж ни за кого не выйду, пока не закончу университет.
Через два года он вернулся. Заработал не только на мебелишку, но и на начало вполне обеспеченной семейной жизни. Из Могилева приехали к нему в Ленинград сестра, закончившая тамошний пединститут, и отец, вышедший к этому времени на пенсию по болезни. Оставалось только, по обычаю, жену ввести в дом.
С приездом отца, хотя и больного, но всегда веселого, на шутки-выдумки гораздого, в коммунальную квартиру Билибиных словно возвратился тот семейный климат, который царил в Смоленске, в довоенное время. Стали приглашать гостей.
Пригласили и Трушковых, и, разумеется, не только как соседей. За столом Наташу и Юрия посадили рядом. Наташин брат, тоже Юрий, студент Горного института, сел напротив. Остальные – кому где удобнее.
Билибин-старший, Александр Николаевич, которого и болезнь не могла сломить, такой же стройный, по-военному подтянутый и элегантный, сразу же вошел в свою старую роль хлебосола и краснобая.
Билибин-младший ни в чем не хотел уступать старшему, но все же главное внимание уделял преимущественно одной гостье – Наташе и угощал ее, и шутил с ней, и даже стихи читал ей.
Решил показать ей и игрушку-чертика, которого они с отцом спрятали за картиной, висевшей на стене.
– Посмотри, Наташа, на пейзаж. «Дремучий лес» называется,– и тайком, под столом, дернул за ниточку.
Из «Дремучего леса» выскочил чертик с рожками и плутоватыми глазками.
– Ах, какой забавный чертик! – воскликнула Наташа.
А Юрий снова дернул за потайную ниточку – чертик исчез. Все, и профессор Трушков, и его сын-студент, посмотрели туда, куда глядела Наташа, но ничего, кроме картины, не увидели. Профессор начал пенсне протирать, а его сын передернул плечами и озорно хмыкнул:
– Ого, сестрица! Напилась до чертиков!
Все засмеялись. А девушка не на шутку обиделась, вспыхнула, вскочила и убежала. Случилось это в мае, в день рождения Юрия, а когда он в том же месяце уезжал на Колыму, Наталья даже не пришла проводить его, и напрасно он все глаза проглядел, когда искал среди провожавших на вокзале гордую и порушенную свою любовь.
И вот он приехал, прощенный и обнадеженный и во всей своей таежной красе: в торбасах, в дохе, в малахае, и с бородой.
Пора идти на встречу. Узнает ли его в таком обличье Наташа? А пес узнает ли?
Пес бросился, вырвавшись из рук молодой хозяйки, но с приветственным лаем и даже с лобызаньями. А Наташа сначала не узнала, лишь потом воскликнула:
– Тунгус!..








