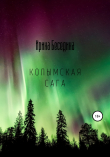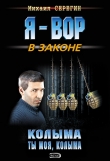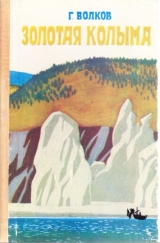
Текст книги "Золотая Колыма"
Автор книги: Герман Волков
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
THERE IS A VERY GOOD GOLD...
Партия Раковского выехала на оленьих нартах 5 мая. В дневнике Сергей Дмитриевич время выезда отметил точно – 7 часов 40 минут. Неизведанные, дальние дороги всегда манили его, а в эти минуты он особенно чувствовал, что ожидает его что-то новое, необычное.
Рабочих в партии четверо: Миша Лунеко и Дмитрий Чистяков, испытанные бешеными реками и голодными декабрьскими днями, да двое новичков: один – прикомандированный Союззолотом радист Слепцов, правда без радио, другой – бондарь с ольской рыбалки, принятый в экспедицию Цареградским после осенней путины.
Сопровождать партию до Таскана согласился Михаил Савин, молодой якут, добрый малый. Взялся бесплатно, только из уважения к Сергею Дмитриевичу. Уполномоченный Тасканского кооператива, он приезжал на Среднекан еще в октябре вместе с Елисеем Владимировым, к рождеству присылал Раковскому в подарок конского сала, а в последний приезд пригнал оленей.
Вышли на Колыму. Лед был крепок. Переночевав на Усть-Среднекане, на другой день пробежали километров двадцать пять и на следующий – не меньше. На пятые сутки домчались до Утиной, на восьмые – до Таскана.
Здесь встретили и наледи и полыньи. Увидели косяк гусей. Вожак вел гусей на север. Туда же уходила и Тасканская долина, замыкаясь белоснежными, с голубыми тенями горами Туоннах – так назвал их Михаил Савин. По его словам, у их подножия есть Сеймчанская тропа, по которой можно дойти до самого Якутска... К этой тропе и надо пробираться.
Двинулись берегом. Снег местами сошел, но земля была еще твердая, лишь глинистые комья, облепляя полозья, тормозили движение, да так, что усталые олени ложились. Их поднимали, нарты опрокидывали, очищали полозья. Два дня тянулись до юрты Петра Аммосова, а она от устья Таскана, как уверял проводник, совсем близко. На третий день, к обеду, прибыли.
Раковский измучился не менее других, но, наскоро перекусив, даже не почаевничав, вдруг ударился обратно, будто обронил что. На последнем переходе, километрах в трех от юрты Аммосова, он присмотрел обнаженные граниты, и там что-то поблескивало на солнце. С большим трудом вскарабкался к этим обнажениям и среди глинистых сланцев обнаружил порфировую жилу с кварцевыми нитками. Молоток не захватил – стал отбивать рукояткой ножа, лезвием отколупывать... Осмотрелся, видит – еще одна жилка. Пробрался к ней. Недалеко – еще одна. Часов пять, пока не стемнело, ощупывал эти жилки.
Они, тоненькие, невзрачные, не походили на те, молниеподобные, описанные Розенфельдом, но Сергей Дмитриевич подумал: может, это все-таки они? Ведь скала пока почти под снегом, а вот освободится через неделю – и засверкают молнии.
Возвратившись в юрту Петра Аммосова, с которым он познакомился еще на Среднекане, когда тот приезжал вместе с Владимировым и Савиным, Раковский спросил:
– Петр Гаврилыч, купец Розенфельд не бывал здесь?
– Нет. Моя бедный был, купец моя юрта не ходил, Попову ходил.
Попов Василий Петрович и его сын Петр с хворой женой жили в двенадцати километрах от юрты Аммосова, на бойком месте, у самой Сеймчанской тропы. Все проезжие останавливались в просторной юрте Поповых, как на постоялом дворе. У них для увеселения граммофон был.
И в эту весну в юрте Попова гостили люди: из Якутска для ликвидации неграмотности и переписи населения приехал учитель, уполномоченный с Оймякона привез кирпичный чай для Тасканского кооператива. Играл граммофон.
Василий Петрович и новых гостей принял очень радушно, как старых знакомых. С Раковским, Лунеко, Чистяковым Поповы виделись на Среднекане, когда привозили мясо и договаривались о найме лошадей. Тогда Василий Петрович и задаток получил от Сергея Дмитриевича: двести пятьдесят рублей, банку шанхайского сала и пуд муки. Прикомандированного к экспедиции радиста Слепцова он, оказалось, тоже знает еще с тех лет, когда тот в Ямске и Оле заведовал факториями.
Обменялись, как водится, капсе. А новостей – со всех сторон света: с Якутска, Оймякона, Среднекана, Олы... Сергей Дмитриевич с радостью узнал, что лошади для экспедиции закуплены и, как только будут в теле, Василий Петрович сам пригонит их в Среднекан. Завтра утром хозяин пообещал показать хороший лес для постройки лодки и даже вызвался подвезти к нему. За сносную мзду обещал поставить трех лошадей для разведки в верховья Таскана.
И тут Раковский завел речь о Розенфельде.
Попов оживился:
– Вывал. И в горы Туоннах ходил, камни смотрел. Вниз Таскана ходил, до самой Колымы ходил и по Колыме до Сеймчана плыл.
Не исключено, что Розенфельд искал прежде всего удобные пути. Но Сергей Дмитриевич понял якута по-своему, как хотел: Розенфельд вниз специально ходил к той горе с жилками и в Туоннахе камни смотрел неспроста.
Отправив трех рабочих на постройку лодки, Раковский с Лунеко ушли в горы Туоннах. Лазили по ним целую неделю, обследовали вершины трех рек и речек, взяли более сорока образцов, нашли два бивня мамонта и какую-то окаменелую кость, но не намыли ни одной золотинки.
Но и это обрадовало Сергея Дмитриевича: раз Гореловских жил в горах нет, значит, они там, внизу.
А постройка лодки чуть не сорвалась. Вначале все шло хорошо. Место для верфи выбрали, казалось, удачное: высокое, лес рядом. Поставили козлы, накатали бревна, в два дня заготовили кокоры, упруги получились надежные, связали нос, корму, начали обшивать, но тут поднялась вода, да так, что верфь затопило. Лишь через три дня вода убыла. Только в конце мая лодку спустили на воду.
Она дала небольшую течь, да и неудивительно, ведь швы не заливали варом: его не было. Но намокнув, посудина перестала течь. Не зря среди строителей был бондарь с ольской рыбалки.
Распрощались с гостеприимными хозяевами и отчалили.
Лодка, подхваченная бурным течением, полетела быстро.
Напротив порфировой жилы разбили стан. Раковский было отправился обследовать ее один, но за ним увязался радист Слепцов:
– Помогу, Сергей Дмитриевич, в золоте я малость кумекаю,– просительно сказал он.– Как знать, может и Розенфельда я знавал...
– Как это – «может»?
– Да так... Маленький был и не понимал: Розенфельд он или кто. Ласковый такой, на коленях меня держал. А мой отец в то время в Охотске телеграфистом служил, его Розенфельд никак миновать не мог, в гостях у нас наверняка бывал.
– Ну, так что ж?
– Когда я на прииске стал работать, там же в Охотске, много слышал о Розенфельде и о Бориске. Там я с Поликарпычем познакомился. Да что греха таить, хотели мы с ним миллионерами стать, на Колыму по следам Розенфельда, за Борискиным фартом, отправиться. А ныне вот на Среднекане опять встретились... – рассказывал Слепцов словоохотливо, но, видно, чего-то не договаривал.
Сергей допытываться не стал, не любил лезть в чужую душу, да и знал, если золотоискатель что-то скрывает – клещами из него это не вытащишь.
Три дня лазили по склонам, переходя от одной жилы к другой. Брали образцы на рудное золото из трех горизонтов, толкли в чугунной ступе, промывали, высматривали золотинки и простым глазом, и в лупу, но ничего, кроме блестящего, как золото, пирита и мышьяковистого колчедана, не увидели.
– Не все – золото, что блестит,– усмехался Раковский – И Розенфельд не мог быть таким профаном, чтобы пирит принимать за золото... Нет, это не Гореловские жилы.
В полдень четвертого июня снялись со стана. Через два часа лодку вынесло на стрежень Колымы, и она побежала с такой скоростью, что веслами едва успевали поправлять, чтоб не врезаться в берег. Косовые пробы не брали: все косы были залиты. Вечером подплыли к Утиной.
И первый, кого они встретили, был медведь. Огромный, лохматый, он похаживал по берегу, почесываясь о коряги.
Миша Лунеко, сидевший на носу, увидел его раньше других, вскинул берданку:
– Привет, хозяин! – и спустил курок.
Ружье, как это часто случалось у Михаила, дало осечку.
Косолапый встал на дыбы, заревел раскатистым басом и, смешно виляя кургузым задом, улепетнул в кусты.
Причалили, натянули палатку, разложили костер, стали готовить ужин. Медведи не беспокоили, но комары донимали. А ночь стояла светлая, белая, красивая. Спать не хотелось. Сидели у костра, овеваемые речной свежестью и смолянисто-пахучим дымком, кое-как спасались от гнуса и предавались воспоминаниям. В эту ночь исполнилось ровно одиннадцать месяцев, как высадились они на Ольское побережье и началась колымская эпопея.
– Поднимусь вон на ту сопочку,– указал Раковский на самый высокий голец, возвышавшийся справа над устьем Утиной.
– А медведь? – спросил Слепцов.
Сергей Дмитриевич усмехнулся, но зауэр все-таки взял и лоток прихватил. Без лотка он ни шагу не ступал.
С вершины гольца, насколько глаз хватал, открывался вид неописуемый. Колыма во всей своей полноводной красе блистала расплавленным серебром на западе и красноватой медью на востоке. Широкая долина Утиной уходила на юг и пряталась за такой же высокой, как этот голец, сопкой, но с плоской вершиной. Долина чуть подернута утренней дымкой, но сквозь нее хорошо видны лощинки и падающие в реку ключи. Сопку с плоской вершиной Раковский, как принято, назвал Столовой, а голец, с которого обозревал окрестности,– Золотым Рогом, И не только потому, что в эту ночь вспомнились Владивосток, бухта, гостиница, ресторан с таким же названием, но и как будто заранее предчувствовал, что вся видимая с этого гольца долина с ключиками щедро одарит его.
На другой день он взял с собой двух рабочих и отправился вверх по Утиной на всю неделю. Через каждые полкилометра брали пробы, промывали. Ключиков справа и слева было немало. Каждому из них Сергей Дмитриевич давал имя и непременно звучное: Каскад, Дарьял, Красивый. Лишь приток, у которого ночью поеживались от сильного заморозка, назвал Холодным да тот, где опять повстречали медведя,– Медвежьим.
Но когда Раковский промыл лоточек-другой на ключе Холодный, то так возликовал, что хоть переименовывай! В первом лотке – десять граммов золота, во втором – почти столько же! Какие уж тут заморозки, сразу согрелись! Брали пробы через сто шагов, а то и чаще. За день втроем промыли полтораста лотков, и в каждом золотило. В этот же день Сергей Дмитриевич наметил по узкой долинке Холодного, поросшей ерником и лиственничником, шурфовочную линию зимней разведки, рабочие сделали пяток неглубоких копуш – пески начинались под кочками.
Довольные и радостные вернулись на стан, разбитый в устье Холодного. Утинка надежд Билибина и предчувствий Раковского не обманула: золото найдено. Можно было бы возвращаться на базу и плыть по Колыме дальше. К тому же продукты были на исходе, а до базы два дня ходу. Но на рассвете другого дня Сергей Дмитриевич решил идти по Утинке вверх. Выше Холодного она то ли разветвлялась, то ли падал в нее еще один приток. Раковский не стал давать ему никакого названия и двинулся по левому истоку. Долинка была маристая, топкая. Пробы не очень радовали: знаки да редкие мелкие золотники. Но Раковский весь день упорно вел свой отряд вперед и завел его в такую марь, что долго не могли найти сухого места для ночлега, костер негде было развести. Поднялись на горную терраску. Стали готовить скудный ужин из трех пойманных хариусов.
– Пойду умоюсь,– сказал Сергей Дмитриевич и опять взял лоток: без него даже умываться не ходил.
Умывался он очень долго. Лунеко и Слепцов своих хариусов съели, попили чаю без сахара и конфет, рыбину Раковского поставили в котелке на кострище, чтоб не остыла, и полезли в палатку спать...
Тут вдруг и раздалось:
– Ребята, сюда!
Голос был каким-то неестественным – то ли взволнованным, то ли тревожным.
Похватали ружья, бросились вниз. Не иначе – на медведя напоролся Сергей!
Слепцов вскинул двустволку и чуть не выстрелил в... Раковского: тот стоял на четвереньках, в кустах. В сумерках его действительно можно было принять за медведя.
– Слепцов! Ослеп, что ли? – заорал Миша и ухватился за ствол.
Раковский поднялся им навстречу и протянул ладони, усыпанные крупными, хорошо окатанными, похожими на фасоль, золотыми самородками.
– Собирай, ребята, грибы.
По берегу, меж ребер щетинистого сланца, мерцали и желтели чуть прикрытые водой золотники, точь-в-точь как молоденькие крепенькие грибки-лисички. Нагибайся и бери.
Лунеко и Слепцов словно остолбенели: такого золота, чтоб лежало прямо на земле у самых ног, они не только никогда не видали, но и не слыхали о таком.
– Хотел умыться вон на той косе,– голос у Раковского подрагивал.– Но прежде нагреб небольшой лоточек песочку, начал промывать – и вдруг две золотины, одна с горошину, другая чуть поменьше, со спичечную головку. Набрал лоток чуть выше, и опять золотники. Еще выше... Так и шел. Умываться не умывался, а десяток лотков промыл, и все не пустые. Ну, думаю, вот здесь в заводи умоюсь и пойду на стан. Нагнулся. Что за чертовщина? Вода гладкая, не рябит, а в глазах будто желтые мушки. Зачерпнул ладонью, покрутил, как лотком, и на ладони – желтенькие, тяжеленькие. Огляделся, а рядом вот эта гребенка. Много раз слышал от умных людей, и сам Юрий Александрович говорил, что гребенки такие, по-научному сланцевые щетки,– хорошие природные промывалки, вроде буторы. Но сам я в этих щетках золото ни разу не встречал и не верил. Дай, думаю, посмотрю, чем черт не шутит. Подошел поближе, наклонился и глазам не верю: будто кто-то из огромной перечницы вместо перца – самородками. Собирай, ребята, что покрупнее... Грибки собирай...
– А во что собирать-то? – первым пришел в себя Лунеко.
Сергей Дмитриевич вынул из кармана жестяную коробку с белозубым негром на крышке, высыпал из нее зубной порошок:
– Вот и лукошко!
– Сергей Дмитриевич, я слетаю на стан, принесу вам хариуса, а то ведь совсем вы голодный,– и Лунеко убежал.
Сергей Дмитриевич снова присел на корточки, а Слепцов все еще стоял не двигаясь. Раковский глянул на него снизу вверх и не узнал. Его бледное и без того продолговатое лошадиное лицо еще больше вытянулось, нижняя челюсть отвалилась.
– В жизни такого не видел... Слухай, Сергей Дмитриевич, что делать-то будем?..
– Как что? Разведку поставим. Прииск откроем.
– Значит, начальнику скажешь, всем скажешь?
– Ну, всем говорить не буду, а Юрию Александровичу непременно.
– А ты не говори. Никому не говори! Будем знать только ты, да я, да Мишка, если язык за зубами держать будет! Осенью экспедиция уберется, а мы останемся. На всю жисть заработаем. Дело говорю. Слухай меня!
Сергей Дмитриевич не узнавал своего рабочего: он и говорил-то как-то неграмотно, а ведь сын телеграфиста, факториями заведовал. Раковский выпрямился:
– Слухай, ты, жисть! Спятил? Иди, палатку сворачивай, без тебя соберем. И считай, что ты мне ничего не говорил, а я тебя не «слухал». Иди. И медведей не бойся. Себя бойся!
Слепцов с трудом поплелся на стан.
Вернулся с хариусом Лунеко:
– Вы что тут, повздорили?
– Да, малость. Он предлагал назвать этот ключ Золотым или Богатым, а я против. Какое сегодня число, Миша?
– Двенадцатое июня пока.
– Двенадцатое июня! Да мы в прошлом году точно в этот день вышли из бухты Золотой Рог! Юбилей! Назовем этот ключ Юбилейным. Согласен?
– А чего ж... Подходяще!
– Ну, а теперь собирай золото на ключе Юбилейном!
И они вдвоем стали собирать. Извлекали, выколупывали из щетки только самые крупные самородки. Трудились всю ночь, благо она была светлая. Наполнили коробку из-под зубного порошка вровень с краями, едва можно было закрыть.
Сергей Дмитриевич плотно зажал крышку с улыбающимся во весь рот белозубым негром, взвесил коробку на ладони:
– Килограмма на два. Теперь потопаем на базу и поплывем дальше.
– Сергей Дмитриевич, а вы на базе-то Чистякову и Серову не показывайте...
– Почему? – опять насторожился Раковский.
– Ну, не сразу показывайте. Они спросят: «С чем пришли?» А мы: «Хорошо покормите – покажем».
Сергей Дмитриевич обнял Мишу:
– Так и скажем!
Шагали весь день голодные. К вечеру пришли на устье Утиной. Здесь их так и встретили:
– Здравствуйте. С чем пришли?
Они так и ответили:
– Покормите хорошо – покажем.
Чистяков и Серов, конечно, догадались, что пришли они не пустые. Выставили на ужин все, чем были богаты. Отпраздновали юбилей и находки на Юбилейном.
Утром Сергей Дмитриевич сделал затес на стволе прибрежного тополя, а в узенькую расщелинку спрятал записку для Билибина. Написал в ней по-английски, чтоб не поняли случайные хищники. А перед тем как написать, вспомнил проклятия американца Хэттла, которые они слышали от Сологуба: «There are no sands on the Colyma, absolutly no sands, god damn!» (Нет песков на Колыме, абсолютно нет, черт возьми!), и как бы в пику американцу уверенной рукой вывел: «There is very good gold in this river». (Есть очень хорошее золото в этой реке).
После Утиной должна быть Запятая. Но Раковский еще до подхода к Запятой обнаружил впадающий в Колыму не замеченный прошлой осенью ключик и потому не предусмотренный заданием Билибина. Сергей Дмитриевич решил обследовать его и окрестил Случайным. Обследовали – золото есть, хотя и не такое богатое, как на Утиной, Запятая тоже зазолотила. «В общем каждая речка,– подумал Раковский,– впадающая в Колыму, что-нибудь да имеет. И сама Колыма – несомненно, река золотая».
С этими мыслями и с желаниями как можно быстрее обрадовать Юрия Александровича Сергей Дмитриевич и приплыл на Среднекан. Но ни Билибина, ни Цареградского, ни Казанли на Среднекане еще не было.
На прииске царило уныние: на Безымянном мыть перестали, на новых делянах, что пониже Безымянного, золотило плохо... Матицев, нарушая указания Оглобина и Билибина, направил старателей на еще не разведанный Борискин ключ, много суливший, но и там пока не очень фартило.
А тут еще прошел слух: сплав сорвался, многие погибли на бешеной Бохапче, и Билибин вроде, и Оглобин... А поэтому всех ждет голод.
ДЕЛО ЧЕСТИ
Оглобин, когда набирал людей на сплав, говорил:
– Товарищи, это дело добровольное!
Но добровольцев не нашлось.
– Сознательным рабочим отказываться нельзя. Иначе сорвем золотую программу и промфинплан, задержим строительство пятилетки, а своих же товарищей, остающихся на прииске, обречем на голод.
Не нашлось и сознательных.
– Спирт дадут? – задали вопрос.– Купаться придется и – без спирту?
– А спецовки будут?
– Пороги надо взорвать! Знаки поставить!
– Премии – как?
Оглобин отвечал:
– Премии будем выдавать. Спецодежды пока нет. Пороги взорвать не сможем: нет взрывчатки. А опознавательные знаки будем ставить, и лоцманы у нас есть. Хорошие лоцманы! По тем порогам уже уходили. А что касается спирта, то – по мере необходимости...
Спирт кое-кого привлек, но премии – не очень:
– Перевернется карбас, и поплывет премия вместе с нами. Кто будет отвечать?
– Давай восьмой разряд и суточные три рубля. Жизнью рискуем.
Оглобин обещал и восьмой разряд, и суточных три рубля. Кое-как людей набрали, из не вполне сознательных.
От Среднекана до Малтана шли две недели. В середине мая стало изрядно подтаивать, и двигались ночами, благо они были светлые и морозные.
Место для верфи выбрали при устье Хюринды, где стоял хороший лес. Это было выше того Белогорья, у подножия которого вязались прошлой осенью плоты, и вызывало тревогу – хватит ли воды? Юрий Александрович уверял, что в половодье ее должно быть достаточно, лишь бы успеть к этому времени построить карбасы. К тому же это место – самое ближнее от перевалбазы Элекчана, откуда предстояло доставить две с половиной тысячи пудов груза. Тянули волоком, на себе, и тут, конечно, без бузотерства не обошлось.
А сколько бузили, горлопанили, митинговали на постройке карбасов и на самом сплаве, когда каждая минута была дорога! Не раз выводили из себя и Оглобина, и Билибина.
Билибин всего себя вкладывал в этот сплав. И все рабочие его экспедиции, даже хиленький Митя Казанли, глядя на него, не выпускали из рук топоры и стяги. Своей работой – геологосъемкой – занимались урывками. Все силы отдавали сплаву. Но лентяи и горлопаны, почти на нет сводили эти усилия. В общем это был не тот сплав, когда маленький отряд Билибина быстро, весело, с шутками и песнями вязал на Белогорье плоты, дружно пропихивал их по Малтану и бесстрашно гнал по бешеной Бохапче. Карбасы строили с большим опозданием, в спешке, кое-как. Были они похожи на неповоротливые утюги. А когда спустили их, большая вода уже прошла, да и не было ее в сущности: весна выдалась, как назло, недружная, затяжная, холодная. Юрий Александрович на водомерных рейках через каждые два часа отмечал уровень. Но и без этого было видно: в полдень река выйдет из берегов, а к ночи вернется обратно.
Промучившись на верфи безотлучно целую неделю, Билибин 22 мая решил отвести душу и вместе с Казанли отправился в первый маршрут. Они поднялись по щебенистому песчанику и глинистым сланцам на голец Тундровый, что возвышался как раз на стрелке Хюринды и Малтана. Решили здесь установить астропункт и от этого гольца начать геологическую съемку по всей долине. Работа предстояла большая, а времени было в обрез, и тут Митя предложил себя в геологи.
Юрий Александрович сначала отнесся к этому скептически, но потом, сказав: «Не боги горшки обжигают», дал ему инструкцию, несколько советов, показал, как надо делать, и вскоре, к своей радости, обнаружил, что Митя способен вполне грамотно вести геологические наблюдения, собирать образцы, вести записи в полевой книжке, правда, по-своему, так, что расшифровать эти записи смог бы только сам автор.
– Не переквалифицироваться ли вам, Дмитрий Николаевич?
– Нет. Я останусь астрономом-геодезистом. Но буду и геологом.
Вдвоем они, отрываясь от сплавных дел не каждый, день, обследовали Хюринду, Босандру, сделали маршрут на Белогорье, поднялись на гольцы Мрачный, Массивный, на пуп Черного хребта, на сопку Тарын, у подножия которой никогда не таяла огромная голубая наледь, совершили большой маршрут по реке Хета, правому притоку Малтана. И хотя возвращались на стан чертовски усталыми, были очень довольны, счастливы тем, что занимались своим любимым делом.
8 июня начался сплав. Малтан за одну неделю после паводка страшно обмелел, и на каждом перекате карбасы садились. Приходилось то и дело разгружать их или, собрав всю команду, спихивать их, прорывать каналы, чуть ли не перетаскивать на плечах... А было семь посудин, и на каждой по триста с лишним пудов. Мучения продолжались без малого двадцать дней.
И всякий день только и слышно было:
– Кончай сплав!
– Хватит!
– Дождей надо ждать...
Дожди изредка выпадали, но непродолжительные.
Наконец к ночи 25 июня дотянули до Бохапчи. Тут и дождь полил настоящий. Здесь и воды было побольше. Но выявилось, что многие гребцы, получившие восьмой разряд, на воде-то первый раз.
Добравшись до порога Два Медведя, до юрты якута-заики, да наслушавшись его причитаний о бешеной Бохапче, одни сбежали, другие крепко перепугались. И никакие уговоры ни Билибина, ни главного лоцмана Дуракова, ни ссылки на их прошлогодний удачный сплав не действовали.
Пока суд да дело, Билибин вместе с Казанли и Майорычем отправились на Мандычан, что впадал в Бохапчу слева, ниже Двух Медведей. Погода не благоприятствовала, но маршрут был удачным. В дневнике Билибин записывал:
«28 июня, пятница.
Выход со стана по берегу к устью Мандычана...
29 июня, суббота.
Временами дождь, гром, молния. Горы закрыты облаками.
Опробованы борта рч. Мандычан немного выше устья. Нижняя терраса – речники садятся прямо на почву. При почве в каждом ковше мелкие знаки косового характера. Верхняя терраса – речники садятся на почву, при почве более крупные знаки. Из-за сильного дождя распространить опробование вверх не удалось.
30 июня, воскресенье.
С утра облачно, но в десятом часу облака разгоняет. -Солнце.
Возвращаемся маршрутом над порогом Два Медведя»,
А у юрты якута сплавщики по-прежнему продолжают судить да рядить. Из всей команды согласились идти трое: сам Оглобин, Овсянников, бывший партизан, и Волков, тот самый артельщик «волков».
Из шести человек (шестой – Майорыч) Билибин организовал два звена: по паре гребцов и по одному рулевому лоцману (Степан Степанович и сам Юрий Александрович). Решили проводить по два карбаса. А всем остальным предложили обходить пороги берегом, пообещав в местах, где не пропустят прижимы, перевезти их как беспомощных пассажиров, без оплаты суточных.
«1 июля, понедельник.
Проехали два порога. Стан под порогом Юрьевским.
2 июля, вторник.
Прошли порог Степановский. Стан над порогом Михайловским.
3 июля, среда.
Стан над порогом Сергеевским.
4 июля, четверг.
К вечеру дождь.
5 июля, пятница.
Порог Сергеевский. Сложен крупными валунами, вынесенными из ущелья льдами. Вес валунов от булыжника 2—3 кг до 6—7 тысяч пудов.
6 июля, суббота.
Дождь. Остановка под порогом Дмитриевским».
Так, очень кратко, закончил записи в дневнике Юрий Александрович. Как он и ожидал, на порогах ничего не приключилось. Правда, часть груза подмочили, но это потому, что карбасы шили на живую нитку и они кое-где не выдержали ударов камней. Но основную часть – более двух тысяч пудов – доставили благополучно, без потерь, и, главное, никто не погиб. Конечно, нелегко было вшестером, перетаскивать через шесть порогов семь неповоротливых утюгов... Но продовольствием прииски будут обеспечены.
Юрий Александрович решил, что он свое, по определению Цареградского, «дело чести» исполнил и дольше задерживаться ему нет смысла.
За два месяца обошел строго по границе – Буюнде, Малтану, Бохапче – владения Колымского приискового района. Богатых месторождений не обнаружил, но те знаки, что находились и на Буюнде, и на Бохапче, дают основания расширить границы и разведки, и приисков.
В устье Бохапчи остался Казанли с рабочими, чтоб установить астропункт, который еще прошлой осенью просил определить Билибин. Дальше проводить караван судов на Колыме остался Степан Степанович. А сам Юрий Александрович с Майорычем сел в лодку, легкую якутскую ветку, и через сутки прибыл на Среднекан.
Задержались они на минуту в устье Утиной, где Раковский должен был оставить письмо о результатах своей работы, Юрий Александрович извлек бумажку из расщелины, тополя, прочитал, очень обрадовался, но посмотреть своими глазами это «очень хорошее золото» времени не было.
С Раковским он встретился на Среднекане 9 июля. К этому времени возвратилась из своего маршрута партия. Цареградского, и якут Попов, как обещал, пригнал лошадей для летних работ. К этим работам Сергей Дмитриевич, не дожидаясь дополнительных указаний Билибина, уже приступил и за десять дней опробовал все левые притоки от устья Среднекана до Безымянного.
– Ну, Сергей Дмитриевич, показывай very good gold.
Раковский щелкнул крышкой с негром, и Билибин не хуже негра засверкал своими белоснежными зубами.
– Другое завтра покажу.
– Почему не сейчас? Далеко?
– Нет, рядом. Но уже ночь, вам отдохнуть надо...
Заснуть Билибин не мог и, едва посерело бязевое окошко, поднял Раковского:
– Не томи, пойдем.
Взяли рюкзак, молоток, лоток с гребком и ушли, даже не перекусив. Сергей Дмитриевич привел на ключик, названный им Кварцевым, был он недалеко от барака и первой разведочной линии. Поднялись на вторую террасу, продрались сквозь заросли кедрача к подножию сопки, разделявшей ключи Борискин и Безымянный.
– Вот тут, например,– небрежно ткнул носком ичига Раковский.
Юрий Александрович припал к альбитовой порфировой дайке и без лупы, простым глазом, средь кварцевых прожилок увидел крупные золотины:
– Ого! Еще very good gold! Ну и везучий ты, Сергей!
Забыв о завтраке и обеде, весь день они лазили по сопке и узкому ущелью Кварцевого, набили образцами рюкзак по самую завязку, промыли десятка два лотков. Стали под вечер спускаться – увидели на другом берегу Среднекана еще одно заманчивое обнажение, алеющее в лучах заходящего солнца.
– Еще выход! Продолжение следует!
И бросились к реке. Скользя по камням, грудью рассекая бурный поток, перебрались на правый берег Среднекана. Пока не стемнело, обшарили весь обрыв, но ничего стоящего не нашли. Снова, но уже без горячки, перебрались обратно и, дрожащие, мокрые до последней нитки, вернулись в барак...
Ту жилу над Кварцевым ключом назвали Среднеканской дайкой. Билибин очень заинтересовался ею.
– Валентин Александрович,– обратился он к Цареградскому,– наш план летних работ опять меняется. У нас теперь не один, а два важных объекта: Среднекан и Утиная. И мы должны справиться с обоими. Я еду дообследовать утинскую россыпь и закартирую всю долину Утиной, а тебе, дорогой товарищ, придется поднатужиться и заснять всю долину Среднекана и опробовать эту дайку. Заманчивая дайка. Сможешь?
Цареградский пожал плечами:
– С одним Бертиным, пожалуй, не вытяну...
– А Раковский?
– И он со мной? Тогда, пожалуй, справлюсь...
– Вернется Казанли, и он будет работать на Среднекане. Между прочим, на Малтане и Бохапче он показал себя способным геологом.
– Справлюсь, Юрий Александрович.
Цареградскнй вернулся с Буюнды без золота. На устье Купки он обнаружил снаряжение Розенфельда: кайло, два лотка, две чугунные ступы. Но ничего похожего на Гореловские жилы не нашел и решил, что река Буюнда и вся Долина Диких Оленей не золотоносные. Билибин не возражал, но, чувствовалось, и не соглашался:
– Надо будет еще посмотреть... Я на Бохапче тоже вроде бы зацепился, но дожди помешали, да и время потеряли с этим сплавом... Рук у нас не хватает, нам бы еще парочку где подзанять...
– А что, если Кондрашова? – подсказал Раковский.– Он к нам охотно пойдет, и Матицев его отпустит: они не в ладах.
– Согласен. Переговори с ними, Сергей Дмитриевич, и я Кондрашова возьму на Утинку!
Сергей Дмитриевич с Петром Кондрашовым сразу договорились, но Матицев отказался отпустить его наотрез:
– Кондрашов – мой техраб. У него договор со мной, с Союззолотом, и ему служить как медному котелку.
Юрий Александрович с Матицевым до возвращения Оглобина не хотел и встречаться. Матицев по-прежнему гнул свою линию, старатели заискивали перед ним и с его молчаливого согласия копали где им вздумается. Долину Борискина ключа испоганили так же, как и на устье Безымянном.
Оглобин, прибыв с карбасами, на другой же день освободил техрука Матицева от всех его обязанностей и отправил с проводником в Олу, как было условлено с Лежавой-Мюратом. Временным техруком назначили Кондрашова Петра Николаевича, а в перспективе на эту должность намечался Раковский по окончании работы в экспедиции.
Без Матицева воздух в приисковой конторе стал сразу чище. Билибин познакомил с утинскими находками Оглобина и Кондрашова. Они очень заинтересовались ими, а Петр Николаевич тут же изъявил желание ехать на Утиную организатором прииска. Оглобин хотел бросить клич: «Кто на Утинку?» Юрий Александрович Кондрашова поддержал, а Оглобина попросил не торопиться «кликать» туда старателей: они и там начнут «хищничать».