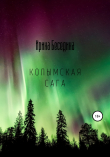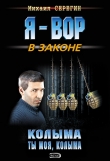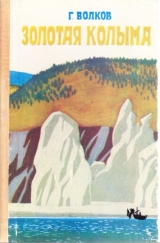
Текст книги "Золотая Колыма"
Автор книги: Герман Волков
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц)
ПЕРВЫЙ ЗОЛОТОЙ КОРОЛЬ
У Совторгфлота на Дальнем Востоке своих пароходов было мало. Плыть предстояло на зафрахтованном японском «Дайбоши-мару», дряхлой, изъеденной ржавчиной посудине. Ее, пятнадцать лет пролежавшую на дне, подняли недавно и пустили по рыбалкам Охотского побережья.
Билибин при посадке озорно пошутил:
– Колумб плавал на «Святой Марии», а нам приходится на какой-то «Дай бог шмару...»
Все захохотали, и даже очкастый японец в черном кимоно, который стоял у трапа под клеенчатым зонтом и неразборчиво выкрикивал по списку пассажиров, захихикал, хотя, вероятно, и не понял, как обозвали его галошу.
В дождливую теплую ночь двенадцатого июня 1928 года расставались с огоньками бухты Золотой Рог. Молча и долго стояли на мокрой палубе, прикрываясь плащами и рисовыми циновками.
В Японском море судно сразу же окутал туман, такой непроницаемый, что с кормы не было видно носа, и посудина будто стояла, лишь в пенистом шлейфе за винтом было заметно какое-то движение. Сквозь туман не разглядели остров Хоккайдо, вслепую прошли опасный пролив Лаперуза. В Охотском море туман сгустился и начало покачивать.
Далькрай навязал экспедиции врача, так как на все Приколымье не было даже ни одного фельдшера. Билибин взял в свой штат престарелого доктора Переяслова, не без ехидства спросив, кого он, кроме себя, будет лечить... При первой же качке лицо Переяслова стало похоже на незрелый лимон, и старик проклинал медицину, которой отдал жизнь, а она не придумала для него никакого снадобья от морской болезни.
Беспокоили Билибина сиплые гудки «шмары»... Для инженеров и доктора матросы по приказанию капитана сколотили из горбылей каюту с двухъярусными нарами, поставив ее на палубе у самой трубы, и громкие, протяжно хриплые гудки, издаваемые пароходом через каждые пять минут, дабы не столкнуться с другим судном, действовали на нервы пассажиров, не давали глаз сомкнуть.
Спотыкаясь о снасти, разбросанные где попало, по облитой вонючим мазутом палубе Юрий Александрович добирался до борта, задремывал на какой-то миг и вздрагивал, лишь захрапит гудок.
Цареградский качку переносил легко, но гудки и его выматывали. Тонкие губы перекосила кислая усмешка. Все поэты, воспевавшие море, казались лжецами. Альбом для зарисовок он не доставал, фотоаппарат не открывал.
Лишь Мипдалевич, уполномоченный Дальзолота,– он плыл со всем семейством в трюме – инженерам завидовал:
– Как буржуи плывете, в каюте. И почему капитан услужил только вам?
Билибину этот губастый Миндалевич сразу как-то не понравился, и не хотелось с ним говорить.
Ответил Цареградский:
– Мы вам охотно уступили бы свой люкс, но вы и ваша супруга проклянете нас за одни эти гудки...
– Да ладно... Мы и в снегу ночевали, нам и трюм привычен. На Севере что главное? Непритязательность. Завернулся в шкуру и спи. Непритязательность и терпеливость. Велят ждать – жди. Жди пароход, который неизвестно когда придет. Жди каюров, которые перед дорогой пьют чай часа три, а ты сиди и жди. Сам не торопись и других не торопи. Да и куда торопиться? На кладбище, что ль? На Севере и на кладбище можно не спешить. Труп, хотя и скоропортящийся товар, тут может лежать долго, а закопают в мерзлоту – тысячу лет пролежит... Я тут, в Охотске и Оле, пять лет уполномоченным Дальгосторга служил, а это в тутошних краях—бог и царь! Потому что на Севере главное – торговля, еще раз торговля и тысячу раз торговля! Через нее все снабжаются, все питаются, через нее государству – пушнина и золото. Я ныне уполномоченный Дальзолота. Первый золотой король! А Дальгосторг передали Лежаве-Мюрату... Имя у него громкое. Был председателем Государственного резинотреста, слышали? А теперь вот – в наших отдаленных краях... А я мог бы и раньше ухватиться за колымское золото. В позапрошлом году приехал ко мне в Охотск этот... Поликарпов. Бородатый, черный, как цыган, и сам без роду без племени. По Колыме бродил, а ко мне приехал заявку делать...
Билибин навострил уши, но вида не показал.
Да, приехал заявку делать, а золото, подлец, не дает. Я к нему и так и этак, всю политику пустил. Не клюет, подлец.
– Так-таки и не показал золото?
– Показал бы, товарищ Билибин! Я его тогда крепко прижал! В тюрьму посадил! Не выложишь золото – не освобожу! И выложил бы, да прокурор нагрянул. Ему бы, законнику, совместно со мной, ради госторговли, потрясти этого хищника... А он, буквоед, за отсутствием улик его освободил, а меня чуть не посадил якобы за нарушение законности. Но не на того нарвался! Я в двадцать втором...
– А может, Поликарпов не имел золота?
– Имел, товарищ Билибин, Чутье говорит, имел. Уж теперь-то я до него доберусь! Слышал, опять в Охотске обретается...
Но не доплыли еще до Охотска, как покатилась на закат звезда «золотого короля» Миндалевича. Бросили якорь на рейде рыбацкого селения Иня. С берега Миндалевичу доставили телеграмму. Лежава-Мюрат из Охотска приглашал его на радиостанцию для важного разговора и в той же телеграмме спрашивал, кто плывет, сколько человек, сколько груза. Миндалевич отправился на шлюпке в Иню. Разговор у него с Лежавой-Мюратом был не из приятных.
Лежава-Мюрат знал хорошо, кто такой Миндалевич, поэтому весь телефонный разговор приказал записать.
МЮРАТ. У аппарата Лежава-Мюрат. Здравствуйте. Прежде всего, имеете ли Вы лично что ко мне? Отвечайте на заданные мною в телеграмме вопросы.
МИНДАЛЕВИЧ. Здравствуйте. Отвечаю. Главное, еду совместно с исследовательской геологической экспедицией. Указанная экспедиция на основании директив центра...
МЮРАТ. Подробности не нужны. Когда пароход зайдет в Охотск?
МИНДАЛЕВИЧ. Предполагаем прибыть в Охотск через шесть дней.
МЮРАТ. Передаю важное для Вас распоряжение. Правление Союззолота семнадцатого июня передало мне полное руководство работами по Колымскому краю. Вы лично поступаете в полное мое распоряжение. Условились с Союззолотом использовать Вас, если согласитесь и совместная работа окажется возможной. В первую очередь Вы должны ознакомить меня со всеми планами, вручить все материалы, совместно с ответственными работниками экспедиции пересмотреть весь план работы, что лучше сделать в Охотске. Сможете ли немедленно выехать с ответственными работниками, не дожидаясь отхода парохода? Каждый час дорог. Желательно избежать по проводу лишних разговоров. Подумайте, отвечайте, жду.
МИНДАЛЕВИЧ. Отвечаю. Передам начальнику экспедиции Ваше предложение выехать в Охотск. В крайнем случае, выеду один,
МЮРАТ. Хорошо. Имею еще ряд вопросов. Сколько на пароходе ваших людей и груза?
МИНДАЛЕВИЧ. Тридцать пять человек, включая мое семейство. Груза с инструментами, возможно, наберется до пятнадцати тысяч пудов. Вполне понимаю, что главное – учет транспорта...
МЮРАТ. Сделаны ли Вами предварительные распоряжения по организации транспорта в Оле?
МИНДАЛЕВИЧ. Экспедиция запрашивала Олу. Ответ не получен. Имеется ряд конкретных соображений по выходу из данного положения. Удобнее обсудить при личном свидании... Дальзолото настаивало, чтобы я взял в Хабаровске сто-двести человек старателей. Я отказался до выяснения с Вами вопросов снабжения...
МЮРАТ. Очень хорошо поступили, но, по сообщению из Владивостока, на «Кван-Фо» едут какие-то рабочие, везут груз. Что Вам об этом известно?
МИНДАЛЕВИЧ. Перед моим отъездом из Владивостока, несмотря на мой категорический отказ, выслали четырнадцать человек старателей, отобранных специально для первой необходимости...
МЮРАТ (перебивает). Товарищ Миндалевич! До моего вмешательства Дальзолото во главе с Перышкиным наделало ряд несуразностей, в том числе в Охотске, что я сейчас решительно ликвидирую. Положение создается необычайно трудное. Нам всем предстоит каторжная работа, выдержка, предусмотрительность. Передайте всем ответственным сотрудникам мою большую просьбу к происшедшим персональным изменениям отнестись спокойно, со всей серьезностью к создавшемуся положению. Буду рассчитывать на полную искренность, готовность сотрудничать, решительность и дисциплину. Можете вызывать по проводу в любое время. Помимо меня с Хабаровском и Москвой не сноситься во избежание новых противоречий. Жду Вашего и товарища начальника экспедиции приезда с нетерпением. Ознакомьте его с содержанием нашей беседы. Будьте осторожны лично в отношениях со старыми знакомыми. Вокруг Вашего имени здесь создано неблагоприятное положение, с чем необходимо считаться. Я кончаю, если не имеете дополнительных сообщений. Сейчас Вам передадут распоряжение Союззолота, подождите приема телеграммы № 32437 Перышкина. До свидания.
Миндалевич дождался телеграммы, которую можно было и не ждать. Она сообщала известное: «Ряду обстоятельств руководство передаем Мюрату тчк Вы поступаете полное его распоряжение выданную Вам доверенность передайте Мюрату тчк Перышкин».
– Точка. Перышкин,– подытожил Миндалевич, порвал телеграмму на мелкие клочки и, посыпая ими свой след, поплелся на пароход.
Билибину Миндалевич в двух словах передал разговор с Мюратом и его предложение, но в таких словах, что Юрию Александровичу не захотелось срываться с парохода и скакать на лошадях в Охотск к Мюрату. Не будет ли этот Лежава еще одним камнем преткновения на тяжком пути к Колыме?
Билибин ответил:
– Нет, на лошадях в Охотск не поеду. Да и куда торопиться, товарищ Миндалевич? На Севере, как вы сами говорили, спешить некуда и незачем.
Миндалевич поскакал из Ини в Охотск один.
ВТОРОЙ ЗОЛОТОЙ КОРОЛЬ
В Охотском порту для супруги Лежава-Мюрата сгружали рояль. Когда его спускали в кунгас и подгоняли по волне к берегу, он издавал никогда не слыханные в этой глухомани звуки. Его владелица, в длинной черной юбке и пышной белой кофте, нетерпеливо похаживала по отмели, вертя шелковый, радужной расцветки зонтик.
Капитану «Дайбоши-мару» она почудилась очаровательной гейшей.
– Хоросая барысня!
Капитан, в соломенной шляпе и желтых лакированных штиблетах, сам спустился в кунгас и поторапливал своих гребцов. На этом же кунгасе отплыли на берег Билибин и Бертин. Эрнеста Юрий Александрович взял на всякий неприятный случай и ради представительства: все-таки родной брат известного Бертина!
Пошуршали по дресве Билибин и Бертин. Триста лет назад так же по этой же дресве ради прииска новых землиц шли казаки-землепроходцы, ставили здесь Охотский острожек и, неся цареву службу, терпели великую нужду.
Юрий Александрович и Эрнест издали увидели дом, посолиднее прочих, в который шустрые японцы-матросы вносили дорогой инструмент. Дом стоял на площади, напротив церкви. Вошли в него и они.
Эрнест, проинструктированный начальником, с порога бахнул:
– Б-Б-Бертин!
Юрий Александрович ему в тон:
– Билибин!
Но Лежаву их голоса не оглушили. Он чуть ли ни облобызал желанных гостей. Он их ждал почти полмесяца. Сразу же усадил за стол, уставленный вином и яствами, и сразу же предложил приступить к деловым переговорам.
Однако его супруга, Жанна Абрамовна, истосковавшаяся по столице, бесцеремонно оттеснила мужа, представилась Билибину как бывшая московская актриса и жадно начала расспрашивать о Москве, Ленинграде, а когда узнала, что известный художник Билибин, завсегдатай артистических кафе,– дальний родственник Юрия Александровича, то ударилась в воспоминания, пересказала множество каламбуров и острот художника Билибина, и все это под легкую музыку своего новенького рояля.
Лежаве-Мюрату ничего не оставалось, как вести деловые переговоры под эту же музыку и самому произносить тосты вперемежку с анекдотами. На это он был неистощим как истинный кавказец.
Билибину и Бертину ничего не оставалось, как слушать н поднимать бокалы.
Лишь Миндалевич сидел в этой компании как в воду опущенный.
Зашла речь и о колымском золоте. Лежава-Мюрат извлек из сейфа невзрачную бутылочку из-под сакэ, тяжелую, как граната.
Билибин так и впился в нее:
– Золото? С Колымы?!
Юрий Александрович осторожно, обеими руками, как младенца, взял посудину, высыпал из нее пяток золотинок на ладонь, рассматривал их и на свет, и против света, любуясь матовым мерцанием.
– Здесь два фунта, а Поликарпов говорит, что намыл бы два пуда, да отощал, все запасы съестного у него вышли... Точного анализа пока нет, но предварительно мною установлена восемьсот восемьдесят восьмая проба.
– Да, посветлее будет алданского,– заметил Эрнест,– да и мелкое, как козявки. Может, Юрий Александрович, вернемся? На что нам мелочь?
Лежава-Мюрат шутить не собирался:
– Из-за этих козявок, товарищ Бертин, после того как их показал Поликарпов в этой бутылочке, вся моя епархия взбесилась! Двести приискателей работу побросало! В Охотске всех лошадей скупили, в лавке все припасы забрали! Не придержи я этот народец – вспыхнула бы золотая лихорадка, пострашнее, чем в книжках Джека Лондона. А с меня, с Лежавы-Мюрата, как с молодого барашка, шкуру долой, а мясо на шашлык. Куда вы, говорю, сумасшедшие? На голодную смерть? В Хабаровск, Владивосток, в Москву молнировал: решительно прошу запретить въезд на Колыму. Добился! Кордоны выставили. Стихию осадил. Но всякое дело – палка о двух концах. Страна сколачивает золотой фонд. И если на Колыме, в моей епархии, открылось золото – значит, надо форсировать его добычу. Иначе тебя опять на шашлык, как барана-оппортуниста. И я форсирую. Привел к себе Поликарпова, посадил вот за этот стол, накормил-напоил, предложил по всем законам оформить заявку на имя Союззолота и пообещал назначить его старшим горным смотрителем на первый колымский прииск. И вознаграждение за находку золота, и руководящая должность! Вот так вот! – Мюрат метнул торжествующий взгляд на Миндалевича; тот хотел вроде возразить, но только поморщился,– И вот она – эта заявочка. И я от имени Союззолота и лично товарища Серебровского прошу вас, товарищ Билибин и товарищ Бертин, проверить ее на Колыме.
Юрий Александрович, волнуясь, взял заявку Поликарпова. Где погиб Бориска, да и нашел ли он золото – точно никто не знал. Розенфельд в своей записке и на карте не указывал, где он видел жилы, подобные молниям. Экспедиция ехала без адреса, без привязки. А в заявке Поликарпова все точно обозначено: речка Хиринникан впадает справа в Колыму, устье ключа Безымянного – в двадцати верстах от устья Хиринникана.
Билибин обнял Лежаву-Мюрата:
– Дорогой кацо! Я с великим удовольствием проверю эту заявочку товарища Поликарпова и выполню задание ваше, товарищ Лежава, и товарища Серебровского, которого я имел счастье дважды видеть! Мы будем искать золотую пряжку Тихого океана в долине ключика Безымянного!..
Юрий Александрович просил познакомить его с Поликарповым.
Лежава-Мюрат вопросительно посмотрел на Миндале-вича, сидевшего насупленно, как сыч, и развел руками:
– Невозможно. Сейчас Поликарпова в Охотске нет, он на приисках. Но я направлю его на Колыму, и там вы найдете с ним общий язык. Мужик умный и честный.
Переговоры продолжались всю ночь. Обсудили все вопросы: и транспортные, и продовольственные, и как организовывать добычу золота.
Под утро Билибин, Бертин и Миндалевич вернулись на пароход.
Капитан «Дайбоши-мару» встретил их вежливыми упреками:
– Нехоросо, господа. Задерска, господа.
– Пардон, капитан! Поднимай якоря, капитан! Форсируй!
– А иначе – с-с-саслык! И не видать вам хоросей ба-рысни!
В каюте Билибин всех поднял громовым голосом:
– Возрадуйтесь, догоры! Мы будем танцевать от печки! – и шепотом: – Я держал на ладони колымское золото.
Часть вторая
ОЛЬСКОЕ СИДЕНИЕ
ХРОНИКА СЕЛЕНИЯ ОЛА
Старый тунгус сказывал:
– Давным-давно орочи, оленные люди, жили в верхнем мире, в горах, где мать-земля мягким мхом расстилалась, где рос корень жизни – ягель. Где ягель, там олени. Где -олени, там и оленные люди. Олень – пища и одежда ороча, его дом – из оленьих шкур. Так они жили, и много оленей у них было – полная долина.
Но однажды, в долгую зимнюю ночь, вспыхнули шесть радуг. И погасли звезды, и запылали багровые сполохи. Они взметнулись огненными столбами, а потом зелеными лентами стали извиваться по черному небу.
Невиданное сияние взволновало оленных людей. Шаманы изрекали: шесть радуг – знамение Евоена, бога и праотца орочей, сполохи – его лицо в гневе, зеленые ленты – его волосы... И пророчили шаманы всякие беды. И собаки выли.
А когда сияние погасло – с полуночной стороны налетел сильный и холодный ветер. Все завихрилось и закружилось в бешеной снежной пляске. Пурга разметала чумы. Пурга погнала оленей в полуденную сторону, и туда же, гонимые ветром, побрели люди и собаки.
Много дней и ночей шли олени, собаки и люди. Изнемогали, падали, поднимались... Поднимались не все, только сильные. Разбрелись и потерялись в пурге олени. Остались лишь собаки и люди. Безоленные, голодные, измученные, люди собрались умирать и вскарабкались на высокие горы.
Но тут пурга улеглась, и люди увидели с гор в полуденной стороне другой, нижний мир. В полуденном нижнем мире зеленела широкая долина, быстрая река бежала по долине к морю. А море было большое и синее, как небо.
И еще увидели люди: река от гор до моря бурлит и кишит рыбой. Голодные люди бросились в нижний мир с радостными криками:
– Олра! – Что значит – рыба.
Олра спасла людей и собак от смерти.
Рыба шла вверх, на нерест. Шла так густо, что терлась одна о другую, вытесняв одна другую на берег и в кровь разбивалась о камни. Рыбу ловили без всяких снастей. Входили в реку, хватали за жабры, за хвосты и выбрасывали на берег.
Здесь, в нижнем мире, на берегу реки и моря люди поставили из лиственничных жердей чумы, покрыли их вместо оленьих шкур корьем и землей. Рыбы запасали вдоволь и для себя, и для собак. Другой пищи не знали.
Так оленные люди, орочи, бродячие тунгусы, потеряв оленей, отказались от вольного кочевья и сели на устье реки, у моря. Стали морскими людьми, ламутами, сидячими тунгусами. А все они: и орочи, и ламуты – эвены, от одного праотца Евоена. А реку так и называли – Олра. Русские люди перекрестили ее в Олу. Так и поселение нарекли – Ола.
Служивые царевы люди Олу почему-то долго обходили стороной, может, потому, что нечего было взять с ольских сидячих тунгусов, а может, и побаивались: во времена присоединения российскими казаками Сибири тунгусы показали большее мужество, нежели прочие племена.
На закате, в трех собачьих перегонах от Олы, казаки поставили Тауйскую крепостицу, на востоке срубили Ямское зимовье, а на Оле долго ничего не ставили, И лишь в прошлом веке уездное начальство учредило Ольский стан, нарядило сюда казака Иннокентия Тюшева. Был он в службе усерден, за многолетнее усердие медалями обвешан и дослужился до зауряд-хорунжего.
Христовы слуги, православные священники, желавшие во что бы то ни стало обратить в свою веру всех инородцев-язычииков, тоже почему-то долго не тревожили ольских сидячих тунгусов. В Тауйске сначала часовню срубили, а затем в 1839 году и церковь, Благовещенскую, освятили. Пять лет спустя в Ямске построили церковь Покрова. В Оле лишь через полвека поставили двуглавую деревянную церковку Богоявленскую, освятив ее в 1896 году.
Была она однопрестольная, священника своего не имела, наезжал из Ямска отец Серапион. Престол был в январе, на Богоявление. В это время и ярмарка. Поп – с крестом, торговые люди – с товарами, бродячие тунгусы – с мехом. Поп исповедовал всех: и бродячих, и сидячих, крестил всех детей, народившихся за год, венчал всех, кто уже не только женился, но и детьми обзавелся. За наспех и чохом свершенные обряды отец Серапион брал белками и горностаями. Красным зверем брали за охотничьи припасы, мелкую галантерею и огненную воду торговые люди. Мягким золотом взимал ясак для белого царя казак Иннокентий Тюшев. Про царя тунгусам он говорил: высок царь, выше гор и звезд, и много-много шкурок надо, чтоб одеть его. Тунгусы верили и попу, и купцу, и казаку Тюшеву, и своему шаману.
Здесь же, на ольской ярмарке, отведав огненной водицы, под шаманские бубны тунгусы исполняли свои древние танцы. Кончался престол, кончалась ярмарка, бродячие орочи откочевывали, сидячие ламуты оставались. И затихала, засыпала Ола до следующего января.
Еще в позапрошлом веке среди ольских сидячих тунгусов объявились насельниками первые русские, Якушковы, из тех хлебопашцев, коих повелением матушки Екатерины посылали в дикий край хлеб сеять. Но скупая землица не захотела рожать, а Якушковы чуть не вымерли. Из всех осталась в живых вдова Евпраксия с пятью дочерьми и двумя сыновьями. Чтоб окончательно не известись, занялись хлебопашцы рыбной ловлей, породнились с морскими людьми, стали скуластыми, узкоглазыми, свой родной язык покорежили, засюсюкали, как тунгусы, окамчадалились. Так и выжили. Два сына вдовы Евпраксии такие корни пустили, что через полвека расплодилось в Оле шесть крестьянских семей Якушковых. Одна, Николая Якушкова, занявшись торговым делом, перед революцией в мещане записалась.
Прежде путь в Колымский край лежал через Якутск, Верхоянск, Зашиверск, Алазейск – долгий северный путь, две с половиной тысячи верст, проторенных русскими землепроходцами еще в XVII веке. Двести лет спустя, в 1893 году, бывалый казак Петр Калинкин пришел на берега Колымы с Олы. Эта дорога оказалась на две тысячи верст короче, причем шли с юга, с Охотского моря, а по нему из Владивостока можно доставлять грузы без особых неприятностей. И не будучи купцом, Калинкин решил заняться развозным торгом.
Для этого люди нужны лошадные. Таких в Оле, кроме Якушковых, не нашлось. У остальных – одни собачки, а на собачьих нартах до Колымы ничего, кроме собачьего корма, не перевезешь. И тогда Калинкин подрядил из разных якутских улусов людей, испокон лошадных: Михаила Александрова с сыновьями, бездетного Макара Медова, Николая Дмитриева, по прозвищу Кылланах, и еще троих.
Они перебрались поближе к Оле, но к ольскому обществу насельников не приписали и назвали их гадлинскими якутами, поскольку юрты самого богатого, Михаила Александрова, были поставлены в урочище Гадля, а другие обосновались на три-четыре версты друг от друга. Так возникло поселение Гадля.
Калинкин сделался купцом. Гадлинские якуты и два брата Якушковы стали у него вроде разъездных приказчиков. Все безграмотные, поэтому Калинкин каждого одарил перстнем с именной печаткой, чтоб могли ставить оттиски на торговых бумагах вместо росписи.
Торговля пошла прибыльная. За фунт сахару – три беличьи шкурки, за фунт листового табаку – шесть хвостов, за фунт кирпичного чая – семь. Через десять лет купец Калинкин расщедрился и доброхотно пожертвовал волнистое цинковое железо на кровлю управы Ольского стана и двуглавой Ольской церкви, за что получил благословение на широкую торговлю и навечно был занесен в церковную летопись.
Вслед за Калинкиным двинулись через Олу на Колыму торговые люди Шустовы, Соловьевы, Бушуевы и даже пронырливые американцы фирмы «Олаф Свенсон и К»– Выпала на долю бедного, богом забытого селения Ола честь служить морским портом н исходным пунктом великого, на сто оленьих переходов, Колымского тракта.
Ходил по этому тракту, искал и другие удобные пути тот самый Розенфельд, приказчик благовещенского купца Шустова, что узрел однажды молниеподобные жилы и стал первым провозвестником несметных сокровищ золотой Колымы. За ним увязывались конюхами охотские старатели Михаил Канов, Иван Бовыкин, Софей Гайфуллин и тот самый Бари Шафигуллин, легендарный Бориска, что прятал колымские самородочки от самого себя и был похоронен якутами Михаилом Александровым, Николаем Дмитриевым и Колодезниковым в своем шурфе. Конюхи-старатели иногда вместе, чаще тайком друг от друга вымывали па речных косах небогатое косовое золотишко, потихоньку сплавляли его торговым и церковным людям.
После смерти Николая Якушкова, а умер он в двадцать первом году, когда белая банда Бочкарева высадилась в Оле, остались не только пятистенный дом с пристройками, не только шкурки белок, лисиц, горностая, всякая мануфактура и галантерея, но и деньги разной валюты: американские и мексиканские доллары, японские иены, золотые империалы, разменное серебро царской чеканки и 273 золотника россыпного, еще не очищенного, шлихового золота.
В ольской Богоявленской церкви после того, как ее пограбили бочкарёвцы, наряду с американскими н мексиканскими долларами, японскими иенами и романовскими рублями обнаружили такое же россыпное золото, правда немного, всего шесть золотников.
А когда упразднили в Оле торговую фирму «Олаф Свенсон и К» и Ольский волостной ревком реквизировал ее капиталы, то и среди них оказалось 244 золотника шлихового золота.
Откуда оно, шлиховое? С материка сюда не повезут. Может, из Охотска? А может, и с Колымы. Золото светлое, да дела темные. И неспроста будоражно погуливала молва о колымском золоте, хотя говорили, что его никто и не видел.
Когда в 1921 году высадился в Оле есаул Бочкарев и начал грабить так, как и купцы не грабили, то ведь и он своему начальству во Владивосток с похвальбой телеграфировал: «Сижу на золоте и одеваюсь мехами».
При бочкаревщине-то и появился в Оле рязанский мужик Филипп Поликарпов. У ставленников Бочкарева он доверием не пользовался, приладился к бесхитростному татарину Софею Гайфуллину, а тот проживал у якута Александрова. Под честное слово богатого якута и за счет бочкаревского поручика Авдюшева ольская лавка американца Олафа Свенсона выдала Поликарпову, как сказано в торговой книге, «на золотые работы» 10 кулей муки, 13 фунтов кирпичного чая, 28 фунтов табаку, 5 фунтов мыла, 3 фунта свечей, 8 фунтов сухих овощей, 3 рубашки, 3 карандаша, топор, лопату, ножницы, гвозди, порох, дробь и еще кое-что по мелочи на 462 рубля.
Вышли Поликарпов и Софейка по крепкому насту ранней весной 1923 года. Повел Гайфуллин Поликарпова по тому пути, по которому с Розенфсльдом ходил. Все лето бродили, но ничего не нашли. Пришлось бы расплачиваться с бочкаревцами своей кровью. Но на их счастье, к тому времени с бочкаревщиной было покончено, Авдюшева расстреляли.
Когда после разгрома Бочкарева на Охотском побережье окончательно установилась Советская власть, первым председателем Ольского ревкома был назначен Иван Бовыкин, а соседнего, Ямского,– Михаил Капов. Они значились рабочими золотой промышленности и единственными в этом крае представителями пролетариата. Взялись за дело ревкомовцы по-революционному, все нетрудовые золотые запасы, у кого они были, реквизировали, в 1924 году организовали Ольско-Ямскую трудовую горнопромышленную артель.
Было это в сентябре, как раз когда снова вернулись из колымской тайги Филипп Поликарпов и Софей Гайфуллин. Они били шурфы в верховьях Хиринникана и зацепились за золото. Выбили четыре шурфа, на большее не хватило сил. Ревкомовцы решили во главе своей новой артели поставить Поликарпова и двинуться на Хиринникан в следующем году. Но крепкий мужик Филипп Романович зацинговал, Гайфуллина за какие-то темные прошлые делишки под конвоем отправили в Николаевск-на-Амуре. Ольско-Ямская трудовая горнопромышленная артель распалась.
В 1926 году в истории селения Ола произошел поворотный момент. Был образован Ольский район, и небольшое село стало административным центром. В апреле на Первом районном съезде Советов делегаты от орочей, камчадалов, якутов выбрали исполнительный комитет. В то время во всем районе не было ни одного партийца, в исполкоме оставили для него место и запросили коммуниста из окружкома ВКП(б). Из Охотска приехав Михаил Дмитриевич Петров. Он и стал первым председателем Ольского райисполкома и первым и единственным долгое время членом партии на весь огромный район.
Решительный, боевой, горячий, он развернул активную деятельность, иногда в своем стремлении поскорее вывести край из дикости перегибал палку, но за два года сделал многое. Неспроста прозывали его Петром Первым. Лежава-Мюрат, когда встретился в Охотске с Билибиным, наставительно советовал ему «следовать указаниям предрика Петрова, единственного надежного работника, считаться с его резкостью и прямотой».
Петров обратил внимание и на колымское золото, хотя оно находилось за пределами его района. В 1926 году Поликарпов, Канов и Бовыкин, по разрешению председателя райисполкома, забрали в ольской кооперативной лавке на две тысячи продуктов и снова артелью направились на заветный Хиринникан, называя его по-русски Середнеканом и Среднеканом.
Там, в левом истоке, они пробили пятнадцать шурфов. Содержание было небогатое, полдоли на лоток, но попался один шурфик и с тремя долями. Беда была в том, что все шурфы оказались на таликах, воду не отольешь. Словом, заработали немного, но вернулись с великими надеждами и, по совету предрика, направили Поликарпова в Охотск на переговоры с уполномоченным Дальгосторга Миндалевичем делать заявку. Переговоры, как известно, закончились арестом Филиппа Романовича.
В начале 1927 года он, освобожденный прокурором, возвратился в Олу, и с помощью райисполкома артель снова снарядилась на Среднекан. Летом прошла ниже левого истока и в устье безымянного ключика, опробуя каменистую сланцевую щетку, сразу же вымыла шесть крупных золотин. На ключике Безымянном – так они его окрестили – артель проработала до ноября и намыла более двух фунтов. С этим золотом в зеленой бутылочке из-под сакэ Филипп Романович, снова рискуя своей свободой, вторично объявился в Охотске. Но тут был уже другой уполномоченный – Лежава-Мюрат, и загорелась звезда Поликарпова, а вместе с нею вспыхнула и та золотая лихорадка, которую Мюрат пытался пригасить всеми своими правами и силами, но не очень успешно.
Первым вышла из Охотска в Олу артель какого-то американца Хэттла и Сологуба. В самой Оле Бовыкин и Канов, не дожидаясь возвращения Поликарпова, снова организовали артель. Как только море освободилось ото льда, еще одна артель, Тюркина, на вельботе приплыла из Охотска в Олу. С первым рейсом парохода «Кван-Фо» из Владивостока в Олу прибыла хабаровская артель. Такого наплыва людей Ола никогда не переживала, кончилась ее вековая спячка.
Билибин, подплывая к Оле, очень надеялся на помощь и содействие предрика Петрова. Но Юрий Александрович не знал, что в это время краевые власти откомандировали Михаила Дмитриевича, единственного коммуниста и надежного работника, и пароход «Кван-Фо», на котором он покинул Олу, в открытом море в непроглядном тумане разошелся с «Дайбоши-мару» где-то между Олой и Охотском.