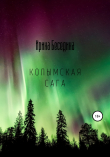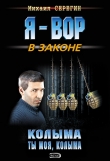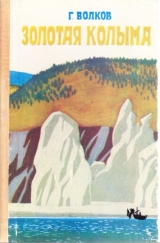
Текст книги "Золотая Колыма"
Автор книги: Герман Волков
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц)
ВПЕРЕД НА СОБАЧКАХ
Искусством управлять собачками быстро овладели не только Цареградский и прыткий Кузя Мосунов, но и тяжеловатый на подъем Андрей Ковтунов, и рассеянный, как все ученые, Митя Казанли, прежде видивший собачьи упряжки лишь в книжках с картинками.
Макар Захарович был доволен своими учениками и каждому советовал:
– Купи нарта – каюр будешь, симбир саха будешь!
Торили дорогу Петр и Михаил. Макар Захарович пока никому, кроме них, не доверял это сложное дело..
Лишь после четвертой ночевки Медов распорядился поставить впереди нарту Цареградского. Валентин был горд.
Утром собаки, хорошо отдохнув за ночь, охотно, с радостным повизгиванием шли в упряжку. Только две, которых Валентин ставил в последнюю пару, плелись на это место уныло. Бежать и отдыхать на самом коротком ремне очень неудобно. Сюда обычно ставят провинившихся. Валентин так и сделал: справедливо, как опытный каюр, поставил в последнюю пару рыжего Буяна и ленивую Белку.
Наконец все позавтракали, собрались. Макар Захарович уселся на нарту Цареградского, спиной к нему, и небрежно махнул рукой:
– Ехай,
– Хак! – воскликнул Валентин, и его упряжка тронулась первой.
Сначала ехали густой прибрежной порослью, навстречу бежали высокие стройные чозении. Отягощенные снегом, они осыпались мелкими белыми цветами и напоминали Валентину лесные сказки из далекого детства.
Из перелеска вылетели на лед речки Чаха, левого притока Олы, падающего с гор и потому быстрого, местами незамерзшего. Макар Захарович предупреждал, что лед на Чахе, вероятно, еще тонок, могут встретиться и полыньи. Цареградский был настороже, всматривался зорко, но, когда собаки, встревоженные пролетевшей впереди кедровкой, понесли во всю прыть, Валентин опьянился такой ездой, забыл об осторожности и не только не притормаживал, а, напротив, криками «хак! хак!» и остолом подбадривал четвероногих.
Ветер свистел, полозья визжали, точно комары звенели, и лед, местами зеркально чистый, казался крепким, надежным. Макар Захарович, укрывшись от ветра за спиной своего ученика, навалился на него всей тяжестью – вероятно, крепко и сладко спал...
И вдруг – толчок! И нарта левым полозом повисла над провалом, и все пять собак левой упряжки заскользили вниз, увлекая остальных, Валентин в ужасе замер: под ним бурлила и неслась темно-зеленая вода.
Когда и как соскочил с нарты Макар Медов, Цареградский не видел, он только услышал:
– Прыгай сюда!
И прыгнул в один миг с этим криком, угодив прямо под бок старику. Макар Захарович, растянувшись по льду, цепко ухватился за копылы нарты. Последовал его примеру и Цареградский. Вместе они удержали сани и огромным усилием стали оттягивать от полыньи. Им помогала и правая пятерка собак, особенно рыжий кобель Буян: он зубами вцепился в постромки Белки и выволок ее из провала.
Когда вытянули весь потяг и оттащили нарты, собаки долго визжали и ошалело отряхивались. А Макар Захарович, насупившись, молчал. Валентин, избегая его взгляда, долго и старательно поправлял груз, разбирал собачью упряжь. Подъехали остальные.
– Искупались, вожаки? – спросил Кузя.
Валентин и Макар Захарович в ответ ни слова. Наконец старик сел на свое место и спокойно, как будто ничего не случилось, сказал:
– Ехай.
И только когда отъехали километра два, проворчал за спиной Цареградского:
– Худое место бежать надо... Не умеешь ездить, зачем взял нарта?.. Чужая нарта.
И больше ни слова упрека.
Вечером того же дня пересекли кривун этой злосчастной Чахи и снова въехали в лес, мелкий, чахлый, заваленный буреломом. Сидеть не приходилось. Нужно было бежать, поддерживать нарту, скакать через нее.
Когда снова выбрались на ровный лед Олы и можно было отдохнуть, Макар Захарович ласково проговорил:
– Каюр будешь... Только своя нарта надо...
Но на другой день, когда по долине Тотангичана брали Яблоновый перевал, старик вперед все-таки опять поставил Петра и Михаила.
На Элекчане, в новом, еще пахнущем смолой, жарко натопленном зимовье, построенном Эрнестом Бертиным рядом с тунгусским лабазом, все чувствовали себя бывалыми каюрами, было приятно сознавать, что завершили трудный двухсоткилометровый путь.
Самого Эрнеста Петровича и его рабочих Белугина и Павличенко в зимовье не застали. Макар Захарович осмотрел все урочище и доложил: все трое вместе с собакой ходили в стойбище тунгусов, когда те подкочевали близко, один кес отсюда, к Элекчану; обзавелись парой оленей, но не ездовыми, а полудикими, видимо, больше тунгусы продать не могли – у самих мало; трое свалили крепкую толстую лиственницу, выстругали из нее широкие лыжи, смазали их оленьим салом, срубили две березы, смастерили промысловые нарты, нагрузили их тяжело, сами впряглись, обоих оленей завьючили и пять дней назад отправились в сторону реки Колымы, на север, вместе с собакой...
– С Демкой?
– Кобель.
– Значит, он! А куда они направились? На Бохапчу или Среднекан?
– След завтра, однако, покажет.
– Тунгусы откуда прикочевали? Они могли знать, есть наши на Среднекане или нет?
Макар Захарович засыпал и ответил сквозь сон:
– След завтра покажет...
Назавтра, чуть дрогнул рассветом восток и начали меркнуть звезды, выехали. Мороз был такой, что дыхание перехватывало. Шли по следу Бертина. Когда он свернул туда, где розовел рассвет, Цареградский обрадовался: Билибин на Среднекане, нет нужды ехать на страшную Бохапчу, путь – на рассвет.
Но Макар Захарович возразил:
– Сергей и Билибин говорили: веди наших туда,– махнул старик рукавицей на запад.– Там Урюм-Хая, Белая гора. Затес там. Читай затес – знай, где Билибин. Там саха, заика саха, он все знай...
– Бертин пошел туда, значит, от тунгусов он узнал, что Билибин на Среднекане,– стоял на своем Цареградский.
– Тунгус знай – не знай... Хиринникан люди – баар, а Билибин – баар, суох?
На таком сильном морозе не только дышать, но и думать трудно – мозги будто замерзают. Валентин с трудом понимал, что говорит старый якут, но все-таки соображал: тунгусы могли сказать Бертину, что на Среднекане есть нючи – русские люди, и там они есть: Оглобнн, Поликарпов, старатели, но есть ли среди них Билибин, Раковский и рабочие экспедиции, тунгусы могли и не знать, для них они все – нючи. Макар Захарович, пожалуй, прав: надо ехать на Бохапчу, к якуту-заике и у него окончательно выяснить, прошел Билибин пороги или нет.
Собачий караваи направился к Бохапче. В широкой долине Малтана кусты, деревья и даже ровный белесый воздух словно окаменели, замороженные. Было тихо. В этом безмолвии пронзительно скрипели полозья, да изредка, как выстрелы, раздавались «хак!», «тах!», «хук!».
Холод забирался под одежду, ныли кости. То и дело соскакивали с нарт и бежали, размахивая руками, чтоб как-нибудь согреться. Один Макар Захарович недвижно сидел, закутанный до самых глаз бабьим платком.
– Не замерз? – встревожился Валентин.
Старик в ответ слабо взмахивал рукой.
Белесоватое солнце лениво поблуждало по южным склонам гор и, не опустив свои лучи в долину, скрылось. А когда сумерки сгустились и посипели, Макар Захарович остановил нарты у старого, без вершины, раскидистого тополя, похожего на распятие, подошел к нему, смахнул с посеребренного ствола пней:
– Читай.
Все, сгрудившись, в один голос, тихо, но торжественно, словно клятву, читали:
«Двадцать девятого, восьмого, двадцать восьмого года. Отсюда состоялся первый пробный сплав К. Г. Р. Э.».
Макар Захарович подводил к другим деревьям, очищал затесы.
«Иван Алехин, Юрий Билибин, Степан Дураков, Михаил Лунеко, Сергей Раковский, Дмитрий Чистяков, Демьян Степанов, Макар Медоп».
– Моя! – воскликнул Медов.
За прибрежными тополями обнаружили остов палатки, щепки – все, что осталось на месте стоянки отряда Билибина. На этот же остов натянули свою палатку, щепки положили в железную печку, поставили чайник. Все делали молча, тихо.
И ночь наступала ясная и такая тихая, что слышалось, как смерзаются клубы горячего дыхания – шепчут звезды...
Нарушил молчание Митя Казанли:
– Валентин, помнишь, Юрий Александрович в письме, отправленном отсюда, просил установить координаты Белогорья? Займемся? Ночь самая подходящая, звездная.
Цареградский и Казанли вылезли на мороз и почти всю ночь устанавливали координаты Белогорья. И думали о Билибине, его отряде...
Валентин примостился на нарте, под свечкой, прикрепленной к дуге, держал в замерзающих руках хронометр и по нему отсчитывал доли секунды. Митя пристроил на высоком пне секстант, следил за движением Полярной звезды – она висела как раз над вершиной Белой горы – и время от времени командовал:
– Готовьсь!
– Есть.
Ртуть в горизонте секстанта замерзала. Лезли в палатку, отогревали, сами немножко согревались и – снова:
– Готовьсь!
– Есть.
Валентин смотрел то на хронометр, то на крутой силуэт Белой горы и вспоминал, что именно с нее, с ее обрывистого склона, взял Билибин образцы породы с отпечатками древних растений и окаменевшие обломки стволов, направил их с Медовым в Олу, а он, Цареградский, определил их как верхнемеловые. Это были первые находки ископаемой флоры, которая восемьдесят– сто миллионов лет назад зеленела здесь, а потом была законсервирована в вулканических пеплах. Такие пеплы, как успел узнать он, покрывают огромные пространства Охотского склона, на его водоразделе с бассейном Ледовитого океана. В таких пеплах и лавах, как известно науке, могут встречаться богатые месторождения золота и серебра, но россыпей они не дают и простым опробованием их не уловишь. Когда Билибин узнает, что образцы, найденные им в Белогорье, определены как верхнемеловые или третичные, очень обрадуется и еще больше заинтересуется этими белыми горами... Но узнает ли?
Часть третья
ЧУДНАЯ ПЛАНЕТА
ПАХАЛИ ДО КРОВАВЫХ ЭПОЛЕТ
Перед сплавом Билибин заснуть не мог. В дневнике записал:
«29 августа, среда.
Ночь пасмурная и теплая. В б часов 50 минут начался дождь. Шел с перерывами.
С утра складываем груз на плоты. Плот «Разведчик» – длина 10 аршин, ширина 6 аршин, посадка 2/4 аршина – груз, не портящийся от подмокания: горные инструменты, спирт, мука, крупа, сало, масло. Плот «Даешь золото!» – длина 12 аршин, ширина 6 аршин, 16 бревен, посадка около 2/4 аршина – груз, портящийся от подмокания: личные вещи, экспедиционное снаряжение, сахар, соль, табак, спички, сушки.
Отплываем из Белогорья в 12 часов 51 минуту.
В 13.15. «Разведчик» ненадолго сел на мель.
13.23. «Даешь золото!» сел на мель. Вскоре подошел «Разведчик» и сел рядом. Стяжками снимали оба плота.
14.27. Снялись с мели. Вскоре «Разведчик» еще сел ненадолго.
Вследствие очень частых заворотов и постоянных мелей вести точную съемку невозможно. Общее направление долины реки далее – 350°. Средняя скорость плотов – 6 км в час».
На этом закончились записи в сохранившемся дневнике.
Еще на плотбище Юрий Александрович ставил водомерные рейки и с тревогой отмечал, как быстро падает вода – за сутки на двенадцать сантиметров! А когда остановились на первый ночлег, тревога усилилась – только за ночь вода убыла на десять сантиметров!
Лучшее время после дождей было упущено. Малтан мелел на глазах и обнажал перекаты. И скоро пришлось не столько плыть, сколько пропахивать плотами реку. Чтобы хоть немножко приподнять воду, собрать ее под плотом, с переднего торца опускали оплеухи – две длинные, широкие, заранее вытесанные доски. Эти передвижные плотники иногда выручали, но чаще приходилось проталкиваться стягами – крепкими сухими лиственничными кольями в два метра длиной.
Каждый плот с грузом весил не менее тонны. Подсовывали эти стяги под торцы и, по щиколотку увязая в мелкой гальке, разворачивали тяжело груженные махины туда, сюда, обратно, пока не сталкивали. Когда садились на мель рядом два плота, то налегали на них всем гамузом, вшестером. А если один ушел, другой засел, то тут вся тонна приходилась на троих.
Так и стягивали с мелей, волоком перетаскивали через перекаты. Толщиной в доброе бревнышко, стяжки ломались, будто спички. Чаще всего у Юрия Александровича – не соизмерял свою силушку. От этих стяжков в ногах долго не унималась дрожь, ломило все тело, а на плечах загорелись рубином ссадины.
А позже Билибин вспомнит: «Через три дня у всех у нас на плечах образовались кровавые эполеты».
Камни стесывали бревна как топором, перетирали тальниковые кольца. Хорошо, что их много нарезали про запас, на ходу меняли, а то плоты развалились бы.
Перекатам и мелям, казалось, не будет конца. Опасались бешеных порогов, а тут трясогузкам по колено. Погуливают по камешкам, едва прикрытым водой, и кокетливо помахивают хвостиками. О порогах стали мечтать – поскорее бы до них добраться. И есть ли они?..
После впадения Хеты воды в Малтане заметно прибавилось. Перекатов стало меньше, пошли глубокие плесы. Плыть стало веселее.
После еще одного притока, речки Асан, вынесло на такое длинное плесо, что заскучали. Плыли по нему часа полтора, не шевеля веслами. И тишь такая, что слышно, как вода журчит под плотом, убаюкивает.
Только главному лоцману не спалось. Это плесо ему не нравилось. Напряженно вглядывался, вслушивался, даже про трубку свою забыл – она не дымила. И вдруг как гаркнет:
– Бей право!
От его зыка Миша, прикорнувший у кормового весла, чуть с плота не свалился. Все вскочили, затабанили веслами и шестами. Плоты вырвались из быстрины, заскрипели по прибрежной гальке и врезались в перемычку протоки. Команду исполнили вмиг, но потом стали пересматриваться – зачем свернули? Чтоб опять стяжками ворочать?
Лоцман молча раскурил трубку, молча обошел и осмотрел плоты– надежно ли сидят? – и, никому ничего не объясняя, пошагал туда, где за небольшим островком, за сквозными красноталами ртутью сверкала река. Демка весело потрусил за хозяином. И все, немного постояв, двинулись за Демкой.
Прошли несколько шагов и увидели такое, что Миша Лунеко, бывавший на Енисее, на Амуре, впервые ощутил, как поднимаются на голове волосы дыбом. Да и не он один.
Вода падала с двухметровой высоты и с грохотом разбивалась о камни. Несколько самых крупных торчали над водой, а сколько под водой – не счесть. Вокруг круговерть – будто в кипящем котле.
Если бы не главный лоцман, то троим: самому Степану Степановичу, Сергею Раковскому и Михаилу Лунеко – была бы верная смерть. Не только костей... от «Разведчика» и щепок не осталось бы.
Все стояли на обрывистом краю порога и, не веря, что остались живы, долго не могли вымолвить ни слова.
Наконец Юрий Александрович раздумчиво протянул:
– Н-да... «Так вот где таилась погибель моя». А ведь ни Макар Захарович, ни Кылланах об этом пороге на Малтане ничего не говорили...
Билибин не досказал, что подумал, но все поняли его и подумали так же: если на этом, не упомянутом якутами пороге плоты могли разбиться, то что же ждет их на самой Бохапче...
– Ну, что ж, догоры, надо быть осторожнее. Как говорят тунгусы, глаза есть, однако, видеть надо.
Вернулись к плотам, осмотрели протоку. Она была невелика, но в трех местах совершенно сухая. И весь день, до глубокой ночи, разгребали деревянными лопатами и голыми руками галечные наносы, собирали воду, проталкивали плоты все теми же стягами и плечами с еще не зажившими кровавыми рубцами.
Так проложили канал и обошли порог. Порог назвали Неожиданным, протоку – Обводным каналом.
– Есть такой в Ленинграде,– пояснил Юрий Александрович.
При свете костра в конце рабочего дня он, как всегда, делал записи в полевой книжке, наносил пройденный маршрут на глазомерную карту. И в эту ночь натруженными, чуть дрожащими от работы пальцами – а они были у него крепкие, сильные – держал красный граненый карандаш.
Перечеркнул двумя жирными штрихами реку и сбоку написал: «Порог Неожиданный. Проходить левой протокой, осмотреть». И начал вслух рассуждать:
– А ведь этого порога ни Макар, ни Кылланах не видели, потому о нем и не говорили. Лет десять назад его, вероятно, не было. А протока, по которой мы пробились, служила основным руслом. Так, Степан Степаныч?
– Бывает,– согласился тот.– На дурных речках всякое бывает.
– Конечно, эти камешки специально для нас выросли,– усмехнулся Алехин.
Билибин его вроде и не слышал, продолжал вслух мечтать:
– Вот найдем мы золото... И пойдут по Малтану, по Бохапче не только плоты...
Малтан пахали пять дней. Точнее, три дня пахали, два плыли. После Неожиданного встретилось еще одно опасное место, но миновали его благополучно.
На шестые сутки вынесло плоты в Бохапчу. Река – широкая, полноводная, быстрая. Плыть по ней одно удовольствие. Правда, недалеко от устья Малтана пришлось потабанить с километр, но камней было немного. На карте так и написали: «Порог Широкий. Длина 1 клм, плыть без осмотра».
А дальше опять одно плесо сменялось другим. Вода, как простыня, выутюженная доброй хозяйкой, без единой складочки. И течение приличное. Не хотелось приставать к берегу даже на ночлег. Шли по восемнадцать часов, от зорьки до зорьки. Наверстывали время, упущенное на непредвиденные задержки.
Вечерело. Смеркалось уже. Звезды высыпали. В начале сентября звезды на Колыме еще как августовские – крупные, яркие и такие низкие, что, кажется, рукой достанешь. В гладкой, тугой, как ртуть, воде они отражались, словно в зеркале. Плыли будто по Млечному Пути, держа курс на Полярную звезду. Красиво плыли!
Последнее плесо оказалось очень длинным, течение замедлялось. А уже всем было известно, что такое затишье – обязательно перед порогом или сильным перекатом. И все были настороже, чутко вслушивались, не шумит ли впереди... Но слышно было лишь, как журчит, тонко позванивая, водица под плотами.
Капитаны перекликались: .
– Пристаем, Юрий Александрович? – спрашивал Раковский с «Разведчика».
– Потянем еще! – отвечал Билибин со своего «Даешь золото!»
И тянули.
А тихо было так, что когда кто-то шепнул: «Медведя», то все – на «Разведчике» и на втором плоту – вытянули шеи, словно гуси, и вперились в темноту.
В темноте у поворота на песчаной косе, под густой навесью тальника, что-то копошилось: одна фигура большая, другая маленькая. Очень похожи на медведицу с медвежонком.
Сам Степан Степанович – за двустволку, заряженную жаканами. Сергей Раковский – за пятизарядный винчестер. И Миша Лунеко – за свое оружие, которое у него то стреляло, то чихало. Все нацелились, забыв про весла.
На втором плоту увидели, что на первом изготовились к стрельбе, и тоже: матрос Чистяков – за берданку, лоцман Алехин, заядлый охотник,– за двустволку и даже капитан Билибин, хотя охотником никогда не был,– за новенький, купленный на Семеновском базаре, «Саведж», небольшую американскую винтовку, из которой он еще ни разу не стрелял. Охотничий азарт захватил всех.
Один лишь Демка, охотничий пес, спал, свернувшись калачиком, и не новел носом. Плыл он в этот день на плоту «Даешь золото!». Его Юрий Александрович любил и всегда чем-нибудь вкусным приваживал, вызывая некоторую ревность Степана Степановича...
Итак, все, кроме Демки, нацелились и вроде бы команду ждали, чтоб пальнуть залпом... А на берегу в это время большая фигура, видимо, услышав что-то с реки, приподнялась и начала поворачиваться. И Степан Степанович, и Алехин, и Чистяков, и Раковский, и Билибин, и Лунеко, как они после признавались, уже готовы были в этот момент нажать на курки, и чуть было не грянул залп из шести стволов...
И грянул бы, если б не Сергей Раковский!
Он в этот миг увидел: над большой фигурой вдруг вспыхнула и погасла искорка – и истошно закричал:
– Люди!
Свой винчестер отшвырнул, ногой вышиб из рук Степана Степановича двустволку, спиной загородил ружье Миши.
На «Даешь золото!» остолбенели. С разгона второй плот ударился в борт первого, оттолкнулся от него и по быстрине полетел вперед. А за ним течением, бьющим от берега, понесло и выбросило на ту же быстрину и «Разведчика».
– Тас! Тас! – кричали люди с берега.
На «Даешь золото!» никто якутского языка не знал. Не сразу поняли, что такое «тас». А может, и поняли, да в себя еще не пришли...
С «Разведчика» Раковский крикнул:
– Камни! Порог!
Билибин, Алехин и Чистяков схватились было за стяжки и весла, но было уже поздно.
Плот «Даешь золото!» заскрипел всеми связками и носом полез на камни. Корма с грузом, портящимся от подмокания, опустилась в воду.
Демка успел прыгнуть на торчащий из воды торец и там неплохо устроился. А Билибин, Алехин и Чистяков скатились в воду. Она была ледяная, но они в горячке этого не почувствовали. Ногами дно достают, а устоять не могут: течение сбивает, и дно из-под ног будто выскальзывает.
А тут «Разведчик», хотя на нем веслами били вовсю, стал напирать на «Даешь золото!». Он на два аршина меньше, но тоже с людьми-то не меньше тонны!
Билибин, Алехин и Чистяков ощетинились шестами, пытались упереться ими в «Разведчика» и отвести его, но под ногами никакой опоры. И тогда, не сговариваясь, они толкнулись навстречу «Разведчику», уперлись руками в его передний край, а ногами в свой плот.
Так общими усилиями отворотили плот, отвели его и вытолкнули с быстрины к берегу. Билибин, Алехин и Чистяков вскарабкались на «Разведчика», На «Даешь золото!» остался один Демка.
Выбирая направление слива, «Разведчик» аккуратно обошел камни с застрявшим между ними плотом и мягко чокнулся в невысокий обрывистый бережок. Раковский и Лунеко выскочили с веревками и, обмотав их вокруг тополей, пришвартовали плот.
Билибин, а за ним и остальные – все бросились к якутам:
– Медведи, живы! Живы, медведи!
Этот порог так и на карте обозначили – Два Медведя.