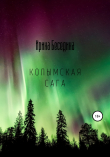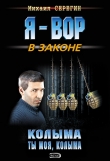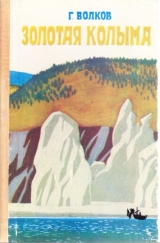
Текст книги "Золотая Колыма"
Автор книги: Герман Волков
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
«И НАЧАЛ Я РАТОВАТЬ ЗА КОЛЫМУ»
В конце своей сумбурной корреспонденции «В неисследованных районах» многотиражка «Алданский рабочий» писала:
«После окончания сезона работы экспедиция Билибина спустилась по Колыме с расчетом попасть на пароход и вернуться во Владивосток водным путем. В настоящее время экспедиция должна находиться на пути к Ленинграду».
Здесь что ни фраза, то, мягко говоря, расхождение с действительностью. Экспедиция, как известно, по реке Колыме не спускалась, выбиралась к Охотскому морю сухопутьем, полтора месяца ждала пароход в бухте Нагаева, а где находилась в момент опубликования заметки никому не было известно,
«Нэнси Мюллер» дрейфовала целую неделю. Наконец буря стихла, тучи с туманами начали подниматься, и под их пологом приоткрылась узенькая, едва видимая полоска земли. Чтоб не выбросило на нее, капитан дал команду разводить пары. Машина весело заработала, и судно, ковыляя, как хромой, на одной трети винта, стало потихоньку приближаться к берегу.
– Пеледайте пассажилам,– сказал папаша Мюллер, не сходя с капитанского мостика и поглаживая заросшие седой щетиной впалые щеки,– что я не помню такого бешеного штолма и что, навелное, только их счастливой звезде я обязан спасением своей «Нэнси».
Билибин и Цареградский ответили любезно:
– Скажите папаше Мюллеру, что только ему, его выдержке и мужеству, мы обязаны своей жизнью.
Когда тучи разошлись, туман полностью рассеялся и небо вызвездилось, определили, что «Нэнси Мюллер» находится где-то между южной оконечностью Сахалина и островом Итуруп. За время дрейфа судно отнесло от берегов Камчатки почти на тысячу миль к югу. За Итурупом был Тихий океан, чуть западнее – пролив Лаперуза, ворота в Японское море.
– Теперь мы все-таки вынуждены зайти в японский полт,– виновато развел руками капитан.– Лопасти надо сменить и углем пополниться. Вы и ваши сотлудники, – посоветовал он Билибину,– на белег могут не сходить, японцы, я думаю, на болт не поднимутся, а я из полта свяжусь по ладно с Совтолгфлотом...
Билибину ничего не оставалось, как согласиться.
Кое-как «Нэнси» вошла в залив Анива и пришвартовалась к небольшому причалу. По-южному светило и пригревало солнце, зеленели берега, и трудно было представить, что там, откуда только что выбрались,– буря, снег, пурга и небо совсем иное. Сместились в пространстве и во времени года: с севера – на юг, из зимы – в лето.
Мюллер связался с Владивостоком по радио. Совторгфлот разрешил сменить винт, но просить у японцев уголь запретил, передав, что топливом можно пополниться с советского парохода «Кулу», который был на подходе к этому порту.
Углем пополнились, но винт сменить не удалось. Пришлось ковылять к другому порту. Остров Хоккайдо огибали два дня. В Хакодате искалеченной «Нэнси» довольно сноровисто поставили новый винт, команда привела в порядок рулевое управление. Двинулись к родным берегам на всех парах.
На двадцатый день после отплытия из бухты Нагаева прибыли в бухту Золотой Рог. Тут все сияло, сверкало необычно, даже звезды казались ближе и ярче. По берегам приветливо мигали огоньки и золотыми рыбками бежали навстречу по воде. Это были те самые огоньки, которые провожали экспедицию в памятную ночь 12 июня 1928 года, они будто и не гасли все эти пятьсот сорок дней и ночей.
Хорошо встретил Владивосток колымских аргонавтов. Правда, без медных труб, но зато широкими перинами гостиницы «Версаль» и бойким джазом ресторана, где отвели душу, заказывая все меню сверху донизу, снизу доверху.
Вступив на родную и большую землю, Юрий Александрович сразу же, как он выразится в своих воспоминаниях, начал ратовать за Колыму. Дальневосточное отделение Союззолота и местный Геолком выслушали его сообщение со вниманием и большим интересом. Лишь кто-то подпустил уже известную шпильку:
– Неужели Колыма богаче Калара?
Билибин с нарочитым самоумалением, но достойно ответил :
– Я из тайги, темнота, о Каларе пока знаю мало, но думаю, что цыплят по осени считают...
В этот же день к Юрию Александровичу в гостиницу пришел очень живой, подвижный, похожий на задорного подростка юноша и звонким тенористым голосом объявил:
– Я – Сергей Новиков. Слушал ваш доклад. И хочу ехать с вами на Колыму.
– А мы как раз оттуда,– с легкой усмешкой ответил Билибин.
Новиков сразу посерьезнел, и его брови обидчиво приподнялись:
– Я горный инженер. Вот мой диплом. Только что окончил Дальневосточный университет.
Юрий Александрович взял диплом, пробежал по вкладышу:
– Отметки по всем предметам приличные. Но тут не сказано, как вы играете в шахматы.
– Могу показать.
И они сели за шахматную доску. Юрий Александрович давно страдал от отсутствия достойного партнера. Один лишь Казанли заставлял его иногда серьезно задумываться. А этот голубоглазый, на вид бесхитростный мальчишка довольно быстро обыграл Юрия Александровича. Вторая и третья партии длились дольше, но закончились так же.
– Я вас возьму в следующую экспедицию,– твердо сказал Билибин, с улыбкой добавил: – Наконец-то у меня будет настоящий партнер. Оставьте ваш адрес, извещу сразу же, как только выяснится судьба будущей экспедиции.
Довольный, сияющий, Сергей Новиков ушел.
Цареградский, несколько уязвленный словами Билибина о настоящем партнере, пожал плечами:
– Разве можно судить о геологе по шахматной игре?
– Можно. Человек, хорошо играющий в шахматы, обладает как раз теми качествами, которые необходимы геологу: вниманием, сосредоточенностью, находчивостью, дисциплиной, упорством. В нем это чувствуется. Надо ведь поддержать человека, Валентинушка. Первая ласточка рвется на Колыму! И она мне очень понравилась.
В Иркутске Билибина задержали руководители Союззолота. В этом году оно переехало из Москвы в Иркутск, поближе к производству, почти в полном составе, в Москве осталось только представительство. Но самого Серебровского в это время в Иркутске не было, выехал в наркомат.
Сообщения о Колыме в Иркутске, как показалось Юрию Александровичу, встретили с меньшим интересом, чем во Владивостоке. В Союззолоте и Востокзолоте все словно помешались на Каларе. Калар называли первенцем первой пятилетки. На Калар возлагали все надежды в новых планах золотой промышленности.
Калар и по соседству с ним Калакан – притоки Витима, в Забайкалье. Они почти под боком Иркутска, от станции Могоча Уссурийской железной дороги до них километров триста. Это, конечно, пустяки по сравнению с расстоянием до Колымы. Серебровский осенью 1928 года, возвращаясь с Дальнего Востока, эти триста километров и обратно как бы попутно проехал на лошади, убедился, что золото на речках Калар и Калакан есть богатое, и в ноябре того же года по его представлению Совнарком принял специальное решение о немедленной организации старательских работ на Каларе. На выполнение этого решения в небывало короткие сроки были мобилизованы все предприятия Союззолота от Урала до Амура. Из Могочн на Калар проложили зимник, и пять тысяч лошадей, для которых завезли пятьсот тысяч пудов сена и овса, до весны на Каларский прииск перебросили девятьсот тысяч пудов – 15 ООО тонн! – различных грузов.
– Ничего подобного не бывало во всей истории золотой промышленности! – гордо заявлял Перышкин, который прежде возглавлял Дальзолото, а ныне Востокзолото в Иркутске.– И это только первые шаги пятилетки. У руля золотой промышленности стоит сам Серго! Это по его указанию Калар уже дает золото... А там у вас на Колыме, слышно, какая-то чехарда происходит, нам еще с ней разбираться надо... Нет, дорогой товарищ Билибин, вашей Колыме далеко до нашего Калара. Да и далековата она от нас, семь верст до небес и все пехом...
И самому Юрию Александровичу, докладывавшему о Колыме, было как-то неловко вспомнить, как он в Оле не мог найти десяток лошадей, когда здесь их считают на тысячи. Он за Колыму мог бы постоять. Калар и Калакан – всего лишь две речушки, может, и богатых, а в Колымском крае таких золотоносных речек сотни. Надолго ли хватит запасов Калара? Да, истории неизвестны такие темпы организации приисков, но история немало знает и таких случаев, когда золотые лихорадки вспыхивали быстро и так же гасли. Спорить об этом с Перышкиным бесполезно. К Колыме он равнодушен, а ставить палки в колеса он, как и прежде в Дальзолоте, мог. Без Серебровского тут ничего не решишь.
Юрий Александрович сдержанно ответил:
– Посмотрим, кому до кого далеко. А с чехардой разбираться придется. Направили к нам какого-то пьяницу Степку Бондаря и хотите, чтоб под его «мудрым руководством» Колыма давала золото? Пропьет он всю Колыму. Снимать его надо. Знает ли о Степке Александр Павлович?
– Ну, это нам решать, кого ставить, кого снимать.
И о вас, товарищ Билибин, не очень лестные слухи до нас доходят...
В Москве, в том же Настасьинском переулке, в здании, похожем на расписной пряник, Юрия Александровича выслушивали сам Серебровский и все тридцать три сотрудника московского представительства Союззолота. Но и здесь начали было петь ту же песенку:
– Калар, Калар... Колыме далеко до Калара.
– Да и есть ли золото на Колыме?
Билибин слушал, крепился, но потом разразился такой пламенной речью, каких не произносил за всю свою жизнь, за все свои без малого тридцать лет.
Может быть, так же вдохновенно говорил он три года назад, в алданской тайге, под шум дождя, в палатке, где на земле рисовал берега Тихого океана и, щедро осыпая их золотом, мысленно расстегивал пряжку Тихоокеанского пояса на Чукотке и Колыме.
Теперь он вернулся с Колымы. Вернулся с этой золотой пряжкой в руках. Вот оно золото, россыпное, в желтых ластиковых мешочках, рудное, видимое простым глазом в молочных кварцах!..
Но ему по-прежнему не верят. Как и прошлый раз в этом же кабинете, когда он просил несчастные шестьсот тысяч рублей, этот же Серебровский слушает его и что-то подсчитывает и не то улыбается, не то усмехается. Видать, и для него Калар – любимый сын, а Колыма – бедная падчерица...
– Всю дорогу от бухты Нагаева до Владивостока, от Владивостока до Иркутска, от Иркутска до Москвы только и слышу: Калар, Калар, Калар, Калар богаче Колымы,
Колыме далеко до Калара... Я, конечно, буду рад, если Калар будет богаче Колымы. Дай бог! Это значит, мы с вами будем богаче, страна будет богаче. Но прошу учесть, что моя Колыма – такая же ваша, как и Калар, и я вам не предлагаю доить чужую корову! И еще прошу учесть одну мудрую поговорку – цыплят по осени считают. Одна речка, даже такая богатая, как Калар, погоду не делает. Простите, что учу вас, старейших и мудрых королей золота, но вам известно из истории: золотая лихорадка на Эльдорадо вспыхнула и погасла, у нас, под Охотском, тоже вспыхнула и погасла. Калар и Калакан тоже может ждать та же учесть. Они находятся в старом, изрядно вычерпанном золотоносном районе, их случайно не обнаружили прежде и случайно нашли сейчас. А Колыма – это огромный бассейн. Таких речек там не счесть. Колыма не погаснет века! И она открыта не случайно, а в результате гипотезы, научного предвидения... Да, да, той гипотезы о рудном поясе Тихого океана, в которую здесь, когда я выпрашивал шестьсот тысяч, многие не верили, да и сейчас не верят... Я и сам готов теперь внести весьма существенные поправки в эту гипотезу, но в целом она правильная и еще может послужить основой для выявления закономерностей распределения ископаемых. На Колыме мы обнаружили не только россыпное золото, вторичные преобразования месторождений, но и первичное, рудное. Ярких рудопроявлений выявлено по крайней мере три, и среди них самое обещающее – Среднеканская дайка, несомненно связанная с близлежащими россыпными...
Юрий Александрович представил золото, полученное из этой жилы, образцы кварца с ясно видимыми золотыми вкраплениями и привел цифры, полученные в результате подсчетов, оговариваясь, что эти подсчеты он всячески ужесточал, но и в таком количестве цифры приводят его в священный ужас.
Присутствующие впились глазами в среднеканское рудное золото!
В своих воспоминаниях Юрий Александрович так и напишет: «Всем было заманчиво распространить полученное в пробах содержание на всю массу руды...»
Билибин, пытаясь как-то отвлечь столь необычное внимание к Среднеканской дайке, говорил:
– Однако золото, открытое на Колыме,– это не главное. На Колыме, я уверен, может быть найдена вся периодическая система Менделеева...
Но периодическая система Менделеева сотрудников Союззолота интересовала мало.
– Главное,– продолжал Билибин,– Колыма – это наш край, открытый русскими землепроходцами, русский, а теперь советский край. Самый обширный, там может разместиться несколько европейских государств, богатейший, но пока самый необжитый, пустынный и находящийся на самой далекой границе России, Вот что самое главное. И мы должны его осваивать, обживать, заселять, налаживать прежде всего транспорт, поднимать его экономику, хозяйство, культуру. Осваивать этот край надо буквально со всех сторон: с юга – бухта Нагаева, где уже строится морской порт и будет город, с севера – Северный морской путь, река Колыма, которая, как показали только что проведенные исследования экспедиции Молодых, вполне судоходна от устья до приискового района, и ее нужно использовать для снабжения, с запада – от Якутска уже есть тропа, проложенная землепроходцами и местным населением, она должна стать дорогой...
Билибин все эти пути показывал на большой настенной карте.
Но когда обернулся, то увидел, что многие сотрудники, увлеченные среднеканскими пробами, на него не смотрят и его не слушают.
– Простите, мне не здесь об этом нужно говорить,– процедил сквозь зубы Юрий Александрович и пошел на свое место.
– Нет-нет, говорите,– поддержал его Серебровский.– Все это очень интересно и очень важно! И кое-кому из нас не мешает это знать и об этом думать...– И Александр Павлович закончил свою реплику таким крепким словом, что все его сотрудники, и прежде слышавшие подобные выражения, на этот раз замерли и впились глазами в Билибина.
– Да я почти все сказал, Александр Павлович. Могу повторить только, что золото – это не главное, это всего лишь архимедов рычаг, с помощью которого можно поднять Колымский край... Кажется, и вы так говорили, Александр Павлович?
Примерно так. Правда, не о Колымском крае, а вообще... И мысль эта не моя. Так говорил мне Иосиф Виссарионович. Но в общем все правильно! А что же все-таки вы хотите от нас, Союззолота, сегодня?
– Сегодня? Сегодня я прошу на вторую Колымскую экспедицию не меньше миллиона.
Одни ахнули, другие захохотали:
– Аппетит растет во время еды...
– Да вы, батенька, неизлечимо заболели Колымой,– усмехнулся и Серебровский.– Вчера просили шестьсот тысяч, сегодня – миллион. А завтра?
– Завтра? Я еще не прикидывал, но думаю, что потребуется в десять крат больше, ибо считаю, что исследовать Колыму экспедициями – это пить спирт чайной ложкой. На Колыме необходимо создавать целое геологическое управление, свой Геолком. Чтоб не наездами, а постоянно, изо дня в день изучать, исследовать, открывать и тут же передавать в эксплуатацию открытые месторождения.
– Так там должно быть, если продолжить вашу мысль, и самостоятельное приисковое управление, по типу «Дальзолото», «Востокзолото», «Алданзолото»,– «Колымзолото»?
– Несомненно, Александр Павлович. Колымзолото. И направлять нужно туда не таких руководителей, как Бондарев или бездарный инженер Матицев, который не мог отличить осадочные породы от магматических, крупу от крупчатки, а величал себя «оком Союззолота»...
Все засмеялись, видимо, здесь Матицева знали.
Поддержанный этим смехом, Юрий Александрович обратился к Серебровскому:
– Ну почему, Александр Павлович, вместо Оглобина направили какого-то Бондарева? Если Оглобин был слаб как специалист по золотодобыче, то Бондарев и золота в рубашке никогда не видел, смотрит больше в рюмку и кичится своим дореволюционным партийным стажем. Он и Колыму, и партбилет – все пропьет. Почему не послать вместо Оглобина такого прекрасного организатора и настоящего партийца, как Бертин Вольдемар Петрович?
– Опять вы о нем,– улыбнулся Александр Павлович,– да я вам говорил, что у нас таких самородков – раз, два и обчелся. И сейчас Вольдемар Петрович очень нужен на Алдане, сами знаете, что там натворили в его отсутствие... Бертина на Колыму я не могу послать, а вот другого такого же самородка, Улыбина Николая Федоровича...
– Товарищ Улыбин сейчас на Каларе – подсказал кто-то.
– Знаю. Но придется, пожалуй его с Калара отозвать на Колыму... А что касается миллиона...
– Сегодня строгий режим экономии, и с этим надо считаться,– опять вставил кто-то из сотрудников.
– Да вот я, пока товарищ Билибин докладывал, слушал его и прикидывал по своей методе, со всеми поправками на ваш, Юрий Александрович, колымский патриотизм.. Среднеканскую дайку надо разведовать и нужна рудная партия. На поиски россыпного следует поставить не менее четырех партий... Составляйте смету, товарищ Билибин, а там посмотрим, может, урежем, а может, и прибавим. Это верно, одной экспедицией и одной приисковой конторой мы дело не потянем. Главное Колымское приисковое управление организуем в ближайшие дни, и не позже как в январе направим на Колыму новые кадры. Направим, не дожидаясь навигации, из Иркутска через Якутск по той самой тропе, о которой мы говорили... А что касается постоянной геологической базы, Колымского геолкома, как вы выразились,– это не в нашей компетенции. Обращайтесь, товарищ Билибин, в свой Геолком, пока его не реорганизовали. А все, что вы здесь говорили о Колымском крае, его значении, его освоении, повторяю, очень важно. И вы этих мыслей не оставляйте... Не сегодня-завтра я доложу о Колыме Серго Орджоникидзе, а при первой возможности и товарищу Сталину. Начнем, как вы говорите, ратовать за Колыму!..
УЛЫБИНСКИИ ПОХОД
Серебровский слово свое сдержал. Обстоятельно доложил о Колыме наркому тяжелой промышленности Орджоникидзе и, не откладывая в долгий ящик, в том же декабре издал приказ об организации Главного Колымского приискового управления. Главноуправляющим назначил Николая Федоровича Улыбина.
Коренной забайкалец, потомственный старатель, родом с Казаковского золотого промысла – царской каторги,– Николай Улыбин образование получил церковноприходское, но прошел на приисках солидную школу золотого дела, да и читал немало. Управлял Могочинским приисковым управлением, а как открыли Калар, направили его в этот необжитый край руководить прииском «11 лет Октября». Год проработал – начальник Востокзолота Перышкин вызвал в Иркутск:
– Засиделся на Каларе, Николай Федорович?
Вроде нет, дело только налаживается,.
– Есть для тебя дело поважнее. Вот приказ. Новый год встретишь с женой, а через десять дней в поход на Колыму! Собирай экспедицию...
– Что так скоро? Горит?
– Колыма-то? Горит. Послали туда управлять какого-то пьяницу. Выезжай спасать не мешкая, а то, говорят, пропьет всю Колыму Степка Бондарь. А Колыма – второй Калар, может, и богаче. Дело там разворачивается не шуточное. Ты мастер на такие развороты. Тебя и направляем. Навигация закончилась, придется идти на Колыму по суху и до весенней распутицы успеть. Торопись. Не хотел и не хочу я тебя отпускать, но, видать, Билибин уговорил Серебровского. Билибина знаешь? Нет. Ну, узнаешь. Билибин и Улыбин хороши для рифмы в стихах, а сработаетесь ли на деле? Он медведь напористый, ярославский, ты – забайкальский. Сойдутся Европа и Азия. Не уступай.
10 января 1930 года экспедиция Главного Колымского приискового управления из одиннадцати человек выехала из Иркутска. 14 января поезд доставил ее на станцию Невер. Выгрузились, готовы были с подножки вагона топать по Алданскому тракту, а лошадей, что запрашивали телеграммой, нет: угнали на Алдан, вернутся не скоро.
Пошел Николай Федорович стучаться в тесовые ворота, в хоромы высокие, выглядывавшие из частокола резными наличниками. Торговался, подряжал подводы у недобитых торгашей и нераскулаченных лошадников. Три дня ухлопал. Наконец 18 января в шесть часов вечера тронулись на шестнадцати подводах по Алданскому тракту на север.
Начался беспримерный в истории поход на Колыму. Сухопутьем, по тайге и тундре, через реки и сопки, в самые крепкие морозы и пурги предстояло пройти более трех тысяч верст в течение ста дней, не меньше.
Впереди вместе с проводниками шел Улыбин. В меховых унтах, в белом дубленом полушубке, подпоясанном кожаным патронташем, с неразлучной двустволкой, он, заядлый охотник, был похож на командира партизанского отряда, которым и был в годы гражданской войны. Во многих местах дорогу переметало, искать ее приходилось, утопая по пояс в снегу. На ночлеге, в зимовье, если добирались до такого уюта, а нередко в палатке при колеблющемся свете стеариновой свечки Николай Федорович каждый день похода заносил в тетрадь.
Позже его сын, Николай Улыбин-младший, используя дневник своего отца и его воспоминания, напишет повесть «Нетронутые снега». Повесть художественная, поэтому не все в ней представлено так, как было на деле. Географические названия изменены: Колыма – Комыть-юрях. Фамилии – тоже: Улыбин – Аргунов. Появились кочующие из одной повести в другую пресловутые американцы мистер Джеймс и Дик, пытающиеся как-то прижулить чужие природные богатства и убивающие первого старателя Соловейку, в котором можно усмотреть легендарного Бориску. Советские геологи, истинные открыватели Золотой Колымы, не поминаются. Их роль по традиции передана старателям. Они пишут в Москву, по их письму направляют Аргунова на Комыть-юрях. Сам поход описан не без детективных накладок, но довольно ярко. Правда, даты почему-то тоже расходятся с подлинными, имеющимися в одном из магаданских архивов.
Когда экспедиция Улыбина вышла с Невера, тюки прессованного сена поднимались выше лошадей. Часть людей сидела на них, рискуя свалиться. Многие предпочитали идти пешком. Ломовые лошади шли тяжело, медленно, по пять верст в час, а на увалах и того меньше. Первые двадцать дней шли бодро, с прибаутками, на тюках с сеном даже песни затягивали.
На двадцатый день с рассветом вся кавалькада вступила в Незаметный. «Столица» Алданского края встретила экспедицию с большим и нездоровым любопытством. Распаленные колымскими россказнями Эрнеста Бертина, гостившего здесь месяц назад, искатели фарта и вечные копачи сразу же стали выпытывать улыбинцев, куда и зачем, а узнали, что экспедиция движется на Колыму, одни начали упрашивать взять их с собой, другие – сбивать свои артели, чтобы также посуху отправиться за колымским золотом. Алданскому начальству пришлось срочно вывешивать новые объявления о том, что на Колыме проводятся только разведывательные работы, делянок для эксплуатации не дают, и принимать экстренные меры для задержки артелей, готовых ради золота ринуться на голодную смерть.
В эти дни Улыбин познакомился с Вольдемаром Петровичем Бертиным. Двум крупным самородкам золотой промышленности, двум партийцам, было о чем поговорить и что друг другу посоветовать. Вольдемар Петрович не без зависти смотрел на Николая Федоровича. Сколько лет мечтал о Колыме, а его все обходили: то Билибин с Эрнестом, то теперь Улыбин... Но и завидуя, Вольдемар Петрович все же чувствовал себя причастным к открытию золотой Колымы, поэтому охотно делился всеми своими знаниями и опытом золотоискателя и всегда готов был бескорыстно помочь людьми, транспортом, продовольствием.
Четыре дня пробыла экспедиция Улыбина в Незаметном. Сменила лошадей, пополнилась продуктами и фуражом. 12 февраля вечером покинула «столицу» Алданского края, двинулась на Якутск, куда и прибыла через десять дней. Остановились на кружале – большом постоялом дворе, похожем на деревянную крепость, построенную русскими казаками. Здесь предстояло с конного транспорта перегрузиться на олений и дальше идти по оленьей тропе.
От Якутска на оленях в день шли по шесть часов, не больше. До рассвета животные отлеживались, потом кормились, доставая из-под снега ягель, немало времени тратилось на их сбор, и раньше десяти утра не выезжали.
Да и дорога нелегкая. Двигались по льду рек, зажатых меж сопок, а эти речушки виляют, словно кружатся на одном месте. Нередко встречались наледи. Вода в самые крепкие морозы вырывалась со взрывом из-подо льда и разливалась, не замерзая, от берега до берега, а к весне таких наледей становилось все больше. Сверху сорокаградусный мороз давит, ниже – ноги по колено в ледяной воде, а под ногами – скользкий лед, а то и промоина.
Куржаком покрылись подпотевшие оленьи бока, и ветви рогов унизаны мохнатым инеем. Красотища! Но ни людям, ни оленям не мила эта красота. Животные скользят, падают, в кровь разбивают морды и не могут подняться на ноги. Другие тащат их, лежащих на боку, по нескольку метров. И люди скользят, падают, купаются в ледяной воде. Тунгуса-каюра Петра Федорова сбило течением и едва не унесло под лед, вовремя подали палку, ухватился за нее, и его вытащили.
Одно радовало Улыбина, что весна в этих краях не торопилась. Днем солнце пригревало, а ночью подмораживало, как и зимой. По льду Колымы 3 мая экспедиция прибыла на Утиную, 10 мая – на Среднекан. За сто пять ходовых дней прошли три тысячи шестьдесят пять километров. А всего в походе провели ровно четыре месяца.
В Среднекане, по указанию Серебровского, Улыбин должен был снять с должности управляющего Степана Бондарева, по возможности использовать его на какой-либо другой работе. Но ни снимать, ни использовать не пришлось.
Степка Бондарь за три месяца до этого бросил контору со всеми приисками и укатил, или, как он выражался, перенес свою резиденцию, в Олу. Оставил на приисках вместо себя собутыльника Слюсарева, по прозвищу Ванька Слесарь. Преемник Степки Бондаря работу пустил на самотек, подписывал любую бумажку не глядя. Продовольственный склад растащили, люди бежали от голода в Олу. На Утиной и Среднекане почти никого не осталось.
А те, кто остался, не могли забыть жуткую, как кошмарный сон, историю короткого правления Степки Бондаря. Прибыл он на Среднекан 6 октября и сразу же, якобы по указанию сверху, а на самом деле по своему произволу, начал творить чистку. Всюду и во всем видел троцкизм, оппортунизм, контрреволюцию. Разогнал всех служащих приисковой конторы, не тронул лишь счетовода Лекарева (он еще был и фельдшером) и молодого техника Петра Кондрашова, исполнявшего обязанности техрука: без них, видимо, не мог обойтись. Утинские прииски, как недостаточно снабженные продовольствием, закрыл. На среднеканских работа сама собой прекратилась. Степка Бондарь наложил запрет даже на технические и художественные книги, оставленные Билибиным и Казанли в дар Кондрашову:
– Еще посмотрим, что там за книги и на каком языке!..
– Технические справочники на немецком, Толстой на русском,– пытался отстоять библиотеку Кондратов.
– Какой Толстой? Граф, что ли? Сжечь. Все сжечь!
Всех разогнав и все позакрывав, Степка Бондарь ударился в беспробудное пьянство. Ликвидировав весь спиртной запас, открыл браговарение из сушеных фруктов и сахара. Брагу варили в столовой, в многоведерном титане. Бондарев перенес этот бак в свою штаб-квартиру и занялся потреблением его содержимого, не поднимаясь с топчана.
Однажды секретарь партячейки Лунев, что был в экспедиции Билибина, и комсомолец Беляев вылили эту брагу, чтоб управляющий отрезвился и поинтересовался разведовательными работами.
Степка набросился на них:
– Кого учите, молокососы? Я командирован Далькрайкомом! Стану я с вами считаться!
Вольготно стало жить на прииске хищникам, шуровщикам, картежникам и пьяницам. Они, прижимаемые прежде Оглобиным и Поликарповым, величали нового управляющего «освободителем пролетариата».
Секретарь партячейки решил сплавить Бондарева в Олу: там есть тузрик, милиционер, приберут к рукам. Поручил техруку Кондрашову и счетоводу-фельдшеру Лекареву уговорить управляющего выехать в Олу сопровождать золото.
Уговаривать, однако, не пришлось. Едва Кондратов заикнулся, что для переправки золота в Олу нужен смелый и надежный человек, Степка перебил его:
– Знаю! Золотой запас никому не доверю, сам повезу.
И уехал безвозвратно, вроде бы и не по своей прихоти, а по неотложным делам и по просьбам трудящихся. Из Олы присылал невразумительные приказы, которые никто не читал и не выполнял. А сам в Оле стал куролесить еще пуще. Вокруг него завертелись старые дружки, Кондратьев, завагентством, и родня жены, ольской камчадалки Бушуевой. Степка брал казенные деньги, спирт, вино, папиросы, консервы, сахар, монпансье.
Ольский тузрик и милиционер не знали, что предпринять. Поступить по примеру прежнего тузрика опасались, опять Бондарев и Кондратьев будут на всю Олу кричать: «Коммунистов бьют!» Почти два месяца тузрик и милиционер молча взирали на все художества Бондаря и его компании. 23 марта терпение лопнуло, и по радио передали в крайком и крайисполком донесение о поведении управляющего колымскими приисками и стали ждать указаний.
Но никаких указаний до самой навигации не дождались. С первым пароходом прибыл в Олу новый управляющий из Дальзолота Домбар. В это время приехал в Олу и Улыбин – по делам службы и встретить жену.
И сошлись в Ольском райцентре три управляющих: Бондарев, Домбар, Улыбин. Троевластие, и только! Районные руководители стали разбираться в этой чехарде, молнировать и телеграфировать в Иркутск, Владивосток, Москву. Разобрались. Законным главноуправляющим остался Улыбин. Присланный по несогласованности Дальзолота с Союззолотом Домбар оказался не у дел. Бондарева отозвали во Владивосток, где его посадили на скамью подсудимых, и он получил по заслугам.
Все это произошло летом 1930 года, когда в бухту Нагаева прибыла вторая Колымская геологопоисковая экспедиция.