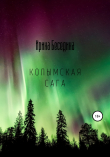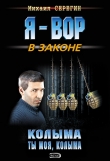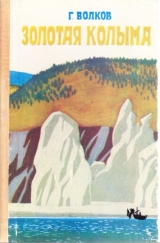
Текст книги "Золотая Колыма"
Автор книги: Герман Волков
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
– Пошлем из экспедиции,– предложил Билибин.– Ребята у меня честные, трудолюбивые, но заработали мало: расценки у нас все же низкие, и некоторые даже аванс не погасили... Пусть для них Утинка будет наградой. Они будут вести там разведку и промывку. И вы будете ими очень довольны. Программа будет выполнена. А это значит, что Колыма заявит о себе в полный голос. Что и требовалось доказать.
С таким решением Оглобин и Кондратов охотно согласились. Кондрашов, оставаясь техническим руководителем приисковой конторы, принимал на себя и разведку. А рабочие экспедиции, продолжая заниматься разведкой, одновременно начинали еще до окончания договора стараться.
Охотников стараться на Утинке объявилось много: Лупеко, Ковтупов, Дураков, Лунев, Чистяков, Серов, Швецов... Пришлось кое-кого отговаривать, чтоб не сорвать летние работы на Среднекане. Но Юрий Александрович обещал Утинку всем желающим после окончания экспедиционных работ.
Для уходивших устроили прощальный ужин. Филипп Диомидович отпустил из только что доставленных продуктов все самое вкусное: шпроты балтийские, средиземноморские сардины, шанхайское сало, японское конденсированное молоко... Ужин прошел на славу. Пели, танцевали. Митя Казанли расхаживал по бараку и так неистово играл на своей скрипке, что боялись, как бы он не выколол кому глаз смычком. Скрипачу подыгрывали на мандолине Раковский, на расческе Кондратов.
Когда расставались, Сергей Дмитриевич подарил Кондрашову свою фотокарточку, сделанную во Владивостоке: красивый, аккуратно причесанный, при галстуке, даже нос кажется покороче... На обороте написал:
«На память Петру Николаевичу о днях, проведенных в Верхнеколымской тайге. Надеюсь, что встретимся вскоре в более лучшей обстановке... Вспоминайте К. Г. Р. Э. ...
22 июня 1929 г.
Среднекан.
Сергей Раковский».
Петр Кондратов был очень тронут, начал шарить по своим карманам, но ничего подходящего не нашел и преподнес японские спички в запаянной жестяной коробочке: – Придется купаться, как тогда, эти не промокнут.
И Сергей Раковский несказанно обрадовался подарку.
...Пройдет много-много лет, почти пятьдесят, и в Магаданском областном краеведческом музее встретятся, как два старых друга, два экспоната: эта фотокарточка с дарственной надписью и спички в жестяной коробочке.
За сорок с лишним лет, что проработал Сергей Дмитриевич на Колыме, купаться ему в ледяных горных речках приходилось нередко, жестяная коробочка со спичками была всегда при нем, но рука не поднималась открыть ее, заветную. И лишь когда уезжал навсегда, на заслуженный отдых, передал ее музею вместе с другими реликвиями. Там ее и открыли. Сам спичечный картонный коробок с яркой японской этикеткой от времени развалился, а спички с красными серными головками можно зажечь и сейчас.
В необжитой тайге непревзойденный ходок Раковский никогда ничем не болел, а в московской благоустроенной квартире обрушились на него всякие хвори и унесли его раньше времени.
А лет через пять после его смерти зашел в тот же музей высокий худощавый старик, остановился перед витриной, в которой лежали японские спички и жестяная коробка, и вдруг поднес к глазам платок.
– Пылинка попала? – спросила музейная смотрительница.
– Да... пылинка... – смущенно ответил посетитель.
– Не может быть! У нас здесь чистота,– возразила смотрительница, но тотчас догадалась: – Вы, вероятно, с лауреатом Сталинской премии Раковским были лично знакомы?
– Да. Я подарил ему эти спички, а он мне вот эту фотокарточку,– и незнакомый посетитель извлек из бумажника фотографию с дарственной надписью Раковского.
В этот день геолог Кондратов, пенсионер, прилетел в Магадан туристом, но увидел в музее все, что связано с его первыми годами работы на Колыме, и решил тряхнуть стариной. Отправился в долины своей юности, на прииск «Пятилетка» участковым геологом и проработал там еще три года, да так, что его ставили в пример молодым.
ТЕСНО БУДЕТ В ТАЙГЕ
На другой день после прощального ужина сфотографировались: Билибин и Оглобин сидят посередке рядом, положив крепкие жилистые руки на колени; за их спиной – загорелые, кострами прокопченные Цареградский и Раковский; сбоку – Петр Кондратов и уполномоченный Якутского ЦИКа Владимиров.
23 июля рабочие нового прииска «Юбилейный» под началом Кондрашова потянули бечевой, как бурлаки, вверх по Колыме тяжело нагруженные лодки. Целую неделю поднимались нормально, без приключений. На подходе к Запятой вышла своя запятая – наскочив на опочек, подводный бугор, перевернулась одна лодка, и вынуждены были потерять день на просушку груза. Здесь, перед Запятой, и догнал их Юрий Александрович.
Он так же по-бурлацки шел берегом со своим неразлучным личным промывальщиком Майорычем, но чаще сажал его в лодку, а сам впрягался в бечеву.
Старик упрямился:
– Дай я сам пошмыляю.
– Нет, шмылять буду я!
Так и шли до Запятой, пока не догнали своих.
И тут произошла встреча, которой Билибин никак не ожидал. На левом, противном берегу увидели палатку – почти новенькую, золотисто-кремового цвета, с целлулоидными окошечками, явно заграничную.
– Кто это там? – спросил Билибин у Кондрашова.
– Не знаю,– ответил тот.– Звали – не подплывают.
– Ну что ж, придется нанести визит.
Юрий Александрович сел в лодку, вместе с ним Степан Степанович, Лунев и Кузя Мосунов. Двинулись.
Было это 28 июля, в полдень, когда последние колымские комары грызли с особым остервенением.
– Разрешите войти? – спросил Билибин.
– Входи, да комаров не впускай,– ответил кто-то из палатки.
Юрий Александрович отогнул полог и радостно воскликнул:
– Сергей! Сергей Владимирович! Или это сон?
Обручев в бородатом мужике сразу узнать не мог, кто это, а вгляделся:
– Ба! Да это ты, Билибин!
И хотя они в Ленинграде особенно близкими не были, тут встретились как самые давние и крепкие друзья.
– Аггей! – крикнул Обручев проводнику.– Волоки неприкосновенный запас и кожаную сумку. Ведь я к тебе, считай, дипкурьером от всех твоих родных и даже от той, что когда-то ласково сказала «нет». Получай самую свежую почту – всего лишь семь месяцев шла.
Юрий Александрович набросился на письма от матери, от отца, от сестры и многих знакомых. Не без трепета вскрыл конверт и «от той», а в нем всего лишь одна фотокарточка – гордый строгий профиль с милым, чуть вздернутым носиком, с гладкими волосами, затянутыми на затылке в тугой узел – и на обороте всего одно слово: «Ленинград. 1928 год».
– Ну что? Опять «нет»? – спросил Обручев.
– Да! – воскликнул Билибин и смутился.
– Эх, жаль, на свадьбе не погуляю!
Потом они долго сидели вдвоем в палатке. Сергей Владимирович взахлеб повествовал, как ему удалось организовать экспедицию от Академии наук по всей Колыме и Чукотке, как он летал от Иркутска до Якутска на самолете.
– Летели три дня. Садились в Жигалове, Усть-Куте, Киренске, Витимске, Олекминске. К Якутску подлетали в темноте, летчик Михаил Слепнев посадил аэроплан прямо на забор. А я не почувствовал, лезу поздравлять его с удачной посадкой, а он орет: «Застрелюсь!» Для них, летчиков, оказывается, нет ничего позорнее, как посадить машину на забор... Нам бы, путешественникам, такие аппараты! Быстро, высоко, сверху все видно, и на сопки не надо карабкаться... Но дальше Якутска они пока не летают. Из Якутска я тащился на быках, на лошадях, один мой отряд и сейчас идет по Сеймчанской тропе, а я на лодке по Колыме, как видишь. На устье Бохапчи прочитал твой затес, но определить астропункт не смог, плыву без астронома.
– Мы это сделали сами...
– Хорошо. А я теперь окончательно убедился, что открыл здесь новый хребет, который назвал хребтом Черского. Он простирается с северо-запада на юго-восток, перерезает Колыму в районе Больших Колымских и Бохапчинских порогов, а здесь его отроги...
– А золото или признаки золота не встречались?
– Вероятно, есть, но это уже твой хлеб, вырывать изо рта не буду... И от души поздравляю еще раз и много раз! Значит, золотую пряжку Тихоокеанского пояса расстегнул?!
– Расстегнуть-то расстегнул, но куда поясок тянется... С юга-востока на северо-запад? Как твой хребет Черского? Или?..
– Несомненно!
– До Индигирки?
– Я там золото не нашел, хотя и проверял заявку какого-то полковника...
Сергей Владимирович сфотографировал Юрия Александровича себе на память – бородатого, в распахнутой рубашке с кармашком на груди, но, как и положено ученому, склонившегося над книгой, В палатке было сумрачновато, снимок мог не получиться. Сделал второй: под открытым небом, на берегу Колымы, усадив Билибина прямо на землю в той же рубашке. Юрий Александрович сиял и глазами и рыжей бородой.
На другой день утром Обручев поплыл вниз по Колыме, помахал рукой. И ему ответили тем же. Его лодка шла шибко, и Майорыч не без зависти вслед сказал:
– По воде легко... А нам против.
30 июля, после семидневного хода против течения, Билибин и Майорыч, опередив остальных рабочих, добрались до устья Утиной.
А на другой день рано утром, когда густой туман еще покрывал Колыму и широкую долину Утиной, Билибин поднял Майорыча:
– Пошли на Золотой Рог.
– Ружьишко прихвати, неровен час, хозяин встретится. Вон его след – ночью к нам подходил.
– Ничего, я его молотком!
– Ну, а я – лотком,– ему в тон усмехнулся Майорыч, но свою берданку все-таки взял.
Когда они поднялись на голец, который Раковский окрестил Золотым Рогом, утренний туман рассеялся, и с вершины открылся такой же широкий и раздольный вид, каким любовался и Сергей Дмитриевич. Но Юрий Александрович мысленным зрением видел дальше и записал так:
31 июля, среда.
Утром туман. Выход – 7 часов 30 минут. Подъем на г. Золотой Рог.
В районе рч. Утиной вдоль Колымы тянется цепь гольцов Бас-Учунья, упирающаяся в Колыму между Урутуканом и Тасканом. На востоке она, по-видимому, кончается, упираясь в кривун у кл. Случайного.
Массив Бас-Учунья занимает все пространство между Колымой и рч. Утиной. Формы резкие, ключи узкие и крутые. Высоты небольшие, до 600—700 м над Колымой. Справа от верхнего течения Утиной тянутся невысокие увалы. За ними в 7—8 км на водоразделе с Урутуканом стоит громадный голец Столовой».
Гольцов было много: Гранитный, Сторожевой, Дарьял, Немичан – между ними распадки. Каждую падь предстояло обследовать, на каждый голец – подняться. И все это – за какие-нибудь две недели.
На другой же день, не дождавшись подхода задержавшихся на Запятой рабочих, Билибин и Майорыч сразу же отправились на ключ Юбилейный – на то место, где выбирали из сланцевой щетки самородки Раковский и Лунеко. Пришли, и Юрий Александрович, похаживая по этой щетке, то насвистывал, то напевал, то восклицал:
– Майорыч, по золоту хожу!
Майорыч лишь улыбался в свою черную бороду.
На месте бывшего стана Раковского натянули палатку и только улеглись – кусты затрещали.
– Он,– шепнул Майорыч,
– Нет, это наши ребята подходят. Я их сейчас напугаю,– и Юрий Александрович, накинув тужурку, на четвереньках выбрался из палатки.
– Не пужай, а то со страху пальнут... – Но не успел Майорыч договорить, как Билибин закричал:
– Майорыч, молоток! Лоток! Кайло! Ружье!
Майорыч схватил что под руку попало, выскочил и видит: стоит перед Билибиным в каких-нибудь пяти шагах на задних лапах большущий темно-бурый медведь, а сам Юрий Александрович перед ним, словно медвежонок, на четвереньках.
Но говорит вполне спокойно и даже вежливо:
– Миша не при. Будь добр, уходи. Нас много, ты один. Ты – сыт, и мы – сыты, и делить нам пока нечего...
И мишка не спеша, вперевалочку пошел прочь.
Юрий Александрович поднялся, отер со лба холодную испарину.
Майорыч проворчал:
– Хорошо, хозяин ягодой накормился, а то бы...
– Какой хозяин? Мы – хозяева тайги! – усмехнулся Билибин.
Но заснуть спокойно в ту ночь хозяева тайги не могли.
После десятидневного утомительного перехода прибыли на Юбилейный технорук Кондратов и с ним одиннадцать рабочих. Начали устраиваться, рубить барак под жилье и контору.
Сперва мыли одними лоточками, потом смастерили бутары и проходнушки, и 6 августа с этих примитивных колод на прииске «Юбилейном» была произведена первая обнадеживающая съемка золота. С этого числа стали намывать по сто граммов на брата в день, а то и больше...
Возвращаясь на базу с рюкзаком, набитым под завязку камнями, Юрий Александрович, прежде чем отдохнуть, подкрепиться, шел к своим бывшим разведчикам:
– Старатели, как старается?
– Фунтит! – неизменно отвечали ему и рассыпали пред его очами все, что намыли за день.
Билибин рассматривал каждую золотнику, взвешивал на ладони те что покрупнее. Он был очень доволен: пусть ребята заработают.
Радовался и результатам своих обследований.
«9 августа, пятница.
От стана вверх по кл. Холодному. 11 проб: золото, знаки...
10 августа, суббота.
От Холодного на прииск «Юбилейный». Пробы: золото, знаки...»
Ключ Холодный показал золота гораздо больше, чем было в пробах Раковского, и Юрий Александрович считал, что здесь, рядом с «Юбилейным», надо открывать второй прииск – «Холодный».
– Надо,– соглашался технорук Кондратов,– но для этого рабочих сюда надо и продовольствия побольше. Того, что доставили, не так уж надолго и хватит. Сейчас грибами подкармливаемся. На завтрак – похлебка из грибов, на обед – грибы тушеные, на ужин – тоже. Но они скоро пропадут, и кончится подножный корм...
– Н-да, не подумали мы об этом. Надо бы хоть один карбас со сплава на устье Утиной задержать. Русский мужик всегда задним умом крепок. Но, думаю, Оглобин снабжение наладит, и новый прииск будет. Он мужик дошлый!.. А я сегодня бродил по любопытному ключику, нарек его Заманчивым. Сдается мне, что приведет этот Заманчивый к богатой жилке. Рудник откроем! А завтра мне надо подняться на голец Басаганья. Хочу с его вершины посмотреть, а что там за Колымой... Лунеко мне не дадите?
– Рабочие пока ваши – берите любого.
На высокую гору Басаганья они взбирались втроем – Билибин, Майоров и Лунеко. С утра небо было чистое, но потом пошел дождь, легкая одежонка вымокла до последней нитки. А когда поднялись на самый верх, то и проголодались порядком.
Стояли на вершине. Дождь хлестал. Ветер пробирал. Укрыться некуда, и костер не разведешь: голо, одни камни вокруг, да лишайники на них. В рюкзаках – тоже камни, которые набрали при подъеме на голец. А начальник бодр, радостен, весел. Обратно спускаться не торопится – все ждет, что ветер разгонит тучи и будет видно Заколымье, а в общем за хмарью – ни зги.
– Догоры! Вот стоим мы с вами, голодные, холодные, комарами искусанные, дождями исхлестанные, медведями пуганные, на вершине Басаганьи и знаем – пройдет немного времени, всего одна пятилетка, и в этой медвежьей, девственной глуши, что необозримо простирается вокруг нас, от Колымы до Индигирки, на север, за Буюнду, на восток, на Чукотку, на северо-восток, и туда, на юго-запад, в сторону Охотска и нашего родного Алдана, через все эти сопки и хребты, по всем этим долинам пролягут железные и шоссейные дороги, побегут поезда, автомобили, а по Колыме и Бохапче – пароходы. Всюду загорятся огоньки приисков, рудников, городов и поселков и пробудится от векового сна девственная красавица тайга! Золотая тайга! А все почему? А все потому, что расстегиваем мы с вами золотую пряжку Тихоокеанского пояса! Помнишь, Майорыч, на Алдане в палатке я вам рисовал карту Тихого океана и вокруг него золотой пояс? Мы еще не знаем точно, куда протянутся наборные ремешки этого пояса, по каким долинам и распадкам, но золотая пряжка – в наших руках и, несомненно, в Приколымье и Заколымье нас ждет еще много открытий! И где ступит наша нога, там забьет ключом новая жизнь! Так, догоры? А, Михаил Лазаревич?
Миша Лунеко слушал начальника без особого восхищения: желудок у него тосковал о горячей мурцовке с размоченными сухарями и о жареных грибах, а напоминание о комарах вызывало чуть ли не слезы. Он, стойкий боец Красной Армии, бывший старшина батареи, коренной сибиряк, не раз впадал в отчаяние от колымских комаров. А тут – начальник размечтался.
– А ты что притих, Майорыч?
Старик Майоров думал не о комарах. За долгие свои скитания по Сибири и Дальнему Востоку он ко всему привык, все невзгоды переносил молча, но к людям, жадным до золота, привыкнуть не мог. Это он сказал еще на Алдане: «Золото завсегда с кровью», когда слушал рассказы о Бориске. Вот и сейчас великий молчун вдруг невесело изрек:
– Тесно будет в тайге.
Билибин понял его по-своему и с радостью подхватил:
– Молодец, старик! Молчишь, молчишь, а как скажешь что – хоть золотыми буквами записывай! Тесно будет в тайге! Нет, Майорыч, твое имя непременно надо нанести на карту Колымы!
Петр Алексеевич Майоров не улыбнулся...
...Десять лет спустя, когда Юрий Александрович в тиши своего ленинградского кабинета будет заканчивать свой первый капитальный труд «Основы геологии россыпей», который для горняков и ныне путеводная книга, в последней, XXVI главе «Задачи изучения россыпных месторождений Союза», как бы выражая благодарность таким, как Майорыч, людям, неизвестным ученому миру, вспомнит его слова и напишет: «В тайге становится все теснее».
Билибин рассчитал своих рабочих на месяц раньше и, уезжая с Утиной, напутствовал:
– Старайтесь, ребята. Честно старайтесь. Марку нашу держите.
Возвращался на Среднекан вдвоем с Майорычем. Старик не пожелал оставаться на старание:
– Семью надо повидать, С Зеи – я. Повидаю – может, приеду, а может, и еще куда подамся.
На Среднекан они вернулись, как и обещал Билибин, 15 августа, в лодке, тяжело нагруженной образцами пород, и с золотом, намытом на Юбилейном.
Среднеканцы, увидев это крупное, матово поблескивающее золото, были готовы ехать на новый прииск тут же. И рабочие экспедиции из партии Бертина, Раковского, Цареградского запросились на старание. Билибин пообещал своих направить в первую очередь, в награду за честный труд. Оглобин поддержал его. Из пятнадцати человек организовали две артели, и они подались на новый прииск – «Холодный», провожаемые завистливыми взглядами «хищников».
БИЛИБИН ВИДЕЛ ДАЛЕКО
Поисковые летние работы закончились. Эрнест Бертин, Раковский, Цареградский, Казанли – все собрались на Среднеканской разведбазе. Каждый делал доклад начальнику экспедиции, показывал породы, пробы, шлихи, самородки – отчитывался.
Дмитрий Казанли на самых высоких сопках Приколымья установил одиннадцать астропунктов, определив их координаты. С этими астропунктами увязывались все маршруты, реки, речки, ключики, исхоженные геологами. И впервые вырисовывалась точная карта огромной территории: от Ольского побережья до правобережья Колымы, от Малтана и Бохапчи на западе до Буюнды на востоке. Карта, изданная Академией наук всего три года назад, оказалась безнадежно устаревшей. Астропункты на устье Бохапчи и устье Среднекана показали, что река Колыма между этими устьями действительно течет на двести километров южнее, ближе к Охотскому морю, чем на всех прежних картах, кроме той, что выложили на полу юрты Макара Медова из спичек... Не зря Казанли ползал по полу!..
А когда сложили все, что шагами измерили, молотками обстукали, лотками промыли, то получилось: небольшая экспедиция, в которой было всего два геолога, один геодезист и два прораба, меньше чем за год покрыла более тысячи километров маршрутной съемкой, четыре тысячи квадратных километров – геологическими исследованиями, опробовала долины общей протяженностью в пятьсот километров. А всем исхоженным верстам счет был потерян...
И почти во всех этих долинах было найдено золото, правда, далеко не всюду такое, как на притоках Утиной и Среднекана, не всюду годное для мускульной добычи, но геологи смотрели вперед и знали: то, что нельзя добыть лоточками и проходнушками теперь, можно будет взять техникой недалекого будущего.
Бертпн получил хорошие пробы по обоим истокам Среднекана – левому и правому, а один приток, особенно обнадеживающий, Эрнест Петрович назвал именем Аннушка. Такими же звучными именами – Золотистый, Радужный и тому подобными окрестил речки и ключики Среднеканской долины Сергей Дмитриевич, и, конечно, неспроста.
Установил хорошую золотоносность и Цареградский. К тому же у него был сюрприз для Билибина – банка из-под какао.
Он нашел ее недалеко от своей палатки, на берегу Среднекана, где по утрам обычно умывался. Между большими валунами, под нависью обнаженных подмытых корней лиственницы виднелась коричневая круглая жестяная банка. Даже не подходя к ней, Валентин прочитал ярлык: «КАКАО ЭЙНЕМ» – и удивленно присвистнул: «Откуда она здесь, с детства знакомая?» Потянулся за ней только из любопытства: вспомнилось то время, когда мама из содержимого такой же коробки готовила ароматное и сладкое питье. Поднял и чуть не уронил от неожиданной тяжести: раньше такая банка весила фунт, а эта – все десять, если не больше. Валентин сразу понял, что в этой коробочке. Из-под крышки вылезали лохмотья дерюжки, к тому же она приржавела, и, открывая ее, Валентин обломал ногти. В истлевшем мешочке плотно лежало золото. Его было, конечно, больше, чем привез с Утиной Раковский в коробке из-под зубного порошка. Такого количества металла экспедиция пока не находила. И как же не обрадоваться ее начальнику! Все будут смотреть на Валентина Александровича с великой завистью...
Но Юрий Александрович не возликовал, напротив, как-то даже кисло усмехнулся, когда Цареградский положил пред ним свою богатейшую находку, и прежде всего спросил:
– Откуда оно?
Валентин стал было подробно рассказывать, где и как нашел...
– Нет, я не об этом,– перебил его Билибин и обратился к Раковскому: – Вы, Сергей Дмитриевич, средь нас, ученых, главный определитель золота. Откуда оно?
– На среднеканское и на утинское ни по окатанности, ни по цвету не похоже,– ответил Сергей.
– А Филиппу Диомидовичу показывали?
– Показывали и Оглобину, и Поликарпову. Говорят: «не наше».
– Ну, что ж, кто его владелец, пусть выясняет угрозыск. Составьте по всей форме акт, передайте в контору прииска, а мы его и в отчете не можем помянуть: неизвестно откуда, без привязки... А когда-то и я пивал какао из такой баночки... А что, Валентин Александрович, показала Среднеканская дайка?
Жилки над устьем Безымянного, обследованные Цареградским еще весной, оказались бедными, почти пустыми. На Буюнде Валентин Александрович тоже ничего не нашел, не сверкнули пред его глазами золотые молнии, описанные Розенфельдом. Оставалась на счету Цареградского только Среднеканская дайка. Хотя ее обнаружил Раковскнй, но он, Валентин Александрович, по заданию начальника экспедиции первым тщательно опробовал, и золоторудные жилы альбитовых порфиров, казалось, вознаградили за все неудачи таким богатством, перед которым, конечно, померкнут все золотые россыпи, открытые и Раковским, и Бертиным... Билибин ахнет! Так думал Цареградский.
И Юрий Александрович действительно был потрясен, когда познакомился с пробами Цареградского из Среднеканской дайки. В отдельных образцах оказалось такое золото, что Билибин, пересчитав содержание на тонну породы, пришел, как сам позже не раз говорил и писал, в священный ужас:
– Двести граммов на тонну руды! Неслыханное содержание! Небывалое в истории золотой промышленности! Такие цифры нельзя принимать в расчет.
Валентин решил, что его друг-начальник, как и прежде на жилке при устье Безымянном, ставит под сомнение его опробование, и очень обиделся:
– Можете проверить, Юрий Александрович...
Билибин стал успокаивать его:
– Нет, Валентин, ты все сделал, вероятно, правильно: и опробовал, и подсчитал, но эти цифры – священный ужас!.. Надо взять пробы в Ленинград, и там проведем тщательный лабораторный анализ. Затем здесь поставим детальную разведку, пробьем штольню... Ведь мы брали пробы, по сути, только из одного выхода... дайка очень заманчивая, но пока о ней лучше скромно молчать, ибо геолкомовские «тираннозавры», «мастодонты» засмеют нас, как и Розенфельда с его молниеподобными жилами... А вдруг содержания такого не окажется. Обанкротимся?.. А в общем все великолепно! Тесно будет в тайге, догоры!
Билибин был очень доволен результатами работ экспедиции. Он дни и ночи просиживал над материалами, собранными экспедицией, и тут же, на Среднекане, в тесном, заставленном образцами бараке, за дощатым столиком, при неровном свете стеариновых огарков четким крупным почерком писал первый колымский полевой отчет.
Записка Розенфельда лежала перед ним, Юрий Александрович, снова и снова перечитывая ее, вдохновлялся:
«...хотя золота с удовлетворительным промышленным содержанием пока не найдено...»
– Найдено, господин Розенфельд!
«...но все данные говорят, что в недрах этой системы схоронено весьма внушительное количество этого драгоценного металла...»
– Весьма внушительное, догор Розенфельд!
«...нет красноречиво убедительных цифр... фактическим цифровым материалом я и сам не располагаю... Могу сказать лишь одно – средства, отпускаемые на экспедицию, окупили бы себя впоследствии на севере сторицею... в ближайшие 20—30 лет Колымская страна привлечет все взоры промышленного мира».
– Несомненно! И гораздо раньше! Но где они – твои Гореловские жилы?!
«Мы нашли все,– размышлял Билибин, склонившись над столом и над первой, пока еще начерно сделанной картой Казанли,– Борискину могилу и даже амбар со снаряжением Розенфельда... Но где же Гореловские жилы? Цареградский утверждает, что Буюнда и Купка не золотоносны... А якут Калтах, отец Аннушки, у которого останавливались на устье Гербы, говорил, что нашел он самородок на Купке... И Розенфельд, весьма вероятно, там что-то видел. А может, мне самому поискать? Но когда? Последний пароход с Ольского рейда уходит обычно в середине сентября, то есть через две недели. Опоздаешь – придется зимовать, А если возвращаться по Буюнде одному? Другие пойдут иными путями... Риска меньше. Если кто-то и опоздает, то другие успеют... Надо каждому вручить полевой отчет, и кто выберется на материк, тот начнет ратовать за Колыму!»
И Юрий Александрович писал – составлял отчет вдохновенно. Не зря он иногда говорил, что геолог должен сочинять стихи – это поможет писать отчеты. И теперь, описывая сугубо научным языком широкое развитие мезозойской осадочной толщи, прорванной интрузиями гранитов, с которыми связывается золотоносность, Юрий Александрович рисовал богатейшие перспективы нового золотоносного района и заканчивал отчет глубоким выводом, который будет назван в науке «блестящим билибинским прогнозом»:
«Так как полоса гранитных массивов продолжается к северо-западу, на левобережье Колымы, и к юго-востоку, па побережье Буюнды, то мы вправе ожидать продолжения в обе стороны и окаймляющей ее рудной полосы. К северо-западу мы встречали знаки золота по pp. Таскан и Мылге и вправе ожидать золотоносность левых притоков Колымы. К юго-востоку имеются указания Розенфельда о золотоносности р. Купка, правого притока р. Буюнды н нахождения золота якутом Калтахом...»
Вдохновенно писал Юрий Александрович, но все же сдерживал свои порывы, чтоб не прослыть фантазером, и о знаках золота, найденных им лично на Мадыгычане, левом притоке Бохапчи, умолчал. То есть не совсем умолчал, в отчете-то сказал, но вывод о том, что есть золото и за Бохапчой, сделать поостерегся.
«Мало я там опробовал левые-то притоки,– рассуждал Билибин,– и тот же Мандычан – дождь помешал да и сплав много времени отнял... А может быть, сейчас мне надо не по Буюнде, а еще раз пройти маршрутом по Бохапче и Малтану, там выйти на перевалбазу Элекчан и знакомой тропой в Олу?..»
Так в темную августовскую ночь в неугомонной голове Билибина родилась и созрела еще одна идея. Юрий Александрович поднял всех с постели:
– Хватит спать, медведи! А ну кто хочет со мной побороться, поразмять косточки?
Все настороженно молчали.
– Майорыч, выходи! Ты посильней всех будешь нас, ученых...
– Не... На медведя я пойду, а на Билибина – не!..
– А на бешеную Бохапчу опять со мной пойдешь?
– Можно.
– Ну, тогда слушайте, догоры, мой последний приказ! Сам я с Майорычем пойду по левому истоку Среднекана и буду держать курс на запад, на Бохапчу выше порогов, оттуда на Малтан и дальше Ольской тропой. Цареградский двинется по заброшенной тунгусской тропе, о которой рассказывал нам Макар Медов. Раковский, Казанли и Корнеев со всем экспедиционным имуществом возвращаются в Олу Буюндинской тропой, которой ходили все торговые люди и Розенфельд когда-то, а ныне доставляются грузы на прииски. Каждый отряд попутно будет вести маршрутную съемку, геологические и прочие наблюдения, все заносить в дневники... Таким образом, мы, хотя и бегло, обследуем еще три маршрута на золотоносность, на возможность транспортировки грузов, а также положим начало изысканиям железной или шоссейной дороги. Не исключается, что кто-то из нас будет опаздывать к последнему пароходу, может, и опоздает, но тот, кто первым выберется на материк, сразу же начнет ратовать за Колыму во Владивостоке, Москве, Ленинграде – всюду! Для этого каждый получит экземпляр геологического отчета. Ясно, догоры?
Догоры, выслушав своего начальника, призадумались. До последнего парохода всего две недели. Времени в обрез. Зимовка никому не улыбалась. Скоро выпадет снег. Когда тут изыскивать дорогу? Когда вести геологическую съемку?
Все молчали. Раковский молчал, так как знал: Юрий Александрович зря ничего не прикажет – и готов был выполнять все его приказы. Митя Казанли и его друг Коля Корнеев улыбались, только по-разному: Митя – радостно, он непрочь пожить подольше в этом краю и ставить свои астропункты; Коля – кисловато, его в Ленинграде никто не ждет... А у Цареградского – жена, дочери... Молчал и Эрнест Бертин. В приказе он почему-то не был упомянут и с хитроватой усмешкой выжидал, что же начальник подготовил для него.
Юрий Александрович сияющими глазами всматривался в друзей. Каждого из них он знал не хуже себя и догадывался, кто почему молчит. Начал с Бертина:
– Вам, Эрнест Петрович, я хочу дать особое задание.
– Н-н-на С-с-северный полюс?
– Почти. Мы – на юг, а вам на север. Знаю, что вы любите путешествовать, вот и поедете на перекладных в Якутск. Туда возвращается наш уважаемый Елисей Иванович Владимиров. Вы – вместе с ним. Он, как представитель Якутского ЦИКа, доложит своему правительству о работе нашей экспедиции, но он не геолог, а вы – и геолог, и брат очень почитаемого в Якутске Вольдемара Петровича. Вот вам и карты в руки – геологический отчет. Начинаете ратовать за Колыму в Якутске, затем едете на родной Алдан. Устраивает?
– В-в-вполне!
– Валентин Александрович, я знаю, что ваш маршрут не из легких. Макар Захарович, да и сеймчанские якуты говорят, что на этой старой тропе нет корма для лошадей, потому ее и забросили. Но это было давно, весьма возможно, сейчас трава выросла. А тропа эта, как известно, самая короткая и, вероятно, будет самой удобной для постройки дороги. Лошади ваши за лето приустали, я дал бы вам своих, более свежих, по мне предстоит идти гораздо больше...