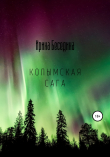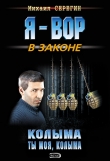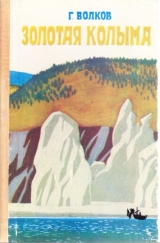
Текст книги "Золотая Колыма"
Автор книги: Герман Волков
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 24 страниц)
ПРИЗРАЧНАЯ НОЧЬ В СОБАЧЬЕМ ЦАРСТВЕ
После Охотска пароход «Дайбоши-мару» полз как черепаха.
Билибин, сетовал:
– Чем ближе к цели, тем медленнее тащимся. От Ленинграда до Владивостока – десять тысяч километров. Ехали десять суток. От Владивостока до Олы – три тысячи. Шлепаем двадцать суток. Это какая-то арифметическая регрессия! И если от Олы до Колымы шестьсот километров, то будем добираться месяц?
Море все еще покачивало посудину, и чем мористее отходили, тем гуще становился туман. Лишь когда вошли в Тауйскую губу, волны улеглись и туман отступил.
Прилетали с берега белые чайки, а вскоре показался и сам берег. Словно из воды поднялись дымчато-серые горы. Билибин и Цареградский прилипли к биноклям.
Шли мимо полуострова Старицкого. Слева возвышался крутой скалистый мыс, напротив него – другой, еще круче и скалистее. Из-за их плеч вздымались останцы, похожие не то на царскую корону, не то на средневековый замок. Эта гора в лоции называлась Каменным Венцом. Меж скалистыми мысами – вход в бухту Нагаева, или, по-старинному, Волок. В этот пролив, словно белые овцы в ворота, забегали последние клубы тумана.
О бухте Нагаева та же лоция не без восторга сообщала, что это самая удобная якорная стоянка на всем северном побережье Охотского моря и почти от всех ветров защищена, в шторм отстояться можно, и к берегам ее подходить можно близко, а у подножия Каменного Венца есть ключ Водопадный с пресной водой, которой можно пополниться при помощи нехитрого устройства, один недостаток – берега бухты безлюдны и запастись провиантом невозможно.
«Дайбоши-мару» не зашел в эту бухту, и геологи проводили его с недоумением: самая удобная якорная стоянка и – необитаема.
– Нам надо обследовать эту бухту,– сказал Цареградский.
– Обследуем. Все обследуем.
– Петров, князь Ольский,– с ухмылкой вставил до того молчавший Миндалевич,– уже обследовал и предложение делал: построить тут порт-базу...
– Ну и что? – заинтересовался Билибин.
– Да ведь прожектер он, этот предрика, а его прожектами Север не преобразишь... Предполагается построить эту порт-базу, но когда это будет...
– Будет. Все будет. И скоро.
Миновав полуостров Старицкого, пароход пошел левым бортом к северным берегам Ольского залива. То темно-серые, то буро-красноватые, они медленно разворачивались длинной лентой. Над ними зеленели, курчавясь кустарниками, невысокие увалы, кое-где поднимались сопки с темными голыми вершинами. За гольцами синели и уходили вдаль горы.
Над сопками и по-над морем стояла такая тишина и воздух был такой прозрачно-чистый, не замутненный ни единым дымком, что казалось, здесь еще не рождался и не жил ни один человек. Огромное алое солнце погружалось в море. Небо розовело, море краснело, и червонным золотом отливали берега.
Когда подходили к рейду, видели широкую долину, в которой блеснули рубинами и аметистами окна домов, засеребрилась кровля двуглавой церквушки. Но подошли ближе – все это, словно мираж, исчезло, скрылось за высоко намытой прибрежной косой.
В этот закатный час третьего июля 1928 года «Дайбоши-мару» бросил якорь на Ольском рейде, в одной миле от берега. В девственной тишине якорные цепи заскрежетали пронзительно и громко плюхнулись в воду. С тревожными криками взметнулись чайки.
Не пройдет и десяти лет, как Колыма станет одним из крупнейших горнопромышленных районов в Союзе.
В 1938 году, накануне десятилетия Золотой Колымы, за десяток тысяч километров от нее, в своей ленинградской квартире Билибин будет вспоминать о Первой Колымской экспедиции и начнет свои мемуары «К истории колымских приисков» так:
«Самые первые годы освоения Колымы, когда она была девственным, совершенно необследованным районом, кажутся сейчас необычайно далекими и начинают уже покрываться дымкой забвения. Вряд ли найдется много людей, которые знали бы историю этих первых лет и были бы ее непосредственными участниками. Их всего небольшая горсточка, этих подлинных пионеров Колымы. Так как мне пришлось участвовать в освоении Колымы с самого начала, я думаю, что некоторые мои воспоминания об этих первых годах не будут лишены интереса».
Да, их была горсточка. В ту ночь с 3 на 4 июля 1928 года на ольский берег высаживалось всего двадцать два человека: начальник экспедиции Юрий Александрович Билибин, палеонтолог Валентин Александрович Цареградский, геодезист Дмитрий Николаевич Казанли, прорабы, поисковики-разведчики Эрнест Петрович Бертин и Сергей Дмитриевич Раковский, врач Дмитрий Степанович Переяс-лов, завхоз Николай Павлович Корнеев, рабочие, промывальщики, шурфовщики, мастера на все руки Иван Алехин, Петр Белугин, Петр Лунев, Михаил Лунеко, Степан Дураков, Кирилл Павличенко, Дмитрий Чистяков, Петр Майоров, Евгений Игнатьев, Кузьма Мосунов, Яков Гарец, Андрей Ковтунов, Михаил Седалищев, Тимофей Аксенов, Степан Серов.
Имена их всех можно было бы высечь на стеле, воздвигнутой средь прибрежных скал, недалеко от места их высадки. Стелу открывали ровно через пятьдесят лет, 4 июля 1978 года, когда из участников экспедиции в живых почти никого не осталось. Один лишь Цареградский приехал на открытие. С утра было пасмурно, туманно, но проглянуло солнце и словно разогнало «дымку забвения». Яростно защелкали фотоаппараты, кинокамеры...
А та незабываемая ночь была белой – светлая и какая-то призрачная. Тогда никто не хотел спать. Все стояли на палубе и молчали, а если кто заговаривал, то почему-то шепотом, словно боясь нарушить тишину и спугнуть призраки. Молчаливо, в одиночку летали чайки, отражаясь в стылой воде каждым перышком. Высовывались из воды пучеглазые усатые Нерпы. Сизо-черные вороны степенно похаживали по отмели и что-то беззвучно поклевывали, будто кому-то кланялись. Солнце скрылось, а его отблески все еще блуждали по небу и воде. Серебристые, дымчато-голубые, розоватые и золотистые, они переливались словно перламутр.
Таких переливчатых отблесков Цареградский не видел на Неве, они беспокоили душу, и он затаенно спросил у Казанли:
– Ну, как, Митя?
Валентин и Митя за долгий путь от Ленинграда очень сдружились, читали друг другу стихи Лермонтова, Блока, Есенина, Гумилева и петроградских декадентов. Один был наделен любовью к живописи, другой – к музыке. Но оба упорно считали, что важнее науки нет ничего, без нее современное человечество шагу не ступит.
– Ну, как, Митя? – повторил Валентин.
Митя небрежно ответил:
– Звезд не видно. А мне нужны звезды. Судя по лоции, мы находимся на одной параллели с Ленинградом, но это надо еще уточнить.
Был отлив. Морское дно обнажилось почти на километр. Огромные черные кунгасы валялись на мели, обсыхая до самого киля. Выгрузка откладывалась до полной воды, часов на шесть. Громыхая сапогами, Билибин пошел к капитану и, обещая хорошо заплатить, попросил шлюпку.
На ней вместе с Корнеевым и Седалищевым он добрался до берега и наконец ступил на землю обетованную.
На берегу стояли летние юрты рыбаков и торчали вешала из жердей, похожие на высокие прясла. На них висели остатки прошлогодней вяленой рыбы – юколы, изъеденной червями и нестерпимо вонючей. С вешал взметнулась черная туча ворон и затмила перламутровое небо. А из-под вешал выскочила свора собак.
– Ну, догоры, обетованная землица встречает нас вороньим граем и собачьим лаем! – весело воскликнул Билибин.
Но веселому благодушию скоро наступил конец. Вокруг пришельцев остервенело закружились собаки. Бежать от них было некуда и не следовало. Билибин вскинул огненную бороду как факел и двигался молча.
Якут-переводчик Седалищев наступал ему на пятки и то плаксиво тянул: – Ружье надо взять, ружье...– то на всех трех знакомых ему языках умолял собак отстать, но эти твари не понимали ни по-русски, ни по-якутски, ни по-тунгусски.
Завхоз Корнеев прикрывал собой тыл, то отмахивался портфелем, то загораживал им свой зад. Портфель был модный, из грубо выделанной свиной кожи и раздражал псов.
Свора, чем ближе подходили к селению, росла. Нарастало и напряжение.
Дошли до первых халуп. Приземистые, потемнелые, крытые корьем, они стояли вразброс, не поймешь как, передом или задом. Вокруг ни загородочки, ни кустика, лишь торчат колья, а к ним привязаны собаки. Привязные – голодные, злые, рвутся так, что, того гляди, горло себе перережут ошейником. Надеялись, из домов выйдут люди и утихомирят собак. Но никто не выглянул.
– Дрыхнут, черти,– сменил один отчаянный напев на другой Седалищев и опять: – Ружье надо взять...
А собачий эскорт все увеличивался. Всех пуще кипятился голенастый кобель волчьей масти. Он брызгал желтой слюной прямо на сапоги Билибина, и Юрий Александрович не выдержал:
– Не взяли ружье!
И вдруг, как по заказу, грянул выстрел. И этот волкодав, самый настырный, взметнулся дугой, сверкнул гранатовым глазом и распластался у самых ног Билибина, ощерив клыкастую пасть. Все гулявые кинулись врассыпную, привязные виновато заскулили.
Пришельцы оглянулись. К ним подходили двое. Один – долговязый, будто на ходулях, в мешковатом пиджаке, как в балахоне. Другой – вдвое меньше, но щеголеватый, со сверкающей кокардой на суконной новенькой фуражке, в маленьких, будто с дамской ножки, юфтовых сапожках, в перетянутой ремнями черной гимнастерке – милиционер.
Видимо, очень довольный метким выстрелом, он, подойдя к убитой собаке, ткнул ее острым носком сапога:
– Точно – он! Бурун, кобель ямский. Трех оленей зарезал, детишек кусает. Давно мою пулю ждал!
Размашистым шагом подошел и долговязый, вытянул руку:
– Белоклювов, райполитпросветкульторг и зампредтузрика в текущий момент. А вы – товарищ Марин, новый предтузрика?
Билибин назвал себя и сразу спросил:
– Мою телеграмму получили?
– «Молнию»! – для солидности вставил Корнеев.
– Ха, «молнию»? В этом крае ни грома, ни молний не слыхать, не видать, а как церковь закрыли, и про Илью-пророка забыли...
– Я посылал «молнию» через Тауйск,
– Нет, товарищ Билибин, не получали. Тауйск от нас двести верст, а телеграф там – лучше б его не было. По крайности знали бы, что телеграфа нет, и сами никаких телеграмм не давали бы и от других не ждали. Застряла ваша «молния».
– Я просил подготовить транспорт. В крайкоме говорили: лошади здесь есть, оленей не менее трех тысяч.
– Лошади есть, и олешек много. Но кто их считал, олешек? Оленехозяева считать и до ста не умеют, неграмотные. Много, полная долина – вот и весь счет. И вам не сказали, каких оленей. А они почти все не ездовые, под вьюком и в нартах не бывали...
– Дикие! – услужливо подсказал милиционер.– Подсчету не поддаются и никому не подчиняются!
– А там,– зампредтузрика махнул длинной рукой куда-то в полуденную сторону,– знают о нашем крае по туманным слухам. Я тут скоро год по направлению, а за это время ни один из крайцентра сюда не заглядывал. Живем в отбросе и забросе.
– Ну, а лошади-то, говорите, есть?
– Есть, да не про нашу честь. Тунгусы их не держат, камчадалы тоже. Одни якуты. За ними числится сорок голов. Но вы не вовремя приехали. Экспедиция Наркомводпути вас опередила, взяла в аренду у якутов двадцать лошадей, половина уже вышла на Колыму, половина пока сидит. Третьего дня с «Кван-Фо» артель вольноприискателей высадилась, другая из Охотска на шлюпке пришлепала, всех коняшек и порасхватали, а какие остались, тех якуты для убоя держат, на пропитание.
– Значит, ни ездовых оленей, ни лошадей, одни собаки?
– Так точно, товарищ Билибин, одни собаки! – согласился милиционер.– Беспородных развелось. Всех пострелял бы! Патронов не дают. На этого Буруна, волкодава, по разрешению товарища Белоклювова пулю затратил, и акт придется составлять. А на всех собак тут не только пуль, но и бумаги не хватит.
– Собачек много,– подтвердил и зампредтузрика.– В Оле двадцать шесть дворов, жителей обоего пола сто семьдесят душ, а собак – шестьсот привязных и несчетное количество гулявых. На зиму каждый ездовой псине заготавливают пятьсот рыбин! Гулявые сами кормятся, то есть воруют. Местный учитель задал детишкам задачку: рыбопромышленник платит за кетину восемнадцать копеек, во сколько обходится содержание ольских собак? Детишки подсчитали: пятьдесят четыре тысячи рублей в год! Капитал! Петров вынес обязательное постановление о ликвидации некоторых собак, как прожорливого класса. И я, многогрешный, по его указанию, на собрании всех ольских граждан делал доклад по собачьему вопросу. Сперва, как положено, текущий момент, мол, строим, товарищи-граждане, новую жизнь, а от собачьей прожорливости одни убытки. Гулявых развелось – ступить некуда. Дохлых убирать некому – антисанитария кругом. Да и многие привязные держатся без надобности, ради соревнования какого-то, или обычай вроде такой: пацан еще ходить не научился, а ему уже заводят полный потяг собак. «Как же можно бешшобашному?» Не нужно, говорю, товарищи, граждане-туземцы, столько собак! Когда построим социализм, будем ездить на автомобилях! И не будет при социализме ни одной собаки! Слушали, соглашались вроде, а потом один старик тунгус покрыл голову платком, как шаман, и говорит: «Слушай сказку, нюча.– Они нас, русских, нючами зовут.– Одна птичка другую спрашивает: «Что у тебя вместо котомки?» – «Собачьи кости вместо котомки».– «Что у тебя вместо котла?» – «Собачья голова. Собачья челюсть мне служит посохом, собачье ребро крючком, шкура с головы собаки – постелью, собачьи кишки – ремнями». Понял, нюча?» Как тут не понять! Выходит, без собачки тунгусу нет жизни. А бывший предтузрика Петров, как его я прозвал, царь Ольский, князь Тауйский, прннц Ямский...
– Читал об этом,– бесцеремонно прервал Билибин,– в «Тихоокеанской звезде», заметку за подписью «Олец».
– Напечатали! А газетка у вас не сохранилась?
– Нет.
– Жаль! Селькор Олец – это ваш покорный слуга. Так вот к чему все это я писал и говорю. Нужен постепенный подход, без левацких загибов. Мы тунгусам взамен собачек автомобиль обещаем, а он, «и ныне дикий тунгус», Пушкина еще не читал и этот самый автомобиль только вчера, да и то в кинофильме увидел. Ох, и смеху было! «Кван-Фо», но моей заявке, завез нам киноаппарат. Натянул я в нардоме, бывшей церкви, собственную простынь и сам начал крутить. Я ведь тут на все руки от скуки. Так вот, кручу я аппарат, показываю море, как наше Охотское. Сидят, смотрят. Но вдруг с экрана вроде бы на зрителя поехал автомобиль с зажженными фарами... И все мои зрители – грох на пол! «Злой дух! Злой дух!» – кричат. Я им, конечно, поясняю: никаких духов нет, а это как есть автомобиль, нарта на колесах. Но разве сразу поймут! Они и колес-то не видели. А после про кинофильм так говорили: «Это – самый большой шаман! Море унес. Злого духа таскал». Вот она, дикость-то какая в собачьем царстве! А вот и наш Дом Советов. Все, как в Москве, только крыша пониже да грязь пожиже. Заходите и головы наклоните.
Вошли. Большая комната с голландской печью. На печной чугунной дверце отлита охотничья сценка. Вдоль стен – широкие лавки. Письменный стол накрыт кумачом. Пишущая машинка «Ундервуд». С невысокого закопченного потолка свисает семилинейная керосиновая лампа под жестяным абажуром.
– При старом режиме хозяйничал здесь зауряд-хорунжий Тюшев, он и сейчас жив, приходит и при дверях как на часах стоит. А теперь полномочные хозяева – мы: я, многодолжностной, да вот Глущенко, единственный милиционер на весь район. А вы, значит, экспедиция. Чтой-то сей год облюбовали Олу экспедиции. Нарком пути сидит без пути, а теперь вы...
...Из тузрика Билибин, Корнеев, Седалищев вышли и тяжко вздохнули. Сидели битых два часа. О всех ольчанах узнали всю подноготную, а о деле, о транспорте – ни до чего не договорились.
Нет, догоры, надеяться на них – только терять время. Завтра барда к якутам! В Гадлю!
Позже, десять лет спустя, в своих мемуарах «К истории колымских приисков» Билибин писал:
«Высадившись в Оле, мы тотчас столкнулись с острым недостатком транспорта... Положение усугублялось тем, что в Оле в это время находились две артели охотских старателей, привлеченных слухами о колымском золоте и всеми силами рвавшихся на Колыму. А там, в устье кл. Безымянного, уже вела хищнические работы одна небольшая артель. Золото они никуда не сдавали, продовольствием снабжались через ольских жителей, расплачиваясь с ними золотом. А от этих последних золото уплывало командам японских и китайских пароходов, которые тогда фрахтовались Совторгфлотом для снабжения Охотского побережья и довольно часто заходили в Олу.
Таким образом, наше прибытие в Олу и стремление попасть на Колыму очень не улыбалось ни старателям, ни местным жителям. Они рассматривали нас как государственную организацию, которая хочет установить над ними контроль и тем лишить их значительной части доходов. РИК принял их сторону и начал чинить нам всевозможные препятствия в работе...»
КРАСНЫЕ ЯКУТЫ И ЖЕЛЕЗНЫЙ СТАРИК
К якутам в Гадлю с подарками пошли делегацией: сам Билибин, Раковский, Бертин, Седалищев, Казанли...
Первой на пути, за речкой Угликан, в трех верстах от Олы, средь густого ивняка стояла юрта Свинобоева. В нее можно было не заходить. Иннокентий Свинобоев жил бедняком, имел всего один потяг собак, извозом не занимался, лишь в прошлом году обзавелся лошаком.
Но Юрий Александрович решил засвидетельствовать почтение всем гадлинским якутам, а Свинобоевой Иулите – особое. Сам Иннокентий был знаменит только тем, что прозывали его Нючекан, то есть «русскенький», так как родился от заезжего рыжего попа и был лицом светел, волосом рус. Но его жена, тунгуска Иулита, худощавая, чернявая, лет на десять моложе мужа, слыла бой-бабой и как член Гадлинского сельсовета могла посодействовать экспедиции.
Про нее Белоклювов геологам сказывал: в день выборов в Советы зашел к Свинобоевым в гости Конон Прудецкий, якут с придурью, и стал насмехаться: чего, мол, бабе делать в Совете, какой из нее член... И тут Иулита Андреевна показала, какой она член! Схватила березовый остол, которым нерадивых собак наказывают, да и огрела Конона, как собаку. И сама же на собрании всего сельского общества об этом заявление сделала, а в стенгазете «Голос тайги» заметка была под заголовком «Туземка, помни свои права!» с карикатурой на Конона. Со дня выборов Конон по угликанокому мостику не ходит, где-то брод нашел.
Иулиты и Кеши дома не оказалось, ушли на рыбалку. Лишь их дочка Вера, черноглазая, длинноногая, вся в мать, что-то наставительно внушала собакам. Они, заслышав людей, рванули было, но девочка скомандовала:
– Той! Той! Урок не кончен.
И собаки присмирели.
– Ты – кто? – спросил Билибин девочку.
– Учитель.
– И кого же ты учишь?
– Собачек. Маму и папу выучила, а теперь их учу считать. Ликбез.
– И научила?
– Научила. До двух считают.
– Ну, а нас научишь? Мы за науку конфетки дадим,– и Юрий Александрович протянул жестяную коробку монпансье.– Моссельпромовские! Московские!
Девочка взяла было коробку, но почему-то насторожилась:
– А зачем вас учить? Разве вы темные?
– Темные. Вот не знаем, как до Колымы добраться, где лошадей найти,– Юрий Александрович раскрыл коробку.
Леденцы засверкали, как стеклянные бусы, и так же заблестели девчоночьи глазенки:
– В Гадле кони есть! Александров – богатый саха. У него десять коней, сорок оленей... Пойдемте в Гадлю! Там и школа наша, и учитель Петр Каллистратович! А он все знает!
– Вот и договорились! Бери конфеты, садись на своего стригунка и веди нас в Гадлю.
От Угликана до Гадли – верст пять. Шли среди душистых тополей, высоких и прямых чозений, ивовых и ольховых зарослей, по хорошо утоптанной дороге. Беспокоили лишь комары.
Впереди ехала на гнедом стригунке Вера. Она то и дело оборачивалась и неустанно просвещала геологов. Про Угликан сказала: речка местами не замерзает, и вон там утка держалась всю прошлую зиму. Увидела на выпасе коров, поведала о холмогорском бычке, которого крестком завез, чтоб улучшать якутских малодойных коровок. Переходили еще одну речку – пояснила: по-тунгусски – Гадля, по-русски – нерестилище, сюда на нерест кета идет.
– А ты и тунгусский знаешь?
– Знаю. С мамой говорю по-тунгусски, с папой – по-якутски, а с вами по-русски.
– Полиглот! – восхитился Билибин.
– Зачем дразнишься?
– Нет, напротив! Полиглот – это тот, кто знает много языков. Слово греческое, а ты греческого не знаешь и зря обижаешься.
– Узнаю. Поеду в Москву, где такие конфетки делают, выучусь на учителя и все буду знать. А вон и наша школа! – указала Вера на взгорок, где среди старых замшелых лиственниц золотился свеженький сруб под двумя крышами, с двумя коньками и кумачовыми флажками на каждом коньке.– Наша школа имени товарища Ульянова-Ленина! А вон там Александровы живут. У хотона Устюшка стоит. Она глухая и немая, с ней вы ни о чем не договоритесь, только я ее понимаю.– Вера подхлестнула своего стригунка, подскакала к Устюшке, длинной и нескладной девице, и вернувшись через некоторое время, доложила: – Сам Александров на рыбалке, старшие сыновья в горы ушли, Паша, Ванятка и Гавря в школе, вон они бегут. А вон и Петр Каллистратович!
Ребятишки скатились со взгорья, как шарики, облепили Веру, она стала оделять их леденцами и всем объявляла, что поедет учиться в Москву и оттуда привезет конфет еще больше. По глазенкам якутят, зыркавших на приезжих, Билибин понял, что нм нужно, и достал еще три коробки монпансье.
Подошел учитель. Ему лет тридцать, он, как большинство якутов, невысок, черноволос, черты его лица утонченны той интеллигентностью, которая обычно отпечатывается и на лицах русских сельских учителей. И одет он, как русские учителя: белая косоворотка навыпуск с наборным ремешком, пиджак, накинутый на плечи.
Об учителе Федотове зампредтузрика тоже кое-что рассказывал. Петр Каллистратович из крестьян, закончил духовное училище, затем учительскую семинарию. В Гадле обосновался недавно, обзавелся семьей. Секретарь сельсовета, выступает с докладами, стихи пишет для праздничных стенгазет, да и сама-то школа в Гадле – его детище.
Не успели войти в двери, над которыми пламенело: «Гадлинская единая трудовая школа 1-й ступени имени В. И. Ульянова (Ленина)», как учитель, словно мать о своем новорожденном, начал:
– Эти сени сложены из амбарного сруба Медова. Есть такой замечательный якут! Для постройки школы сельсовет распределил, кому сколько заготовить бревен, плах, корья. Старик Медов все, что от него требовалось, сделал, да еще подарил новенький сруб. Сам-то неграмотный, но всех детей – и своих и приемных – наладил в школу. О пользе грамотности объяснять никому не приходится. За школу проголосовали в годовщину смерти Владимира Ильича и выразили полную уверенность, что школа и ее культурно-просветительская ячейка в лице ликбеза станет руководительницей и застрельщицей культурного и хозяйственного возрождения местных якутов! А вот и портрет товарища Ленина! Сам срисовал с газеты... Петров о школе много заботился. Ведь что скрывать, кое-кто из краевых руководителей считал нашу школу незаконнорожденной: на содержание не ставили и даже зарплату мне не платили. Петров добился узаконения... А вот здесь моя келья. Проходите почаевничаем. Я уже слышал – у нас торбасное радио работает неплохо,– что прибыли вы искать золото, если не секрет...
– Надо бы держать в секрете, но от торбасного радио, видимо, не скроешь,– усмехнулся Билибин.
– Великолепно! Найдете золото – край перестанет быть диким, пробудится от вековой спячки! Возродится наш Ольско-Колымский тракт! Больше тридцати лет гадлинские якуты им кормились: одни делали нарты, другие резали ременную упряжь, третьи обшивали уезжающих, четвертые нанимались в конюхи, пятые кредитовались у купцов и их подрядчиков – всем было что заработать и поесть. А в последние годы тракт захирел. Начали на мясо переводить и ездовых оленей и коней. А я думаю, что извоз, хотя и отхожий промысел, благосостоянию не повредит. Нужно организовать артель «Красный якут», чтоб не так, как было: одни наживались, другие проживались... Я предлагал нашему кресткому, но кое-кто даже в тузрике против, Белоклювов говорит, что создавать надо колхоз... Конечно, нужно и то и другое, но не в одногодье...
– Верно! – горячо подхватил Билибин.– Сегодня нужна транспортная артель! И проводники нужны, чтоб повели нас на Колыму! Есть такие?
– Есть. Старик Кылланах – Николай Давыдович Дмитриев, Макар Захарович Медов, Александровы... Правда, сам-то Александров, Михаил Петрович, прижимист. Расхождения у меня с ним, говорит: учить якутскому языку незачем, надо только русскому.
– Странно...
– Странного ничего нет. Простой расчет. Чтоб его сыновьям вести торговлю, достаточно писать-считать по-русски, а на якутский нечего тратить время. А как же быть с культурным возрождением якутов? Со стариком Александровым в одни нарты не впряжешься. Кылланах, Медов – это настоящие красные якуты...
– Они на месте? Так проведите нас, пожалуйста, к красным якутам!
Кылланах жил в урочище Нух, в трех верстах от Гадли. По дороге Петр Каллистратович говорил о нем:
– Прозвище у него такое. Перевести затрудняюсь, очень искаженное слово – не то железный, не то беззубый. Подходит к нему и то и другое. Сам он сказывал, Кылланахом его прозвали после того, как жандарм ему зубы выбил. Было это, когда он, еще совсем молодой, вез двух жандармов и одного ссыльного в Вилюйский острог. Есть предположение, что самого Николая Гавриловича Чернышевского: по времени совпадает и внешность со слов вроде та же. Так вот, когда вез он их на Вилюй, то не поладил с жандармом, а тот, как все царские держиморды,– в зубы. А сюда Дмитриев прибыл тридцать пять лет назад вместе с Медовым, Александровым и другими... Было ему уже тогда лет под семьдесят, но крепкий старик, железный. Шестьдесят годов с гаком бобылем жил, на семидесятом женился на девушке-сиротке Анне, которую сам и воспитал, и детей нарожала она ему кучу. Старший сын сейчас у нас председателем сельсовета, младшие, Иван и Алексей, в комсомол записались, у меня в школе учатся, а старик и ныне крепок, хотя уже за сто лет перевалило. В прошлом году Трофима Аммосова, здорового мужика наших лет, за непочтение к старшим так посохом проучил, что тот милиционеру жаловался, а Глущенко протокол на столетнего настрочил... Историки не поверят в такое! А вот он и сам.
Кылланах встретил гостей у входа в юрту. Был он одет по-зимнему: голова по-бабьи повязана платком, поверх платка малахай, оленья доха спадала отрепьями, на ноrax – разбитые торбаса. Был он высок и не казался согбенным, несмотря на то что опирался на палку.
Знакомство началось с обычного «капсе»:
– Капсе, догор Кылланах!
– Эн капсе, догоры...
Но капсе-новостями обмениваться не торопились, пока капсе означало лишь приветствие. Прошли в юрту, душную, сумрачную. Тут началось знакомство со всеми чадами Кылланаха. Представлял их Петр Каллистратович, а все пришельцы каждому, и взрослому и малолетке, пожимали руки, каждого называли по имени, взрослых и по отчеству, каждого, начиная с самого Кылланаха и кончая трехгодовалой девчушкой, одаривали: одному – кирпич чаю, другому – коробку конфет, третьей шелковую ленточку... Круглолицую, моложавую, лет под шестьдесят, хозяйку Анну буквально осчастливили серебряными полтинниками, она тут же стала прикладывать их к плечам и груди.
Митя Казанли взглянул на Анну, потом на ее трехлетнюю дочку и в упор спросил Кылланаха:
– Твоя?
– Баар.
– Врешь,– Митя пошевелил пальцами между стариком и его хозяйкой.– Не может быть баар.
Анна прыснула. Кылланах насупился.
Билибин одернул Митю:
– Не порть дипломатию, посохом огреет... Николай Давыдович – батыр саха! – Юрию Александровичу захотелось чем-то особенным задобрить старика и, когда увидел в его корявой жмени костяную, до желтизны обкуренную трубку, радостно воскликнул:
– Куришь, батыр саха! А мы специально для тебя табачок привезли! Лучший в мире! – быстро вытащил из мешка с подарками пачку «Золотого руна».– Кури на здоровье!
Кылланах отвернул блестящую фольгу, понюхал табак и от восхищения защелкал языком:
– Цо-цо... Черкасский?
– Нет, не черкасский и не турецкий, дорогой догор! Московской фабрики «Ява»!
– «Ява»! Хорош «Ява»!
Все, кто курил и не курил, закрутили самокрутки, и в сумрачной юрте совсем стемнело,
Кылланах пригласил Билибина на почетное место, сам сел рядом и всем предложил рассаживаться кто куда пожелает.
Началось чаепитие и обмен капсе-новостями. Разговор из уважения к хозяину по-якутски вели Седалищев и Раковский. Обменивались капсе не спеша и так же не спеша пили чай. Выпили по кружке, по другой, добрались до десятой – всех пот прошиб, но капсе не кончились. Гости не понимали по-якутски, но старательно поддакивали.
Наконец Юрий Александрович не вытерпел и прямо спросил:
– Батыр саха, догор Кылланах, в горы поведешь? На Колыму?
Старик бодро вскочил, шустро прошелся по ровному земляному полу до двери, вернулся обратно медленно и тяжело:
– Стар я, однако, сопсем стар, нога стар, глаз стар. В гору Дапыдка ходит, моя давно не ходит... Дапыдка туда-сюда и тебя – туда.
– Нам нельзя ждать, пока твой Давыдка из тайги вернется. Нам надо туда сегодня же. Садись на коня и веди...
– Стар я... И конь суох. Но ничего-ничего. Макарка пойдет! Сопсем молодой Макарка! Много-много ходил, хорошо ходил. Пойдем к Макарка!
Из Нуха отправились к Макарке, в Хопкэчан. Впереди ковылял Кылланах. Солнце припекало изрядно, комары жарили, а он шел с головы до ног в мехах и шерсти, похожий на медведя, и подрагивал плечами:
– Зябко, однако, сопсем зябко стало... А табак хорош! «Ява»!
Шли верст пять густым стройным чозеником, по едва приметной тропе. На перекате перебрались на тот берег Олы, и там за ивовыми зарослями у подножия невысокой сопки – потому и Хопкэчан зовется – увидели такую же, как у Кылланаха, юрту. Когда тридцать пять лет назад ставили эту юрту, река была далеко, а теперь, подмывая берег, подкралась совсем близко.