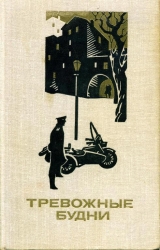
Текст книги "Тревожные будни"
Автор книги: Георгий Вайнер
Соавторы: Аркадий Вайнер,Эдуард Хруцкий,Виль Липатов,Анатолий Безуглов,Николай Коротеев,Алексей Ефимов,Александр Сгибнев,Юрий Кларов,Иван Родыгин,Григорий Новиков
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 31 страниц)
Стакан повис между ветками.
Майор осторожно завернул его в платок и спрятал в свою полевую сумку...
* * *
Когда понятые ушли, майор Головко остался в домике Остапенко. Он распахнул створки окна, но задернул цветастые ситцевые занавески и удобно устроился в старом кресле, стоявшем около окна.
«Наверное, здесь, в этом кресле, любил сидеть хозяин, этот самый Петр Остапенко, – подумал майор. И удивился: – А почему я говорю в прошедшем времени – «любил сидеть»? Не любил, а любит! Думается мне, что скоро ты, Петр Остапенко, вновь вернешься в свой домик и сядешь в это кресло. Только вот друга твоего уже не вернуть...»
И опять Головко ощутил яростный гнев против того, еще неизвестного, кто по каким-то причинам лишил лесника Свиридова самого ценного, что он имел, – жизни.
Расслабив мускулы, откинув голову и закрыв глаза, Головко еще раз стал продумывать и взвешивать соотношение всех известных и неизвестных обстоятельств дела.
При расследовании преступлений он часто применял такое вот обдумывание всех версий и обстоятельств непосредственно в том месте, где произошло преступление. Таким образом перед ним была и вся обстановка, и детали дела, и та неуловимая атмосфера преступления, которая часто сама как-то направляла его мысли в нужное направление.
После того как нашли в кустах под окном третий стакан, майор Головко почти не сомневался в том, что убийство совершено третьим, пока неизвестным человеком, ловко подтасовавшим улики против Петра Остапенко. Но кто он, этот третий? Каковы мотивы преступления?
Пожилая учительница, привлеченная в качестве понятой, жила по соседству и хорошо знала и Остапенко, и Свиридова. Она подтвердила, что Петр Иванович Остапенко – добродушный, общительный человек, друживший со всеми ребятами поселка. Свиридов был молчаливым и замкнутым. Но когда оба друга-лесника усаживались выпивать, они никогда никого не приглашали к себе. Они пили вдвоем. И, как рассказывал как-то соседке сам Остапенко, «вспоминали молодость и тех, кто в душе живет, кого сожгли гитлеровские гады». Опьянев, друзья обычно запевали одну и ту же старую белорусскую песню о перепелочке....
Конечно, при этих воспоминаниях прошлого, известного только двоим, третий был бы лишним...
И все же кто-то третий был за столом! Был и постарался скрыть свое присутствие...
Головко представил себе, как два немолодых человека сидят за этим столом, пьют водку с медом и, захмелев, начинают вспоминать белорусские пущи, своих любимых жен, ребят, погибших в огне. Сладкие и горестные воспоминания жгут сердца друзей. Но отказаться от них, выбросить их из памяти нельзя, потому что они были отражением простого человеческого счастья.
Кто же был бы не лишним при этих воспоминаниях? Наверное, только тот, кто сам помнит и погибших жен, и детей лесников, и лесные белорусские дороги, и деревни, в которых проходила молодость Остапенко и Свиридова... Да, это так! Только так! Есть ли такой человек в лесхозе? Вернее, появился ли он здесь? Ведь раньше лесники пили и ворошили свои воспоминания всегда только вдвоем. Значит, третий появился совсем недавно!
Итак, за столом было трое...
Но почему ушел домой Свиридов? Где был хозяин дома – Остапенко, когда третий снял со стены его ружье, достал патрон, вложил его и выстрелил?
«Интересно, осмотрел ли лейтенант Захаров ручку на окне? На ней могли быть следы пальцев убийцы... Впрочем, убийца, видать, – опытный преступник. Он принял меры и к тому, чтобы на ружье не осталось никаких отпечатков пальцев, кроме хозяйских...»
Майор, открыл глаза и внимательно посмотрел на занавеску. Ситец был совсем новый, еще ни разу не стиранный, и поэтому сразу можно было заметить характерные смятины материи в том месте, где через занавеску брались за ручку окна...
«Да, этого, третьего, голыми руками, видать, не возьмешь, – подумал Головко. – Но каковы мотивы преступления? Темно, как ночью в густом лесу!»
Быстрым, решительным движением майор встал с кресла, закрыл окно и вышел из домика, тщательно заперев двери.
Через пять минут он уже сидел в отделе кадров лесхоза, единственным работником которого был парторг Николай Николаевич – высокий худой человек с седыми висками и внимательными, спокойными глазами.
– Здравствуй, начальник! Рад тебя видеть! – улыбнулся он, протягивая руку майору Головко. И поморщился: – Ну и хватка у тебя! Медвежья! – Он потер руку.
– Прости, Николай Николаевич! – смутился майор. – Профессия наша силы требует...
– Понимаю! Садись! – Николай Николаевич включил в розетку электрический чайник. – Чай будем пить... Хорошо, брат, что сам решил заняться этим делом. А то я боялся, что твой Шерлок Холмс дров наломает. Пытался я с ним вчера поговорить – куда там! На лице таинственность и ответственность отражаются, в голосе важность...
– Молодой он еще, Николай Николаевич! А молодость часто человека пошатывает...
– То-то что пошатывает! А Петр Иванович наш из-за этих пошатываний за решетку угодил. И в поселке недобрые слухи идут, что милиция невиновного посадила. И бабы наши сегодня утром передачу Остапенко понесли. Уважают у нас этого человека, за доброту, за сердечность уважают... А вы его за решетку!
– Ну, к этому имеются серьезные основания, Николай Николаевич! – возразил Головко. – Улики, как говорится, железные! И все против Остапенко...
– Ох и люди вы, милицейские! – нахмурившись, воскликнул Николай Николаевич. – Для вас главную роль играет не сам человек, не душа его, а разные там анализы и отпечатки! Значит, и ты, начальник, отпечатку веришь, а людям – нет?!
– Не горячись, парторг! – усмехнулся Головко. – Чайник выключи, закипел уже! – Чуть прищурившись, он взглянул на Николая Николаевича. – Анализам и отпечаткам надо верить. Сказать тебе по правде, я почти уверен, что все эти улики подтасованы против Остапенко, что он не убийца...
Рука парторга с заварочным чайником замерла над стаканом. Смешно полураскрыв рот, Николай Николаевич ошалело смотрел на майора.
– Так Кто же убийца?!
– Пока еще не знаю! Хочу, чтобы ты мне помог найти негодяя... А пока давай чаю!
– Пей, дорогой ты мой! Пей сколько хочешь! – воскликнул парторг. – Вот, бери варенье. Вишневое! Жена варила... А помогать я тебе охотно соглашаюсь. В чем хочешь. Даже собакой розыскной, если надо, стану!
– Не требуется! – весело рассмеялся майор. – Собаки у нас свои имеются... – Он стал серьезным. – А вот скажи, Николай Николаевич, земляки Остапенко и Свиридова у вас в лесхозе есть?
– Земляки? – удивился парторг.
– Ну да! Из Белоруссии... Ведь Остапенко и Свиридов – белорусы...
– Кто у нас белорусы? – сдвинул брови Николай Николаевич. – Горбаткин, звеньевой, белорус, из-под Гомеля....
– Сколько ему лет?
– Молодой совсем... Только что женился...
– Так! – Майор кивнул головой. – А еще кто?
– Лесовод наш, Зенкевич, в Белоруссии, на Полесье, работал...
– Сколько лет Зенкевичу?
– Ну, лет тридцать пять...
– А еще есть люди из Белоруссии?
– Еще?! – Николай Николаевич покачал головой. – Еще вроде нет... – И вдруг, вспомнив кого-то, вскинул голову: – Стой! Есть еще один белорус! Канцевич Семен Федорович. Три дня назад по рекомендации Петра Ивановича Остапенко принят на должность звеньевого лесопитомника... Остапенко и Канцевич – друзья по партизанскому отряду...
«Вот он! – подумал Головко. – Похоже, что Канцевич и есть этот третий... Недавно прибыл... Знает Остапенко и, наверное, Свиридова давно...»
Стараясь не показать острого чувства заинтересованности, майор отхлебнул из чашки и с безразличным видом спросил:
– Личное дело на него имеется?
– Вот, пожалуйста! – Парторг перебрал несколько тоненьких папок, лежавших на краю стола. – Вот дело Канцевича...
Майор Головко раскрыл папку. С фотографии на него смотрело благообразное немолодое лицо. В листке по учету кадров значилось, что с 1941 по 1943 год Канцевич находился в партизанском отряде, затем угодил в фашистский концлагерь, откуда был освобожден Советской Армией.
«Неужели это тот самый, третий?» – подумал майор, вглядываясь в ничем не примечательное, немного оплывшее от возраста лицо Канцевича. И спросил:
– Где он сейчас?
– На работе... В лесопитомнике.
– А живет где?
– Рядом, в общежитии... – Николай Николаевич покачал головой. – Только думается мне, что опять идете вы по ложному следу. Канцевич солидный человек, в прошлом партизан, друг Петра Ивановича. И внешность у него солидная, располагающая...
Майор Головко невесело усмехнулся:
– Эх, товарищ парторг! Обычно так и бывает, что у самых заядлых жуликов самая почтенная внешность. Иначе им нельзя... То-то здорово было бы, если бы можно было по внешности преступника распознавать! Пойдем-ка по общежитию пройдемся. Только так, чтобы никто не догадался, в какую комнату нам нужно. В какой, кстати, этот самый Канцевич проживает?
– А черт его знает!.. Попросим коменданта, чтобы он называл нам жильцов...
Из общежития майор Головко вышел со стаканом, взятым из комнаты Канцевича и имевшим явные отпечатки его пальцев. Взамен был оставлен другой, похожий стакан.
– Вот никогда бы не подумал, что милиция стаканы таскает! – рассмеялся Николай Николаевич. – Теперь хоть знать будем, с кого за пропавшие стаканы спрашивать!
– Ладно! Представляй счет – оплачу! – ответно засмеялся майор. – А личное дело этого самого Канцевича я у тебя временно заберу. И прошу сделать так, чтобы никто и не подозревал, что я интересовался Канцевичем. Скажешь коменданту общежития, что милиция соблюдением паспортного режима интересуется...
* * *
Майор Головко сразу даже не узнал Остапенко, настолько этот серый, сгорбившийся человек не походил на краснощекого богатыря. Глаза лесника безжизненно и безразлично смотрели в пол. Он даже не поднял взгляда, когда майор вошел в комнату и лейтенант Захаров вскочил со своего места за столом. Только руки, крупные, сильные руки рабочего человека не хотели, не могли поддаваться апатии. Они все время двигались, эти тяжелые руки, ощупывая оцепеневшее тело инстинктивными, шарящими движениями.
– Товарищ майор! – четко начал докладывать лейтенант Захаров. – Заканчиваю допрос обвиняемого Остапенко. Он показывает...
– Ладно! Не надо! – остановил его майор. – Дайте протокол допроса...
Усевшись сбоку стола на расшатанный стул, майор принялся читать протокол. Запись показаний была сделана толково и грамотно. Впрочем, все ответы обвиняемого можно было свести к короткой формулировке:
«Был сильно пьян и ничего не помню. Не помню, ссорился ли со Свиридовым, спорил ли с ним... Не помню, как взял ружье и через окно выстрелил в соседа...»
Читая протокол, Головко время от времени бросал быстрые взгляды на Остапенко. А тот сидел все так же неподвижно, уставившись в пол, и только руки продолжали все те же суматошные движения...
– Так я все же не понимаю, гражданин Остапенко, – проговорил майор, помахивая протоколом допроса, – вы или не вы стреляли в Свиридова?
Лесник вскинул на майора пустой, усталый взгляд:
– Да нешто я сам знаю, товарищ начальник...
– Гражданин начальник! – поправил лейтенант Захаров. – Теперь для вас...
Лейтенант смолк остановленный строгим взглядом майора.
– Так стреляли вы или нет?
Могучие плечи Остапенко напряглись и опали.
– Да разве ж знаю я, товарищ майор! – дрожащим голосом проговорил лесник. – Ничегошеньки я не помню. Пьян был, сильно пьян... Пришел в себя, когда меня разбудили. Лежу на кровати, голова разламывается. А рядом ружье лежит... Вот товарищ лейтенант доказал, что вроде я стрелял. Зелье это проклятое! Через него, выходит, я друга лучшего убил... Да лучше бы я самого себя!.. Легче бы было!..
Остапенко закрыл лицо широкими ладонями, и плечи его передернулись от рыданий, похожих на стоны.
– Дайте воды, лейтенант Захаров! – негромко сказал майор. И когда лесник немного успокоился, спросил: – А кто третий был с вами за столом?
– Третий?! – удивленно спросил Остапенко. – Не было никого третьего с нами, товарищ майор!
– А Канцевич? Разве Канцевич с вами не выпивал?
Лесник растерянно провел ладонью по лицу и недоумевающе посмотрел на майора:
– Канцевич?! Был у меня Канцевич! Мы с ним вдвоем пили. Ивана Свиридова в ту пору у меня не было... Иван за медовухой к деду Тихону ходил...
– Значит, вы пили вдвоем с Канцевичем?
– Ну да! Впрочем, нет... Сперва мы с Иваном купили водки, пришли ко мне. Ну, выпили. И вдруг видим, нет у нас медовухи. А мы с Иваном, как привыкли еще с молодости, водку с медом всегда мешали. Ну, Иван пошел за медом к Тихону – есть у нас в поселке такой пенсионер, пасечник, пчелами занимается. Иван ушел. А вскорости мой старый партизанский дружок Канцевич припожаловал. Тоже литр водки принес... «Надо, – говорит, – выпить!» На работу он поступил в наш лесхоз...
– Откуда вы знаете Канцевича?
– Да как же мне его не знать? Он же в нашем партизанском отряде был. Из одного котелка с ним кулеш хлебали. А в мае тысяча девятьсот сорок третьего года навалились на нас каратели. Обложили со всех сторон, как волки сохатых. Почитай, половина отряда тогда полегла или в плен попала, И Канцевич, раненный, в плен угодил. До прихода нашей армии в концлагере фашистском под Осиповичами горе мыкал...
– А Иван Свиридов тоже с вами в отряде был?
– Иван Свиридов? Нет! Иван в соседнем отряде, у командира Цыганкова, в разведчиках ходил. А знаю я его с детства. Вместе парубковали, на задушевных подругах оженились... И вот теперь...
Остапенко снова прикрыл глаза ладонью.
– Подождите, Остапенко! Возьмите себя в руки! – строго сказал Головко. – Так вы говорите, что Свиридов был партизанским разведчиком?
– Ну да! Пока к фашистам в лапы не угодил. Несколько дней мучили его проклятые гады – гвозди под ногти загоняли, порох на спине жгли... Когда наш отряд налет на гестапо сделал и всех арестованных освободил, так Иван совсем плохой был. Идти не мог. Я его на руках в лес вынес. Два месяца в нашем партизанском госпитале отлеживался...
– Ясно! – кивнул головой майор. – Ну что же, вернемся теперь, Петр Иванович, опять к нашим дням. Когда и как вы вновь встретились с Канцевичем?
– Да на прошлой неделе... Зашел я в конторку, смотрю, стоит в коридоре вроде знакомый человек с чемоданчиком. Увидел меня – в лице переменился, обнимать стал. Партизанская боевая дружба, она ведь никогда не забудется. Отвел я его к завкадрами, к Николаю Николаевичу.
– А Свиридову вы говорили о Канцевиче?
– В тот же вечер сообщил. Только Иван Канцевича не знал... И плечами пожал, когда я ему про земляка сообщил...
– Так! – Головко кивнул головой. – Теперь, Петр Иванович, постарайтесь припомнить, что произошло у вас в доме в день убийства...
– Да ничего особенного не произошло! – снова усталым голосом, понурив голову, ответил Остапенко.
– А все же... Припомните!
– Ладно, товарищ начальник... – Остапенко тяжело вздохнул. – Только к чему все это, ежели виноват я...
– Так, значит, Свиридов ушел за медом. А к вам в дом пришел Канцевич, – напомнил майор Головко. – Что было дальше?
– Дальше?! Дальше раскупорили мы с Канцевичем его бутылку, обмыли водкой банку от меда и выпили по стакану. Ну, я почувствовал, что здорово пьяный – ведь до этого мы еще с Иваном пили... Тут входит Иван, несет мед. Я взял у него банку, налил мед в стаканы, добавил водку и говорю: «Выпьем за нашу Беларусь, за пущи и поля ее!» С ходу, значит, мы еще по стакану хватили! А когда пустые стаканы на стол поставили, Иван Свиридов вгляделся в Канцевича да как стукнет кулаком по столу. И начал кричать, ругаться: «Ах ты, гад, фашистский палач!» А Канцевич вежливо ему отвечает: «Вы меня с кем-то путаете». А Иван свое: «Да я тебя, Фокин, где хочешь узнаю! Как мне тебя забыть, если ты порох у меня на спине жег!» Канцевич опять ему вежливо так, спокойно: «Я не Фокин, а Канцевич. Вот и Петр Иванович меня знает. А вы пьяны сильно, вот вам и кажется семеро в санках...» Иван чуть в драку на Канцевича не полез. Пришлось мне его придержать. Канцевич тогда встал и говорит: «Я пока уйду, Петр Иванович. Завтра, когда ваш друг протрезвится, он сам признает, что ошибался...» И ушел. Иван долго еще кипятился, все доказывал, что это был не Канцевич, а гестаповский палач Фокин. Ну а потом пили мы. Много пили. И ничегошеньки я больше не помню...
Лесник снова бессильно уронил большую седую голову и умолк. И опять во всей его позе отразилась такая боль, такое раскаяние, что Головко только вздохнул.
– Проводите подследственного, лейтенант Захаров! – приказал он.
Когда лейтенант вернулся, майор с кем-то говорил по телефону. Захаров сразу догадался, что разговор идет с прокурором. Майор настаивал, что по делу об убийстве Свиридова необходимы серьезные розыскные действия. Наконец майор кивнул головой и повесил трубку.
– Товарищ майор! – взволнованно заговорил лейтенант Захаров. – Я считаю дело об убийстве лесника Свиридова законченным. Совершенно ясно, что обвиняемый Остапенко в состоянии опьянения убил своего друга. И тот разговор, который вы только что вели с обвиняемым, только подтверждает мою версию. Вы обратили внимание, что сам Остапенко проговорился о том, что у него со Свиридовым вышел горячий спор из-за этого самого Канцевича? Таким образом, и обстоятельства дела, и результаты технических исследований, и даже полупризнания самого обвиняемого свидетельствуют о том, что он и есть убийца...
Майор Головко спокойно слушал лейтенанта. Захаров ожидал, что начальник рассердится, прикрикнет на него. Но тот вдруг улыбнулся своей скупой, строгой улыбкой и сказал:
– Ну-ка садись, лейтенант! Садись вот сюда, рядом со мною!
Удивленный Захаров, все еще разгоряченный и взволнованный, присел на краешек стула.
– Слушай меня! – снова заговорил майор. – Ты знаешь – наши законы беспощадны к убийцам. В подобных этому случаях убийства обычно бывает один приговор – расстрел. Так вот, как бы ты себя почувствовал, если вдруг узнал, что по твоей вине к расстрелу приговорен невиновный?
– Я не понимаю вас, товарищ майор! Улики доказывают...
– Улики, лейтенант, всегда безлики и бесчувственны. Они могут быть использованы и для сокрытия действительного виновника преступления. А вот мы обязаны уметь взвешивать эти улики. Мы должны обращаться не только к уликам, но и к разуму и, если хочешь знать, к чувствам... Мы не можем допускать ошибок, потому что любая наша ошибка – это трагедия, трагедия для общества и отдельных граждан... Такова наша ответственность. Вот послушай теперь мою версию и доказательства...
В тот же вечер лейтенант Захаров выехал в Белоруссию.
А в комнату звеньевого лесопитомника Семена Федоровича Канцевича был подселен другой жилец – дюжий, добродушный хлопец, зачисленный механиком на автобазу лесхоза...
* * *
Лейтенант Захаров вернулся в станицу через пять дней и прямо с автобуса пришел в райотдел. В дежурной комнате опять был только сержант Нагнибеда.
– Вернулся, Владимир Сергеевич?! – радостно приветствовал он своего квартиранта. – Домой заходил? Завтракал?
– Нет, Семен Петрович, я прямо с автобуса, – сдержанно ответил лейтенант.
– Так сходил бы позавтракал...
– Не хочется, Семен Петрович...
Сержант Нагнибеда встревожился: лейтенант Захаров выглядел суровее и старше того парня, который всего пять дней назад уезжал в командировку.
– Случилось что-нибудь, Владимир Сергеевич?
– Нет, ничего особенного не случилось, Семен Петрович... – Лейтенант вздохнул и сел на скамейку. – Случилось только одно: лейтенант милиции оказался шляпой...
– Да что вы говорите, Владимир Сергеевич?! Да зачем же так? Рассказывайте, что у вас случилось? – Сержант Нагнибеда присел рядом с Захаровым.
– Потом, Семен Петрович! – устало ответил лейтенант. – Потом! Сейчас мне следует подготовиться к серьезному разговору с майором...
– Ну ладно-ладно! – согласился сержант.
Лейтенант Захаров откинул голову и утомленно прикрыл веками глаза. В памяти всплывало все пережитое за эти пять дней...
...Доводы майора Головко тогда не убедили его. Собственная версия казалась стройной и верной. Следы на столе? Да мало ли откуда и зачем появился третий след! Может быть, его оставил тот же Канцевич. Выброшенный стакан? Его мог выкинуть Иван Свиридов, охваченный пьяной злобой против Канцевича...
До Минска лейтенант Захаров летел на самолете, а оттуда за два часа добрался автобусом до тихого белорусского села, затерявшегося в лесах.
Местный участковый инспектор милиции – тоже молодой лейтенант – угостил его обедом и повел к бывшему командиру партизанского отряда Цыганкову. По дороге Захаров обратил внимание на то, что в селе не было старых зданий.
– Все у нас было сожжено фашистами, все построено заново! – пояснил лейтенант. И дополнил: – До оккупации в селе жило триста пятьдесят человек. Уцелело сто пятьдесят. Двести были расстреляны и замучены фашистами...
Бывший командир партизанского отряда оказался высоким, худым стариком, еще сохранившим военную выправку. Он попросил двух лейтенантов милиции минутку подождать в саду, за вкопанным в землю столом, а сам, чуть прихрамывая, прошел в дом. Вернулся Цыганков минут через десять в полковничьей форме с пятью орденами и десятком медалей, позвякивающих на груди.
Оба лейтенанта вскочили со скамьи.
– Садитесь! Чем могу служить? – суховато и официально спросил Цыганков. Узнав, в чем дело, он кивнул коротко остриженной седой головой: – Покажите фотографию!
Он надел очки.
И при первом же взгляде на фото Канцевича старый полковник утратил всю свою выдержку. Кровь прихлынула к его лицу, карточка в руке задрожала.
– Он! Это он! – хрипловатым голосом выкрикнул Цыганков. – Это же провокатор, гестаповский палач Семен Фокин! Из-за него был почти полностью истреблен наш отряд. На его совести десятки, если не сотни, замученных советских людей...
Полковник швырнул фотографию на стол и инстинктивным движением вытер руки платком.
Потом в садик пришли еще какие-то немолодые мужчины и женщины. Со слезами и гневом они рассказывали о пытках и издевательствах, о сожженых заживо женщинах и детях, о попавших в руки карателей партизанских разведчиках, которых на лютом морозе обливали водой, пока они не превращались в ледяные статуи. И организатором всех этих зверств был один негодяй – сотрудник гестапо, командир банды карателей Семен Фокин.
– Его следует судить здесь, в нашем селе! – горячился Цыганков. – Этот негодяй значится в списках военных преступников...
В Минске подтвердили все данные о предателе Фокине.
Когда лейтенант Захаров возвращался из командировки, его все время не оставляла мучительная мысль: ведь если бы не майор Головко, если бы следственные и судебные органы приняли предложенную им, лейтенантом Захаровым, версию!.. Что бы тогда было? Пострадал бы невиновный... А гестаповский палач, предатель и убийца – он бы избежал наказания из-за его, лейтенанта Захарова, трагической ошибки...
Резко хлопнула входная дверь. В коридоре послышались знакомые уверенные и неторопливые шаги. В дежурку вошел майор Головко.
– Товарищ начальник! – вскочил со скамейки лейтенант Захаров. – Ваше распоряжение выполнено. Разрешите доложить...
– Ладно, лейтенант! – отмахнулся Головко. – Идемте ко мне... – Он прошел в кабинет и указал лейтенанту на стул: – Садитесь...
Потом неторопливо прошел к окну и распахнул его.
Лейтенант внимательно следил за каждым движением начальника. И ему показалось, что сейчас он впервые разглядел майора Головко. Это был все тот же уже немолодой, круглолицый, полнеющий здоровяк, с невыразительным, словно застывшим лицом. Маленькие, зоркие глазки майора остро, пытливо смотрели из-под рыжеватых бровей, а легкая полуулыбка, которой он встретил лейтенанта, показалась и лукаво-приветливой, и спокойной.
– Ваша версия полностью подтвердилась, товарищ майор! – четко, открыто глядя в глаза начальника, доложил лейтенант. – Я со своей версией оказался верхоглядом и заслуживаю наказания...
– Так уж сразу и наказания! – усмехнулся майор. – Разве ж в наказании дело? Рассказывайте, что вам удалось установить?
– По фотографии Канцевича, предъявленной мною, местные белорусские органы власти и бывшие партизаны опознали военного преступника, провокатора и гестаповского палача Фокина. Под фамилией Канцевича Фокин был заслан в партизанский отряд,и навел на него фашистских карателей. Затем он был следователем гестапо, командовал карателями. Лично вел изуверские допросы захваченных партизан. Все это подтверждено соответствующими документами и фотографиями.
Лейтенант Захаров положил на стол папку. Майор Головко несколько минут перелистывал подшитые в ней бумаги, рассматривал фотографии. Потом он решительно кивнул головой:
– Ну что же, лейтенант! Доводите дело до конца. Сейчас обеспечим ордер на арест Канцевича-Фокина. Вы не устали?
– Нет, товарищ начальник! – горячо откликнулся лейтенант Захаров. – Я сам хотел просить вас...
– Ну вот и хорошо... Через часок езжайте в поселок лесхоза. В задержании вам поможет старший сержант Николенко – он живет в одной комнате с Канцевичем... – Майор улыбнулся и весело подмигнул лейтенанту: – Можно сказать, что старший сержант Николенко, как добрая няня, заботился эти дни о Канцевиче – следил, чтобы не заблудился в лесу и не исчез из поселка... Но все же будьте бдительны – зверь хищный, стреляный...
– Ясно, товарищ майор! Разрешите выполнять?!
– Действуйте!
Милицейский газик появился в поселке лесхоза в седьмом часу вечера, когда солнце уже опускалось к горам и синие длинные тени протянулись от тополей, росших возле общежития. На деревянных ступеньках крылечка с гитарой в руках сидел круглолицый, широкоплечий парень и терзал гитарные струны. Чувствовалось, что парня томит лютая скука. Пощипывая струны, он недовольным голосом, с самым мрачным видом напевал:
Ой ты, милая моя,
Ой ты, милая!..
Парень увидел подъехавший газик и выходившего из машины лейтенанта милиции.
Уезжаю нонче я
В очень дальние края! —
лихо рванув струны, с залихватским, веселым видом пропел парень.
На парне была надета какая-то невозможно пестрая рубаха, заправленная в синие штаны – «техасы», на затылке торчала лихая кепчонка. Лейтенант Захаров с трудом узнал в гитаристе всегда подтянутого старшего сержанта, секретаря комсомольской организации райотдела.
«Вот ведь артист!» – подумал Захаров, взбегая на ступени.
– Объект на месте? – спросил он.
– Так точно! Пообедал и сейчас отдыхает после работы... Но все же разрешите, я вперед пройду. У объекта есть ножичек сантиметров на сорок... И окно в комнате открыто. Я приму нужные меры. Как забренчу на этой проклятой гитаре, так входите...
– Действуйте! – повторил лейтенант слова майора Головко.
В полутемном коридоре общежития было пусто. Но за дверями комнат слышались голоса. Потом донесся веселый девичий смех.
Старший сержант исчез за дверями комнаты с белой семеркой на верхней притолоке.
Через минуту за дверью зазвенели гитарные струны. И сейчас же загудел рассерженный мрачный голос:
– Сколько раз тебе говорить, не мучай ты эту чертову бандуру?! Звякни еще раз – и я ее о твой кумпол расколочу!
– До чего же вы, Семен Федорович, мрачный тип! – ответил насмешливый голос старшего сержанта. – Прямо смотреть на вас противно!..
Лейтенант Захаров толкнул дверь и вошел в комнату. Старший сержант стоял около открытого окна. У стены, на кровати, лежал седой, коротко остриженный человек со скуластым загорелым лицом и тонкими, плотно сжатыми губами. Лейтенант заметил, как лежащий вздрогнул, как зло блеснули его запавшие темные глаза и напряглись мускулы. Но через мгновение перед ним снова был только угрюмый, усталый человек.
– Здравия желаю, товарищ лейтенант! – с кривой усмешечкой нарочито лениво протянул Канцевич. – Только я слыхал, что, прежде чем входить в комнату, следует постучать. Даже и милиция должна выполнять это правило...
– Не всегда, – холодно ответил лейтенант и закрыл окно. – Вы арестованы, Канцевич! Вот ордер на ваш арест...
Тяжелые веки опустились, скрывая кипучую ненависть, блеснувшую во взгляде Канцевича.
– Та-ак! – протянул арестованный, медленно поднимаясь с кровати. – А за что же я почтен вашим милицейским вниманием, разрешите узнать?
– Узнаете позже... Можете уложить ваши личные вещи.
– Какие там у меня вещи!.. – Канцевич с кряхтением принялся натягивать сапоги. – Ложка, кружка да пара исподнего...
– Ножичек вот еще имеется, Семен Федорович! – подсказал старший сержант, подбирая со стола охотничий нож с выдвигающимся лезвием.
Николенко положил нож в карман и вытащил из-под кровати свой чемоданчик.
– А ты куда?! – удивился Канцевич. И вдруг рот его ощерился злым, волчьим оскалом. – Вот оно что, значит! Ангел-хранитель ко мне был приставлен... Надо было бы!.. – Канцевич скрипнул зубами. И опять вместо хищника в комнате стоял усталый, обиженный человек. – Ну, поехали, товарищ лейтенант! Что же делать, если такая честь старому партизану оказана!..
Весь путь до станицы Подгорной Канцевич молчал. Казалось, он просто дремал между лейтенантом Захаровым и старшим сержантом Николенко. На ухабах его голова болталась на темной морщинистой шее.
В кабинет майора Головко Канцевич вошел, сгорбившись, с обиженным и расстроенным видом.
– Я требую объяснения, за что меня арестовывают, товарищ майор! – еще от дверей заговорил он. – Это же и есть настоящий произвол! Я буду жаловаться!
– Садитесь, Канцевич! – тихо проговорил майор Головко. – Причину ареста я вам объясню. Вы обвиняетесь в умышленном убийстве гражданина Свиридова Ивана Николаевича...
– Что?! – воскликнул Канцевич. И усмехнулся: – Всему поселку известно, что этого самого Свиридова по пьяной лавочке пристукнул из ружья мой дружок Петр Остапенко. Вот уж действительно, что с человеком водка делает! Когда мы партизанили с Остапенко, он же серьезным человеком был...
– Вы в день убийства были у Петра Остапенко?
– Я?! – Канцевич недоумевающе передернул плечами. – Да, заходил, поступление на работу обмыть. Но дружок мой партизанский к этому времени уже чуть языком ворочал. А тут его сосед, этот самый Свиридов, заявился. Тот еще хуже наклюкался. Чуть в драку на меня не полез, хоть и видел я его в первый раз, Ну, я тогда поднялся и ушел в общежитие спать. Потому у меня такой закон: кто с пьяным дураком свяжется – тот еще худший дурак будет...
– Хороший закон... Но объясните, зачем вы выкинули в бурьян стакан, из которого пили?
– Никакого стакана я не выкидывал, товарищ начальник!
– Видите ли, Канцевич, на выброшенном стакане сохранились отпечатки пальцев. Они тождественны с отпечатками пальцев на другом стакане, взятом из вашей комнаты в общежитии. Вот заключение экспертизы. Желаете посмотреть?
Канцевич протянул руку. И вдруг резко отдернул ее.
– А чего мне смотреть? Может, и вправду вы нашли где-то стакан, из которого я пил. А выбросил его не я, выбросил кто-то другой... И нечего мне шить дело об этом дурацком убийстве. Какой мне был смысл убивать человека, которого я видел в первый раз?
