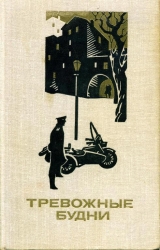
Текст книги "Тревожные будни"
Автор книги: Георгий Вайнер
Соавторы: Аркадий Вайнер,Эдуард Хруцкий,Виль Липатов,Анатолий Безуглов,Николай Коротеев,Алексей Ефимов,Александр Сгибнев,Юрий Кларов,Иван Родыгин,Григорий Новиков
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 31 страниц)
Мокеев поводил пальцем по стеклу на столе. Под стеклом лежала телеграмма отца.
– Теперь время другое, – сказал Ростислав Яковлевич, – Благо, понимаешь, состояние растет...
– Другое, – согласился Мокеев, – кто спорит. Но я так понимаю, Яклич, что для всякого состояния у нас должен быть один закон: удовольствие пусть вперед работы не забегает. Иначе мы себя испортим.
– Это так, – сказал Яклич.
Вошел Суржин, или, как в ГАИ все его звали, лейтенант Володя. Было еще два Володи; все Андреевичи, Этот был лейтенантом Володей, в отличие от двух капитанов.
Лейтенант Володя был старым приятелем Мокеева, занимался он дорогами, строителями, неурядицами и непрерывным улучшением организации движения. Улучшение это всегда во что-нибудь упиралось, часто в непредвиденное. Лейтенант Володя каждый раз, встречая административное препятствие, удивлялся искренне, по-детски. Он горячо доказывал «смысловую сторону вопроса», смешно разводил руками, когда его не понимали или делали вид, что не понимают. Потом, немного остыв, лейтенант Володя приступал к длительной осаде, готовил убедительные письма в инстанции – о «смысловой стороне проблемы», – подшивал ответы, составлял графики, вычерчивал схемы – словом, как он выражался, «развивал и двигал». Наверняка и теперь лейтенант Володя развивает и двигает какое-нибудь очередное и очевидное дело, и сейчас просто зашел поплакаться старому приятелю в жилетку.
– Привет, – сказал лейтенант Володя, – привет дежурной службе. Как несете?
– Хорошо несем, – ответил помощник Олег.
– Пока тихо, – сказал Мокеев. – Привет, смысловая сторона.
Этого хватило, чтоб лейтенант Володя завелся:
– Да откуда смысл!.. – Он отмахнулся. – На стыке проспекта Свободы и Калинина эти кусты идиотские никак не вырублю... И не могу сообразить – почему... Тьфу!
– Во-первых, не кусты, а яблони, – поправил Мокеев.
– Кусты! – с нажимом сказал лейтенант Володя. – Кусты! Потому что яблони обязаны давать яблоки. А на этих кустах никто отродясь яблок не видал...
– Зато как по весне цветут! – возразил Мокеев, слегка подражая зампреду горисполкома – его манере говорить, повышая голос к концу фразы. – Как цветут! Какая россыпь белизны! Сколько радости доставляют задерганным горожанам в вегетативный период...
– Тебе смешно... вегетативный. На этом стыке давно зреет... Четвертое происшествие за полтора месяца. Кончится трагедией эта россыпь белизны...
– Пустяки – не аргументы, – продолжал Мокеев поддразнивать приятеля. – Там даже не столкновения, а так – касания. Даже выбитого стекла еще не было...
– Стекла-то – ладно. А покойника мы дождемся. Как аргумента... Слушай, Николай, а ведь кроме шуток, а? Непонятно и стыдно, если из-за двух паршивых кустов появится в сводке лишний покойник.
– Про эти яблони мы лет десять долбим. Начали еще до твоего появления на гаишном горизонте, Володя.
– Тогда я тем более не могу понять, где же смысловая сторона... почему зампред так уперся в эти кусты?
– А ты бы со старыми кадрами посоветовался.
– Вот видишь, пришел же...
Мокеев повернулся к старшине Ростиславу Яковлевичу – тот восемнадцать лет крутил милицейскую баранку:
– Яклич, ну-ка просвети молодого, необученного, в чем россыпь проблемы.
Яклич снял фуражку, покрутил в руках – тоже старая привычка, будто на митинге слово держит.
– Да как сказать, Николай Васильевич, дело известное...
– Яклич, не рви ты душу лейтенанту Володе – парень извелся весь...
– Одно скажу: Иван тут Трофимович замешан.
– Какой Иван Трофимович? – спросил лейтенант Володя недоуменно.
Ростислав Яковлевич не ответил, только посмотрел на Мокеева. Мокеев насмешливо сказал:
– Ну, лейтенант Володя, если ты не помнишь Ивана Трофимовича, то я уже не знаю... где твоя смысловая сторона. Напрягись, лейтенант, соберись с памятью. Иван Трофимович!
– Ну да! Неужели... сам?
– Видишь, пошарил в памяти и нашел. Да, сам.
– А при чем тут он? – снова спросил лейтенант Володя. Он ужасно бывал недогадлив, когда застанут его врасплох или огорошат вот так, как сейчас.
– Твое счастье, Володя, что ты в ГАИ попал. В угрозыске ты бы неделю не продержался с такой реакцией. Лет двадцать назад случился в городе воскресник, и на том воскреснике Иван Трофимович посадил яблоню, первую в городе. Теперь их, как говорится, несколько штук, и все на месте, кроме этой, первой. Она в цвету перекрывает видимость на перекрестке, и кто-то когда-то поплатится за эту россыпь белизны...
– Здоровьем или жизнью?
– Смотри накаркаешь...
Возникла пауза. Мокеев с интересом рассматривал расстроенное лицо лейтенанта Володи, старшина Ростислав Яковлевич крутил в руках форменную фуражку, смущенный своим знанием городских тонкостей, а помощник Олег, усмехаясь, читал Тургенева – Олег учился на заочном отделении, свободную минуту на дежурстве он отдавал знакомству с классикой.
Подал голос городской телефон.
– Дежурный ГАИ старший лейтенант Мокеев слушает!
Некоторое время Мокеев слушал, одна бровь его поднялась, подергалась, выражение иронии скользнуло по лицу и пропало.
– Нет, этого мы не можем сделать. Если считаете нужным – сообщайте нам, мы разберемся, а таких сведений не даем. Нет, дорогой товарищ, давайте без самодеятельности!
...Так что же, товарищ лейтенант, будем делать с плодовыми деревьями – украшением города?..
– Кусты, – буркнул лейтенант Володя и вышел.
– Расстроили человека, – сказал Яклич и надел фуражку.
В дверь коротко стукнули, и вошел сержант с пятьдесят третьей машины, а за ним еще двое – один ничего, другой какой-то влажный: глаза блестят, лицо потное, справа, у виска, Мокеев заметил слипшуюся прядь волос, подозрительно черную.
– Прибыли! – объявил сержант. – «Жигули» у парадного подъезда, хозяин вот он, собственной персоной.
Хозяин держался прямо, но дышал в сторону.
– Ростислав Яковлевич, вызови-ка «скорую», гражданин голову, кажется, разбил! – четко сказал Мокеев, и все его слышали.
– Не надо «скорой», товарищ дежурный, – сказал хозяин «Жигулей». – Дешево отделались, пустяками обошлось.
– Отставить «скорую», старшина! – сказал Мокеев. – Пошли посмотрим, что там за пустяки у парадного подъезда...
Все вышли на крыльцо. Сверху сыпал снег – пушистый, холодный. Нет, не миновать гололеда к вечеру! «Жигули» стояли понурившись – машина словно чувствовала себя виноватой здесь, у дверей ГАИ. Лобовое стекло, сплошь молочно-белое, в трещинах, выдвинулось из рамы, крыша вмялась внутрь кузова и нависла спереди козырьком, левая фара превратилась в аккуратный эллипс, багажник перекосило, и крышка не открывалась.
Мокеев взглянул на спидометр: машина прошла... сто пятьдесят километров.
– Н-да, хозяин, не много ты проехал за пять с лишним тысяч... – сказал Мокеев, искренне расстраиваясь за порченое добро.
– Н-ничего, – сказал хозяин, – дело-то пустое, рублей на пятьдесят ремонта, ерунда.
Мокеев коротко взглянул на хозяина, поморщился. Держался хозяин преувеличенно прямо, то и дело расправлял плечи, но познабливало его от пережитого, передергивало, и тут уж он ничего не мог с собой поделать – психика!
– Ну, хозяин, крупно живешь! – сказал Мокеев, открыл дверцу, попробовал тормоза – исправны, – Что делать теперь, а?
– Поправим, – выдохнул хозяин,, и по тому, как он сказал одно это слово, Мокеев решил, что выпили они с дружком порядочно, никак не меньше бутылки на нос. Хозяин старался говорить покороче и на выдохе – так ему было легче. Длинных фраз он избегал, чтоб не запутаться.
– Сначала давайте протокольчик составим, – сказал Мокеев, – чтобы разговоров не было. А потом уж насчет ремонта похлопочем.
Мокеев пошел обратно в дежурку. И пока шел, думал, что легко, видать, деньги достаются хозяину, если после бутылки водки он садится в машину покататься но молодому льду на мостовых.
Ко всему прочему у хозяина еще и прав не оказалось. Мокеев отправил хозяина на экспертизу, чтобы официально засвидетельствовать опьянение, а дружка, с которым тот катался, посадил за стол:
– Вот бумага, ручка, пишите.
– Чего писать? Я ж просто пассажир.
– Опишите все, как было. Куда ехали, где перевернулись, сколько выпили, где, когда – обо всем.
Дружок загоревал:
– Да чего там выпили – разговелись только!.. Он говорит: «Пойдем – покатаю на «Жигулях» на новых...»
– Вот и опишите, нам все интересно.
В дверь постучали. Олег, помощник, сказал, не отрываясь от Тургенева:
– Да!
Но не громко, видать, сказал, потому что постучали снова.
Олег отложил книжку.
– Ну кто там у нас такой робкий! – И распахнул дверь. За дверью стоял старый знакомый, у которого арестовали мопед. И женщина рядом. Мать, конечно. Сколько в глазах этой женщины было тревоги, недоумения, смутного вопроса.
– Что случилось, товарищ... милиционер? – не спросила, а выдохнула она, обращаясь к Мокееву прямо из коридора.
Нужно было дать ей успокоиться и «пропитаться» атмосферой. Поэтому Мокеев извинился:
– Минуточку, пожалуйста, подождите. Вот здесь, за столом. Садитесь, пожалуйста. Сейчас я товарищам дам задания, потом мы с вами поговорим. – Он усадил женщину за стел. Заглянул через плечо дружка, который скрипел пером, старался: – Как дела?
– Да вот, сочиняю.
– Ну-ну, правду только сочиняй, чтоб не запутаться.
– Так чего там! Выпили-то по капельке...
– Укажи, сколько капелек...
Вернулся хозяин «Жигулей» после экспертизы. Ростислав Яковлевич, который хозяина сопровождал, незаметно кивнул Мокееву: «Порядок!» Они давно дежурили вместе, и давно разработана была беззвучная система сигналов: вошел, кивнул, – значит, хозяин опьянение признал, протокол подписан врачом, теперь осталось взять у хозяина письменное объяснение. Чтобы они с дружком не сговаривались в деталях, Мокеев провел хозяина в соседнюю комнату, за свободный стол:
– Сюда, пожалуйста. Вот бумага, опишите все, как было: откуда ехали, куда, с какой скоростью, где перевернулись, где, с кем и сколько пили перед поездкой – словом, все. И подробно. Административная комиссия будет разбираться, ей нужны серьезные и честные сведения.
– Понятно, – сказал хозяин. – Мне скрывать нечего...
– Ну-ну! – подбодрил Мокеев и вышел к родительнице. Женщина встала ему навстречу – он не стал ее снова усаживать. «Разговор официальный, можно и стоя», – решил Мокеев.
Прежде чем начать, он секунду-другую всматривался лицо женщины, пытаясь представить на ее месте свою Валю. Что-то не получалось. Потому хотя бы, что сына своего Мокеев сызмала приучил не врать. Вот с этого начать нужно.
– Что ж вы, молодой человек! – начал Мокеев. – Вы сказали мне, что мать вместе с отцом в командировку ехала. Неожиданное возвращение, а? Сюрприз?
Паренек отвернулся и молчал.
– Ну так как? – Мокеев обратился к мамаше: – Вы что, только вернулись в город?
– Да никуда я не ездила!
– Понятно, – сказал Мокеев. – Понятно. Будем считать этот момент третьей ошибкой: ложь представителю закона... Так что, Женя Санин, будем продолжать разговор или подождем, когда отец из командировки вернется?
Мокеев уже понял кое-что из отношений в этой неведомой ему семье. Перед матерью сын не боится показаться и лгуном, – видимо, простит. А до отца, который купил ему мопед, дело доводить не хочет. У всех свои сложности.
– И не отдавайте ему эту заразу! – близкая к слезам, заговорила мать. – И оштрафуйте подороже, а мопед в счет штрафа продайте! И черт с ним, с мопедом!
– Ну, ты! – вдруг прикрикнул сын. – Чего мелешь!..
– Ты как с матерью разговариваешь! – Старшина Яклич вскочил вдруг, вырос перед Женей Саниным. – Ты как с матерью говоришь! – Мокеев даже растерялся от такого взрыва Яклича, А Женя Санин отшатнулся от старшины, который, казалось, сейчас сомнет этого лживого мальчишку.
– Спокойно, Яклич! Пусть мамаша сделает вывод сама, а сейчас мы так порешим это дело. Поскольку Евгений Санин оказался человеком ненадежным, мы официально задерживаем его мопед и подождем, когда приедет из командировки глава семьи. Вот тогда, Женя Санин, милости просим за мопедом. Заодно и поговорим.
– Так я же пришел с матерью, – сказал Женя Санин, на что-то еще надеясь.
– Видишь ли, Женя Санин, ты даже здесь, в ГАИ, позволяешь себе покрикивать на маму. Боюсь, мало будет проку от нашей беседы... Подождем отца. Думаю, это надежнее.
– Подождите, подождите, – сказала мать. – Пусть сам и разбирает... Сам купил, пусть сам и расхлебывает...
– Договорились, – подвел итог Мокеев. – Кстати, Женя, у крыльца «Жигули» стоят, ты подойди и полюбуйся. Между прочим, эта машина на четырех колесах, а твоя – только на двух...
Санины ушли. Мокеев отобрал объяснения у хозяина «Жигулей» и его дружка. Молча прочитал, усмехнулся, протянул помощнику Олегу. Тот прочитал, невозмутимо положил на стол.
– Так сколько выпили, друзья? По сто пятьдесят, как пишет один, или по пятьсот, как сообщает другой? – Мокеев смотрел на хозяина.
– Какая разница, старшой! Так и так – сплошные убытки...
– Разница в правде. Только что тут Женя Санин завирался, пятнадцати лет от роду, теперь вы тут путаете, взрослые дяди. Договориться не успели, что ли?
– Так когда ж договариваться?! – сказал дружок. – Только на ноги стали – тут и гаишники...
– Будем считать, что вам повезло, – сказал Мокеев и отпустил гуляк, предупредив хозяина: – Во вторник на комиссию.
– Ладно, – махнул рукой хозяин «Жигулей», уже заметно протрезвевший. – Где машину искать?
– На платной стоянке искать, – сказал Мокеев.
Ушли.
Мокеев вздохнул. Яклич снял фуражку, собираясь что-то сказать, но раздумал, достал платок, вытер лицо, маленькую лысину, шею. Вывернул платок, вытер фуражку изнутри, по ободку.
Помощник Олег постучал пальцами по столу, вопросительно посмотрел на телефон, потом на радио, раскрыл книжку. Начал читать, оторвался, спросил Яклича:
– Как последнюю партию сыграл Карпов, не слыхал?
– Вничью сыграл, – сказал Яклич, тоже болельщик. – Как думаешь, кто одолеет?
– Сильнейший, – сказал Олег и углубился в Тургенева.
– Окончишь заочный, будешь таких вот обормотов учить, – задумчиво сказал Яклич, имея в виду Женю Санина.
– Буду, – сказал Олег.
– Ты их совести учи, прежде всего совести, понял?
– Угу, – согласился Олег.
Телефон заурчал. Мокеев снял трубку. Лейтенант Володя спрашивал, как насчет обеда. Договорились пообедать вместе, время еще позволяло. Мокеев влез в свою черную форменную куртку. Вышли.
С неба сыпала холодная крупа, ветер леденил.
– Хороший хозяин собаку не выпустит, – сказал лейтенант Володя и поежился. – Куда двинем?
– А что, появился выбор? – удивился Мокеев.
Обычно, когда срывался домашний обед, Мокеев и лейтенант Володя ходили вместе в «Листик» – ближайшую столовую. Размещалась она в новом доме – в плане дом походил на трилистник.
– В «Листике» народу сейчас... – сказал лейтенант Володя. – Двинем давай в ресторан.
– Ого! Наследство получил?
– Съедим хорошую отбивную. Наследства пока нет, но повод к отбивной имеется. Позвонил я Ивану Трофимовичу...
– Да ну! Самому?
– Самому. Секретарша пытала, кто и зачем. Я объяснил, что из ГАИ, по личному делу, очень срочно. Она там посовещалась и соединила.
– У Ивана Трофимовича сын на «Запорожце» ездит, может, подумал чего... Ну и?..
– Ну, извинился я, сказал, что через голову начальства звоню. Так и так, вопрос серьезный и щекотливый...
– А он?
– А он говорит: «Да, пожалуйста».
– А ты?
– А я излагаю все как есть. Так и так, вы принимали личное участие в воскреснике сколько-то лет тому... Посадили собственноручно яблоню. Теперь мы эту яблоню никак не пересадим – разрослась, – а она закрывает обзор водителям, создает...
– Да не тяни ты! Знаю я всю правду про эти кусты!
– Яблони... Иван Трофимович говорит, что, мол, он ни при чем. Нужно – согласовывайте с исполкомом. Я говорю, что никак не согласовать, вот уже который год бьемся. Ссылаются на красоту – и никак. И я сильно подозреваю, что именно потому никак не сдвинется, что это вы ее сажали, эту яблоню... Он говорит: «Вот как?» Я говорю: «Да, так! Извините, но другого выхода не вижу, только к вам обратиться». Он помолчал, спрашивает: «И сколько вы согласовывали эту яблоню?» Я говорю: «Я занимаюсь года три, да до меня мусолили... думаю, лет восемь, не меньше». Он еще помолчал. «Спасибо, – говорит, – что позвонили. Я, – говорит, – это дело сдвину». Вот и все.
– Да-а! – искренне удивился Мокеев. – Это, брат, событие. Эх, жаль, время служебное, отметить бы надо!
– Ты ж трезвенник, Мокеев!
– Ну, по такому случаю... Но, считай, выговор у тебя уже есть, лейтенант Володя... Через голову действуешь, субординацию нарушаешь.
– Уже получил – устный правда.
– Когда успел?
– А сразу и получил. Пошел я полковнику, доложил: так и так. Прошу извинить, действовал через голову, нарушил субординацию, но другого решения проблемы не видел.
– И воткнул?
– Устный.
– Значит, доволен. Инициатива все-таки.
– Да, пожалуй. Чего будешь есть?
Они уже сидели за белым столиком, такие странные здесь в рабочее время; зал был полупустой, и все, кто был в зале, смотрели на них.
Заказали, закурили, пооглядывались, помолчали.
– Я уж сколько лет в ресторан не наведывался! – сказал Мокеев.
– Что так? – на всякий случай спросил лейтенант Володя, хотя все в ГАИ знали, что любит Мокеев домашние обеды и вообще домосед, не гулена. Видел лейтенант Володя жену Мокеева – Валю. Не сказать чтобы красавица, не сказать чтобы сильно некрасивая – так, нечто среднее.
Лейтенант Володя был еще холост, и не утряслось в нем настоящее понимание подруги жизни, холостой еще был взгляд на эти вопросы.
Мокеев думал как раз о Вале, о том, что не помнит, когда они вместе были последний раз в ресторане, о том, что и вправду стоило бы заказать столик, да посидеть с Валей вместе, да потанцевать вечерком... Да, пожалуй, скоро не раскачаешься – нужно еще костюм посмотреть свой штатский. Сколько уж не надевал, еще неизвестно, налезет ли!
Кто-то давно спросил Мокеева: «За что ты такую учительницу выбрал себе, ничего выдающегося? На парней спрос повышенный, мог бы повременить». Так, по молодости кто-то ляпнул. И Мокеев теперь уж не помнит, что дураку ответил, но задумался, для себя задумался. И решил, что самое главное в Валином лице – самостоятельность и доброта. Простое у Вали лицо, доброе – и свое. Вот что самое важное – своелицо. Смотри-ка, стоило прийти в ресторан, в непривычную, так сказать, обстановку, чтоб понять, какое лицо у жены. Мокеев довольно резко повернулся в сторону подходящей официантки – та даже испугалась слегка.
– Вам что, товарищ? – спросила, опешив.
– Нет-нет, ничего, – извинился Мокеев.
Не скажешь ведь, что повернулся сравнить ее с Валей. Официантка еще покосилась на Мокеева, пододвигая ему тарелку и чувствуя какую-то неясную вину перед этим милицейским. Похожа она была в профиль на какую-то киноартистку – Мокеев не помнил фамилии, – в кино видел и еще в кабине МАЗа, помнится, задержал водителя за превышение скорости.
А у Вали свое лицо, очень простое, доброе, очень русское.
С тем и принялся Мокеев за солянку.
Перед бифштексом получилась вполне ресторанная пауза. Лейтенант Володя заметил даже:
– Смотри-ка, не хочет девочка с нами расставаться, вон от кухни любуется. Ты, брат, так на нее взглянул – теперь до вечера продержит...
– А ты посигналь ей.
Володя посигналил.
– Ты как отдыхал, ездил куда или дома? – спросил Володя.
Мокеев только что вернулся из отпуска.
– В Ленинград ездил, к сестренке, потом в степи летал, в Казахстан.
– К отцу?
– К нему.
– Ты рассказал бы, а то бормочут всякие чудеса... Расскажи! Если хочешь, конечно, – добавил лейтенант Володя – деликатности у него не отнимешь.
Мокееву вообще деликатные люди нравились, и сам он, как Валя однажды выразилась, страдал деликатностью. Страдал? А как иначе? Страдал, конечно. Если Валя такое сказала – считай, выругала. Она и не прибавила больше ничего, а Мокеев так и считал: выругала.
И правильно, сколько ж можно! Работал он в ГАИ уже пятнадцать лет, не меньше. Да, Витальке скоро пятнадцать, за год до рождения сына он и поступил сюда. И до сих пор квартиру получить не сумел. Год назад пришел подполковник из управления обследовать условия, спрашивает: «Товарищ старший лейтенант, что у вас здесь?» Это он про их комнату. «А все здесь, – сказал Мокеев. – Спальня, столовая, библиотека, детская – все». В своей комнате мог он себе позволить чуточку юмора – тем более на такой юмористический вопрос.
«Как? – спросил подполковник. – А сын где спит? Вы ж говорили, что сын у вас». – «Так точно, сын Виталька, четырнадцать годов. Вот на этом диване спит сын, – сказал Мокеев и показал на диван. – А мы с женой вот здесь, – показал он на кровать, от которой до дивана было ровно метр и десять сантиметров. Еще в комнате помещался стол, на котором ели и Виталька готовил уроки, еще этажерка с учебниками Витальки и будильником, и у самой двери – вешалка на четыре крючка. – Восемь метров ровно», – сказал еще Мокеев подполковнику.
Подполковник как-то странно посмотрел на Мокеева и сказал только: «Я доложу, старший лейтенант, о ваших условиях».
– Ты, если не хочешь, не рассказывай. Я не настаиваю, – сказал лейтенант Володя.
– Ну что ты! – смутился Мокеев.
Володя и вправду мог подумать, что неделикатность совершил – спросил про отца.
И пока ели бифштекс с яйцом, и потом еще ждали компоты, и потом еще Мокеев чаю попросил – какой-то неправильный обед без чаю, – он и рассказал коротко про отца...
В сорок пятом отец не вернулся. И в сорок шестом не дождались, и в сорок седьмом не пришел. Была бумажка официальная: пропал без вести. Но ведь пропал – не погиб... Ждали. Мать ждала, и Мокеев ждал. Тогда его просто Колькой звали. Это уж как работать пошел – стал Мокеевым. Все Мокеев и Мокеев, по имени почти никогда. Мокеев скоро привык. Это удивительно, как к человеку может собственная фамилия пристать, даже имя заслонила.
Мать ждала... Кроме Кольки было их у матери еще двое – сестренка Нинка и меньшой брательник Мишка – он перед самой войной народился, в сорок первом, майский. Нинка на два года моложе Мокеева, а потом уж и Мишка.
Мать ждала вечерами. Собиралась семья, картошки поедят с простоквашей, фитиль у лампы прикрутят и сидят – сумерничают. Фитилек в лампе светит будто издалека-издалека, будто через поле какое или через лес. Мать рассказывает чего или просто молчит; ветер ищет в крыше щелки, вокруг углов навевается; дверь на щеколде вздрагивает, и слабое круговое пятно на потолке – от лампы, – будто живое, ширится, узится – пульсирует.
Мать сидит, вздохнет, столешню вдруг погладит рукой или младшего Мишку прижмет к себе, подбородок положит ему на макушку, и качается тихонько, и не мигает, не мигает – на фитилек глядит. И Мокеев видит, как глаз у матери становится большой, выпуклый, качается, потом вдруг молча прольется на щеку тяжелая слеза, пролетит все лицо и упадет Мишке в волосы. Мишка скажет только: «Мам, мокро». И мать отодвинется, улыбнется виновато: «Крыша прохудилась, мужички, капает».
Заходили соседки. Помнит Мокеев, как мать говаривала подруге: «Вот не верю, что убитый он, чувствую... не оборвалось между нами... осталось, что-то... Не убитый он, живой». Соседки сочувственно кивали, с болью и надеждой вглядываясь в худое материно лицо, пытаясь, быть может, найти в этом лице что-то и свое, чего не успели разглядеть вечерами в мутных военных зеркалах. У них в доме тоже было такое – военное, мутное. Ждали оккупации, закопали добро в землю, и зеркало закопали. Потом уехали, потом вернулись, выкопали добро, и зеркало оказалось мутным – выглядываешь оттуда, будто из тумана.
В оккупации они не остались, успели выбраться. Бедовали, голодали. Добрались до Зауралья, устроились кое-как. Мать работала, вечерами шила, вязала, игрушки мастерила – пропеллеры из бумажных обрезков на палочке с гвоздиком, куклы тряпичные с химическими глазами. Под конец войны сытнее стали жить. – паек дали хороший, на военном заводе мать устроилась, еще на подсобном хозяйстве помогала, и огородец свой выкроили на пустыре. Но как только Информбюро сказало про освобождение их района, на Псковщине, – засобиралась мать в путь. Уж и отговаривали ее на заводе – подожди, мол, куда спешишь, выгорело там все, да с ребятишками, да жить негде. Нет, не дала мать себя уговорить – снарядились, двинулись. Вернулись – и правда все выгорело. Ни жить негде, ни есть нечего, не во что ни одеться, ни обуться. Мать говорила: «А куда ж нам еще, как не сюда... И головешки родные... И отец вернется, не застанет никого – что подумает?»
Не знали еще тогда, что не дождутся отца.
А ждали, сколько лет ждали! Мокеев иногда думал даже: не тронулась ли мать, ожидаючи? Уж и сорок восьмой прошел, и пятьдесят четвертый, а мать все ждала, все не верила, что погиб. Померла она в шестьдесят первом. И незадолго до смерти матери слышал Мокеев, как говорила она с соседкой – чай они пили на кухне: «Нет, Мария, не убитый он. Вот не убитый – и все тут! Живой где-то, не могу оказать где, а живой. Такое у меня мнение, будто уехал он и – скоро обратно. Застрял будто, но почему – не знаю».
Мария солидарно вздыхала, шумно отхлебывала из блюдечка, глядела на себя в самоварном боку, отвечала: «Святая ты женщина, Таня, святая, бог должен бы тебя обрадовать. Помолилась бы, он услышит». Мать усмехалась: «Атеистка я, Мария, атеистка. И дети у меня такие, И бог твой меня в лицо не знает, не до меня богу». – «Как же, Таня, – отвечала соседка Мария, – это ль не чудо, если муж твой живой? Не божественное ли провидение, если так? Столько лет минуло, а ты веришь, чувствуешь его, живого...» – «Что об этом говорить, – вздыхала мать. – Может, в плену где, вон как у Дарьи Горшковой, из Канады пишет...»
Не отец не в Канаде оказался, а ближе. Хотя тоже не рукой подать: от Ленинграда Мокеев летел самолетом сколько часов, да потом автобусом добирался еще более того, да в райцентре попутку искал полдня и на ней сто восемьдесят километров по степи – как по столу...
И случилась-то все месяц назад. Мокеев в отпуск пошел. Пока с дровами возился, пака рамы утеплял, то, се – две недели прошли. Напоследок решил в Ленинград прокатиться, сестренку наведать и Витальке купить кое-что – Валя список составила. Приехал, побегал по магазинам, заскучал. Сестренка Нина говорит: «Чего маешься, съезди на родину на парочку дней – взглянешь и вернешься, – а я тем временем пошарю в городе по Валиному списку». А Мокеев и вправду собирался на Псковщину, только нерешительно как-то собирался – боялся, что ли, себя растревожить. Решился, поехал. Могилу мамину поправил, с соседями старыми поговорил, напоследок в поселковую столовую зашел – перекусить на дорожку. Там у окна за столиком дядя Вася сидел, Макушев, отцовский еще приятель. Дядя Вася домой в сорок шестом вернулся, покалеченный, лицо осколками перепахано, но веселый и – пьющий. Пил помногу, тем и славен был первые годы, как вернулся. Потом поутих маленько, и теперь он вот сидит у окна, интересуется прохожими и пиво тянет. Помахал Мокееву дядя Вася Макушев. Мокеев подсел к нему со своим супом и биточками. «Что, дядь Вась, на пивко перешел окончательно или так, для пересменки только?» – «Да, парень, как сказать... Ощущение я потерял, устал маленько. Пожалуй, выпил я свою цистерну, будет. Вот теперь крепче «жигулей» не беру, а и без «жигулей» не могу – равновесие рушится».
Дядя Вася был все такой же. Только морщинки стали резкие – каждая сама по себе, как вельвет. Мокеев сказал ему об этом. «Да, брат, заспиртованный я капитально, чего уж! – добродушно согласился дядя Вася и спросил вдруг: – А батька чего тебе пишет?» – «Какой батька?» – не понял Мокеев, и что-то неожиданно замерло в нем и заныло. «Как какой!.. Твой батька, чей же?! – удивился дядя Вася. – Неужели не знаешь! Эхма! Рано я пить завязал, мы бы с тобой теперь ха-арошую канистру выжрали по такому поводу». – «Чего-то ты темнишь, дядь Вась, – сказал Мокеев и увидел вдруг тот далекий свет прикрученного фитиля в темной избе, и пульсирующий круг на потолке, и мать увидел – как живую, и слезу в ее глазах – как живую: как она копится и вдруг падает Мишке на голову... «Да что ты, парень, да живой твой отец, живой... покойница-то мать верно говаривала, что живой. Гляди-ка, угадала мать, царство ей небесное!.. Мы с отцом твоим перед войной в совхозе вместе работали...» – «Да знаю я, знаю!» – «Ну и прислал он недавно конверт: так и так, Вася Макушев, если ты живой и помнишь меня, отпиши свидетельское письмо на собес про наши с тобой общие годки в совхозе... Он, видишь, на пенсию выходит и стаж разыскивает». – «Где?» – только и выдохнул Мокеев. «Письмо-то? А дома лежит, за зеркалом. Пойдем, что ли?» – спросил дядя Вася, будто можно было не пойти. Мокеев встал, забыв про биточки, дядя Вася взглянул неодобрительно, крякнул: «Кхе, брат, ты того... доешь... непорядок...»
Мокеев послушно доел и двинулся следом за дядей Васей.
На конверте был обратный адрес, и в конце письма тоже был обратный адрес, и почерк, чувствуется, нетвердый – мало в жизни человек писем писал, буквы углами стоят, каждая сама по себе.
И про них, семью, ничего отец не спрашивает в письме. Вот что странно – ничего не спрашивает. Будто в другое место пишет, не в родной поселок.
Мокеев вернулся в Ленинград, дождался сестренку Нину с работы, и начали они советоваться. Много чего говорили, теперь кое-что и вспомнить неловко. Даже такое было: не лихой ли какой человек объявился под отцовым именем? По телевизору недавно историю передавали похожую, так мало ли!.. Особенно, если в плену был... Словом, может, еще и не отец окажется. Но это все Мокеев сам высказывал, Нинка, сестренка, со всеми предположениями сначала вроде соглашалась, а потом отвергла: нет, наверняка отец. Не зря же мама говорила, что живой он, живой. С тем и померла. Так до самой смерти своей и не признала отца погибшим.
Что мог Мокеев против такой женской проницательности сказать? Только рукой махнул.
Но и посоветоваться больше не с кем, только с Ниной да с мужем ее. Муж, конечно, инженер, на хорошем заводе работает, но ничего вразумительного сказать он не мог. Сказал только: сходи куда следует, предупреди – так и так, мало ли... чтоб без неожиданностей...
В общем, решили этот вопрос больше не теребить. Мокеев сказал, что сам подумает, как поступить.
Стали с Ниной по альбомам искать отцовы карточки. Пока росли – сколько смотрели, запоминали, как батя выглядит. А выросли – и альбома не найдешь в доме... И дом-то – две малогабаритные комнаты на Выборгской стороне. Перебрали все бумаги, нашли. Опять посоветовались, отобрали три карточки: первая – где отец молодой, с дядей Васей снят, пожелтела карточка, но разобрать можно; вторая – где отец с матерью, у старого их дома, на фоне, а позади, на ступеньке, сам Мокеев сидит, тогда еще Колька; третья – за столом снято, какой-то праздник был, все с рюмками, и дядя Вася тут, и прочие отцовы дружки, и родня, и мать, конечно. Это на тот случай, если понадобится спрашивать, кто есть кто, если сомнение возникнет. Тридцать лет все-таки – время!
