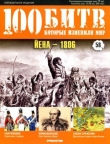Текст книги "Политическая и военная жизнь Наполеона"
Автор книги: Генрих Жомини
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
Глава 9
Возвращение Наполеона в Париж. Неудовольствия с Пруссией. Смерть Питта; он замещен Фоксом. Cиcтeмa Наполеона для федеративной державы. Иосиф сделан королем Неаполя, а Людовик – королем Голландии. Договор об учреждении Рейнского союза(1). Переговоры с Россией и Англией. Разрыв с Пруссией. Сражение при Йене и Ауэрштедте. Уничтожение прусской армии. Французы овладевают Гессеном, Ганновером и всеми землями до Вислы.
Как только двойной мир с Австрией и Пруссией восстановил, хотя на некоторое время, спокойствие в Европе, я поспешил возвратиться во Францию, где дела, не менее важные, требовали моего присутствия.
Возвращение мое в Мюнхен было истинным торжеством. Со времен Карла-Теодора(2), союзника Людовика XIV, с тех пор, как Австрия покушалась в 1778 году овладеть их Отечеством, баварцы сохраняли непримиримую ненависть к честолюбивому Венскому кабинету: они встретили меня с такою чистосердечною, такою трогательною радостью, какой никогда еще, ни в ком не встречал я. Народ, видя, как много королевская корона, которою я увенчал любимого им государя, увеличивала его могущество и внешнее к нему уважение, ясно понял различие моих поступков с действиями Австрии.
Несколько старых пушек, отнятых у курфюрстских войск в 1703 году и найденных в Венском арсенале, были по моему приказанию препровождены в Мюнхен с несколькими австрийскими орудиями, взятыми в возмездие. Их везли со всеми военными почестями. Патриотический порыв одушевил баварцев во всех концах государства.
Я воспользовался этим расположением Баварии, чтоб укрепить наши сношения родственным союзом. Принц Евгений, вице-король Италии, соединился браком с принцессою Амалиею, старшею дочерью Баварского короля, а Бертье, которого я вознес на степень владетелей, дав ему княжество Невшатель, вступил в брак с племянницею короля(3).
Пребывание мое в Мюнхене было ознаменовано большими празднествами; общая радость достигла высочайшей степени. Я не ожидал такого лестного приема при Вюртембергском дворе, где курфюрст, государь, имевший твердый характер, не питал к нам подобного расположения. Он уступил только силе, присоединившись к нам в начале похода, хотя по матери он был дядя императору Александру. Положение его владений побудило меня поступать с ним также, как и с Баварским королем: я с достаточною вероятностью полагал, что возведя его на трон, привяжу его к себе неразрывными узами. Я не ошибся в этом расчёте.
Возвращение мое представляло непрерывную цепь торжеств: в особенности вид моста в Келе представлял удивительную картину по необыкновенному стечению народа на обеих сторонах Рейна. Людовик XIV сказал, что нет более Пиренеев; я с большею основательностью мог сказать, что граница Рейна между Францией и Германией уже не существует. Мне предшествовала в столицу депутация сената, прибывшая в Вену для поздравления меня с двумя победами, подобных которым не было в летописях Франции, и которые так славно омыли стыд поражения нашего флота при Трафальгаре. Мне приготовляли в Париже блистательный прием; я въехал ночью, чтоб избавиться от торжеств, мне назначенных, которые я так хорошо умел устраивать, когда мои виды того требовали.
Новые работы ожидали меня в Париже. В то самое время, как я утверждал могущество и славу Франции на основаниях, казавшихся незыблемыми, спокойствие государства едва не рушилось странным банкротством. Барбе-Марбуа, употребив 140 миллионов на испанские делегации на Вера-Крус, ошибочным расчетом подорвал государственную казну, и для покрытия текущих расходов, должен был прибегнуть к банку, который в свою очередь был введен в затруднительное положение и его билеты, выдержавшие все бури революции, до того потеряли кредит, что испуганная толпа окружала ворота банка, требуя уплаты. Никогда положение Финансов не было в таком странном положении. Прибыв в 9 часов вечера в Тюильри, я провел ночь в поверке общественной казны, и собранный на другой день в 11 часов утра Финансовый совет должен был придумать средства к отвращению зла. Я тогда еще не имел тайной казны в Тюильрийских подвалах: надобно было открыть источники для удовлетворения первых требований: к счастью нам это удалось; доверие мало по малу было восстановлено и Париж отделался одним страхом. Это мне доказало, что политическое величие государства не может служить мерою его кредита и что необходима особая казна для непредвиденных обстоятельств.
Этот перелом повлек за собою новые политические соображения: великие события, ознаменовавшие поход 1805 года и на суше, и на море, совершенно изменили взаимное положение двух соперниц, оспаривавших друг у друга всемирную торговлю и первенство. Трафальгарский день довершил владычество англичан на морях; чтобы уравновесить их могущество, надобно было создать новую систему.
Старинная поговорка: «владыка морей, владыка земли», как ни странна с первого взгляда, но нельзя отвергать, что она, по крайней мере, отчасти справедлива, припомнив, чего достигали самые мелкие государства посредством флота, и как быстро распространилось владычество римлян, когда они освободились от соперничества с Карфагеном. Открытие Америки и изобретение компаса удвоили важность флота. Могущество, которого достигли мореплаванием Голландия, Испания и Англия утвердило эту поговорку.
Высоко ценя влияние, приобретаемое владычеством на морях, я однако же справедливо полагал, что это влияние происходит от несогласия держав твердой земли; что при согласии их поверье сделается ложным. Зная, что Франция никогда не достигнет высшей степени счастия и могущества, если не будет в состоянии, по крайней мере, бороться с Англией на морях, я уже употребил все возможные средства, чтобы восстановитъ наш флот и извлечь из побед Ульмской и Аустерлицкой средства спасти Америку, освободить Индию и набавить Европу от ига, подавлявшего ее торговлю.
Со времен моей египетской экспедиции могущество англичан в Индии утроилось: падение Типпо-Саиба, а еще более уничтожение Синдхии и берарского раджи (Рагходжа II Бхонсле), побежденных Лейком и Уэлсли при Дели, Ласвари и Ассайе, наконец покорение раджей буртпурского и голкарского возвысили могущество английской компании до 40 миллионов жителей и до 200 000 регулярных войск, частью сипаев, частью европейцев. Англия угрожала покорить всю Азию. Вся Европа принималась за оружие, чтобы не дать Франции присоединить несколько Апениннских долин, и никто не думал поставить преграды увеличению английского могущества на востоке и в Мексиканском заливе.
Для достижения моей цели мне были необходимы время и мир; но мир на таких условиях, которые не лишали бы меня средств успеть в желаемом; он должен был быть блистателен. Трудно было надеяться на подобный мир, вспомнив о сильной ненависти, которую возжигали против меня возгласы английских журналов, которых неизбежным следствием было возбуждение в душе моей чувства непримиримой вражды, чувства, мне не свойственного. Я не поклялся, подобно Ганнибалу, в вечной войне против врагов моего Отечества; но я должен был отмстить за личные обиды, причиною которых было английское правительство. Я чувствовал, что равно ненавидели и Францию, и меня самого, и что следовало готовиться к борьбе бесконечной; что оставалось, или пасть, или достигнуть моей цели: будущее величие Франции, моя честь и спокойствие равно от этого зависели.
Не имея возможности бороться с Англией ни посредством больших флотов, ни посредством высадки, я решился наносить ей удары, где только было возможно. Видя, как много вреда мог сделать Вильнёв в Антильском море, я приказал половине нашего Брестского флота отплыть в двух эскадрах: одна, под начальством Вильоме, должна была поспешить на помощь к мысу Доброй Надежды и доставить туда французской гарнизон; другая, под предводительством Лейссега, должна была сделать тоже в Санто-Доминго, где генерал Ферран выдерживал один в продолжение трех лет нападения негров и цветных. Исполнив это, они должны были держаться в море, и стараться брать призы. Вторая эскадра пришла на место назначения с вспомогательными войсками, и высадила их; но, атакованная адмиралом Дакуортом(4) на рейде, где занималась починкой кораблей, она была взята врасплох: прекрасный корабль «Империал», атакованный тремя английскими, был совершенно разбит, и его посадили на мель, чтоб не отдать неприятелю. «Диомеда» постигла та же участь; три другие корабля сделались добычею англичан.
Вильоме, извещенный на пути, что мыс Доброй Надежды подпал под власть Попема и Бэрда, которые туда высадились, направил путь свой к Мартинике. Мой брат Иероним служил под его начальством капитаном корабля. Вскоре Вильоме, преследуемый тремя эскадрами Уоррена, Стрэчена и Луиса(5), отрядил «Ветерана», которым командовал мой брат, во Францию, чтоб известить меня о потере мыса и о своем положении. Этот корабль сделал несколько богатых призов на высотах Азорских островов; но, настигнутый крейсерами около берегов Бретани, он должен был сесть на мель под защитой огня их батарей в Конкарно, близ Лориана. Эскадра Вильоме была рассеяна ужасною бурей; адмирал достиг с своим кораблем Гаваны; три другие были взяты или сожжены, один только возвратился к нашим берегам.
Адмирал Линуа(6), менее несчастливый в водах Индии, сделал там много богатых призов и долго поддерживал Иль-де-Франс. Но, возвращаясь в Европу по взятии мыса Доброй Надежды, он попал ночью в середину неприятельской эскадры, и несмотря на храброе сопротивление, был взят с кораблем «Маренго», на которым он сам находился.
Неудача этих последних попыток удостоверила меня в необходимости необычайных средств для восторжествования над Англией. Следовало найти способ уничтожить могущество и торговлю англичан на твердой земле; но я не иначе мог иметь достаточное число моряков и кораблей, как подчинив моему влиянию все прибрежные страны, а в ожидании этого я мог закрыть, обладая этими странами, всякий доступ неприятельской монополии.
Самое верное средство успеха в этом представлялось в тесном соединении держав твердой земли; но каким способом достигнуть этого общего согласия, которое было противно торговым выгодам одних и честолюбивым видам других? Последние, униженные нашими победами, дышали только мщением; первые обязаны были всем благосостоянием своим торговым сношениям под сенью благодетельного нейтралитета. Чтоб заменить это общее согласие, мне нужен был по крайней мере союз хотя одной первостепенной державы. Недавний опыт убедил меня в невозможности бороться с британским колоссом, пока мы не будем в состоянии иметь на твердой земле надежного оплота, чтобы противостоять коалициям, которые Сент-Джеймский кабинет готов был всякий раз устраивать, видя себя в опасности. Только тогда мог бы я обратить наши силы на твердой земле в вспомогательные, и имел бы возможность употребить силы, народонаселение и доходы Франции на морскую войну.
Союз Людовика XV с Австрией в 1756 году, столь славный для Шуазеля, имел подобную цель; скоро распространившись на царствующие дома Неаполя и Сардинии, он дополнил федеральную систему Франции. Союз с Испанией был возобновлен; для успеха следовало возобновить и союз с Австрией. Но была ли хотя бы малейшая вероятность привлечь на свою сторону эту державу, побежденную нами в ста сражениях и лишенную мною преобладания над Германией и Италией? Революционная война не произвела ли между этими двумя старыми союзниками если не вечную, то, по крайней мере, продолжительную вражду? Должен ли я был для окончания этой вражды лишить Францию плодов ее побед, и обогащать побежденную державу, которой выгоды могли быть одинаковы с выгодами Людовика XV, но которой правила и виды были теперь совершенно противоположны нашим?
Россия, для которой Англия была так опасна, должна была страшиться и того преобладания, более непосредственного, которым грозил я Европе. Она вооружилась против меня, и я не мог искать ее союза. Пруссия, обогащенная плодами своего нейтралитета, надеялась, что все политические бури пройдут мимо, не касаясь ее: притом же она была слишком слаба, чтобы собственным своим союзом восстановить равновесие: 7 миллионов жителей могли бы только тогда удерживать Австрию и Россию, когда бы все силы Франции подкрепляли их; а это не соответствовало цели [я говорю тут, что союз Пруссии не был достаточен для обеспечения равновесия на твердой земле; впоследствии я скажу, что она была необходимейшим союзником во время войны против севера и делала меня обладателем Германии: в этом нет противоречия. Первое предположение применяется к войне на море, при положении Европы в 1805 году, то есть к борьбе, в которой Франция желала бы употребить все свои силы, не становясь главным действователем на твердой земле. В войне же собственно на твердой земле, где вся Германия была на нашей стороне, Пруссия, присоединяясь к нам, разумеется, делала нас повелителями Европы. В первом предположении Пруссия была главным действующим лицом, во втором только вспомогательным].
Что же мне следовало предпринять? Мне оставалось одно средство: окружить себя второстепенными государствами, соединенными между собою. За благодеяния Франции они должны были действовать заодно с нею. Этим средством можно было приобрести достаточный перевес на твердой земле, чтобы удержать Австрию и Россию от новых попыток на поле брани, и иметь в последствии возможность обратить все мое могущество на Англию и все мое влияние против ее торговли.
Таковы были первоначально настоящие причины этих присоединений к моей империи этих королевств, отданных членам моей фамилии. Я искал не увеличения пространства, а источников силы для борьбы против Англии и ее союзников. По мере того, как британские эскадры приобретали новые успехи и покоряли какую-либо колонию в Индии, я спешил объявить новое присоединение какой-нибудь провинции в Европе, желая убедить англичан, что они ничего не выиграют, продолжая войну; что с каждым их приобретением, я удваиваю мое могущество, и что из моих присоединений к Франции извлекаю более выгод, нежели они из вновь приобретенных колоний.
Без сомнения эта система была противна принятым понятиям о народном праве, которого закон отвергает всякое завоевание, если наследственность или браки не дают на него права; но я не первый попирал эти, столь прославленные правила публицистов; Фридрих Великий и Екатерина II 40 лет до меня, а другие еще прежде их поступали подобным образом. Притом англичане считали себя вправе делать на море все, чему Европа не могла воспротивиться. От чего же я не мог действовать на суше, как они на море? Если море принадлежит тому, у кого наиболее кораблей, от чего же твердая земля не может принадлежать тому, у кого более батальонов, и кто умеет их употреблять лучшим образом?
Основываясь на этих рассуждениях, я решился воспользоваться важными успехами, приобретенными мною в войне 1805 года, чтобы дать решительный перевес моей федеративной системе; следствием этого было присоединение к ней Неаполитанского и Голландского королевств и образование Рейнского союза.
Между тем, как я полагал основания этой новой системы, знаменитый Питт умер скоропостижно (23 янв).
Говорят, что кончина этого великого человека была ускорена известием об Аустерлицкой победе, обещавшей продолжительное благоденствие империи, которую он хотел ниспровергнуть. Не знаю, справедлива ли всеобщая молва, но преемники Питта, назначенные королем, объявили в начале, что Англия, видя успехи наши, чувствовала необходимость переменить свою систему. Фокс был назначен главою нового правления. Выбор этого оратора, известного приверженца мира, служил хорошим предзнаменованием, хотя по положению и образу мыслей человека нельзя судить о его будущих поступках, когда он сделается министром: Людовик XII сказал, что король французский не мстит за обиды герцога Орлеанского; выбранный из оппозиции министр не был бы достоин управлять государством, если бы он не сказал также, что мнения оратора должны измениться, когда он поставлен на первую степень правления в государстве. Питт также, пока не овладел браздами правления, принадлежал к оппозиционной партии. Однако товарищи, назначенные Фоксу (Эрскин и Грей(7)), были также из числа благоразумных людей, постоянно желавших мира.
Как ни умеренны были эти министры, но все же они были англичане. Притом, с ними вместе заседали Гренвилль, Уиндем и Мойра(8), которых чувства были совершенно противоположны. Одною из первых мер, ими принятых, было объявление приказом совета (от 16 мая) блокады портов Ла-Манша, начиная от Антверпена до Гавра. Эта, совершенно новая мысль, блокировать страну по одному только приказу совета, была вполне непонятна; тем более, что на этом блокированном берегу у меня не было даже армии, которая бы угрожала англичанам. Я тотчас же отомстил бы за это алжирское распоряжение, если бы меня не остановили новые переговоры, начатые в это самое время с Сент-Джеймским кабинетом.
Положение твердой земли было не так мирно, как казалось; новые тучи, хотя еще отдаленныя, показались на всех краях горизонта.
Я получил еще в Мюнхене неожиданное известие, что прусский король не соглашался утвердить договор Гаугвица иначе, как с оговорками, которые совершенно изменяло самую сущность его. Правда, что по извинительному усердию, этот министр поступил против данных ему наставлений, и может быть, худо выполнил приказания своего государя. Положение короля было весьма затруднительно: он только что заключил с Англией договор, по которому обязывался покровительствовать в Ганновере ее войскам, которые со своей стороны должны были помогать Пруссии в случае нападения французов: этот договор был заключен позже венского [Венский трактат был заключен 13 декабря; Гаугвиц, намереваясь ехать 17-го, не почел нужным послать к королю; он прибыл только 25-гo, a 22-го был заключен в Берлине договор с Англией. Если бы Гаугвиц послал курьера (кажется дело, по важности своей, этого стоило; он бы избавил свое правительство от упреков, сделанных ему впоследствии. Англия даже утверждала, что Берлинский кабинет желал участвовать в договоре о денежном вспоможении; но Пруссия отвергает это обстоятельство]. С другой стороны император Александр предлагал королю отдать в его распоряжение всю русскую армию по договору, заключенному в Потсдаме.
Нельзя было ожидать, чтобы человек с столь благородным и возвышенным характером, как Фридрих Вильгельм, мог согласиться на союз со мною, несмотря на только что принятые обязательства. Король весьма дурно встретил Гаугвица: но выгоды государства перевесили внушения души его, ему оставалось или решиться испытать всю тяжесть моего гнева, или принять мои условия.
Увлеченный своими советниками, король решился на одну из тех мер, которые только запутывают дела, вместо того чтоб уладить их: он утвердил договор, с условием, что он временно займет Ганновер, до заключения мира, и что тогда только уступит свои три провинции, когда Англия утвердит его приобретение. Я так мало ожидал подобного поступка, что уже отдал Аншпах Баварии, имевшей полное право на это вознаграждение за уступленное ею герцогство Вюрцбург, доставшееся по Пресбургскому договору великому герцогу Тосканскому взамен Зальцбурга, отданного Австрии. Мне следовало бы подождать ратификации берлинского кабинета для распоряжения этими аншпахскими провинциями; но они уже были отданы; дело конченное нельзя было поправить. В том грозном положении, в которое поставила меня Аустерлицкая победа, я тем менее был расположен сносить унижение от короля, что смотрел с весьма хорошей стороны на поведение Гаугвица. Уступив королю богатое курфюршество взамен малых провинций, расположенных в дальнем расстоянии от его государства, я ему дал втрое более народонаселения и доходов, нежели сколько получал от него; сверх того наши границы не были смежны, как прежде, и следовательно Пруссия избавлялась от участия во всех распрях, могущих возникнуть между мною и Германиею. Это было самое полное удовлетворение, какое только я мог ему предложить, за нарушение неприкосновенности его земель. Лучше ли бы поступил я, наказав Бернадотта за исполнение моих собственных приказаний? Неужели я должен был придти с веревкою на шее в Берлин, подобно древним германским императорам, отправлявшимся некогда таким образом в Рим испрашивать себе прощения? Мне казалось гораздо проще согласиться, что мы были естественные союзники; что Ганновер принадлежал мне как победителю; уступая его Пруссии, я ее увеличивал на счет самых злейших моих врагов, производивших все коалиции; что выгоды Пруссии были в этом случае согласны с моими, и что благоразумнее было принять мои предложения, нежели удары моей победоносной армии в то время, когда Австрия была не в состоянии подать помощь Пруссии, а Россия «была слишком удалена, чтобы приспеть во время».
Врожденное благородство души – вот причина, побуждавшая Фридриха Вильгельма иначе понимать вещи и отказаться принять земли, отнятые у Георга III, с которым он был более в дружеских, нежели в неприязненных сношениях; она была достойна всякого уважения. Очевидно и то, что это приобретение сделалось бы только тогда верным, когда бы Англия признала его при заключении мира. Занятие земли войсками есть следствие побед; но обладание ею получает законность только через договоры или продолжительное овладение, которого уже нельзя более оспаривать. Итак, Фридрих Вильгельм должен был уступить мне три провинции за землю, хотя и гораздо обширнейшую, но на обладание которой он никогда не получил бы согласия Англии, что ввергло бы его в беспрерывные распри с этой державой.
Неприятное положение Пруссии проистекало из ошибки Гаугвица, который, ослепленный мнимыми выгодами заключенного договора, довольно неточно определил условия его. Он должен бы был сказать, что если уступка Ганновера сделается препятствием к заключению общего мира и что если по этому для блага Европы надобно будет возвратить его Англии, то Франция должна дать Пруссии другое, равноценное вознаграждение. Так как оговорка эта была упущена, то сам король мог сделать мне подобное предложение и, вероятно, я бы согласился. В случае же отказа с моей стороны Фридрих Вильгельм должен был избрать или опасную и неминуемую войну со мною или менее вероятную войну с англичанами. Решаясь на первое, следовало послать с наивозможной поспешностью и тайною доверенное лицо в Петербург, призвать русских в Силезию и вступить в переговоры с Австрией; решаясь на второе, следовало просто и без всяких оговорок утвердить трактат, заметив только, что если это вовлечет Пруссию в войну с Англией, то Берлинский кабинет, согласившись делить со мною удачи и неудачи войны, должен заключить наступательный и оборонительный договор, который обеспечил бы и участие его в выгодах в случае успеха. Из всех представлявшихся способов действий король выбрал самый худший, и самый невыгодный для меня, и самый опасный для Пруссии.
Еще труднее было понять, как в то самое время, когда кабинет этою условною ратификацией затруднял свои сношения со мною, он приказал одной части своих войск вступить в Ганновер, а остальных привел в состав по мирному положению и, уменьшив таким образом число их в половину, разместил по всему протяжению государства. Он думал отстранить все затруднения, прислав ко мне в Париж Гаугвица, чтобы продолжать переговоры.
Если бы отказ, им привезенный, был сопровождаем объявлением войны, я бы понял его; но принять стыд вторжения пруссаков в Ганновер и начать снова уже оконченные со мною переговоры было такое запутанное дело, которое самому искуснейшему дипломату было бы трудно уладить. Этот случай и возрастающая ненависть ко мне берлинцев, доверием которых пользовался Гарденберг(9), известный приверженец Англии, (он родился в Ганновере и был английский подданный) одним словом, тысячи обстоятельств показывали мне, что, несмотря на благородный характер Фридриха Вильгельма, я должен был остерегаться Пруссии. В Берлине все, исключая кабинет, принимало неприязненный вид; армия, стыдясь той роли, которую возлагала на нее политика, громко требовала войны; многочисленные толпы офицеров оскорбили в его собственном доме миролюбивого министра, предпочитавшего увеличение государства несвоевременной и невыгодной войне. Гусарские поручики хотели самовольно решать важнейшие вопросы политики и выгод государства.
Я тотчас же заметил все выгоды, которые можно было извлечь из моего положения относительно остальной части Европы. Пруссии должно было в две недели или решиться принять мою систему и отдаться под мое непосредственное влияние, или пасть под моими ударами.
Очевидно, что Венский трактат, обезображенный десятью строками, разрушавшими самые основания его, совершенно уничтожался: я объявил Гаугвицу, что Берлинский кабинет сам его уничтожил, и что дела должны быть подвергнуты новым переговорам. Я требовал, чтобы немедленно были уступлены обмененные провинции, потому что уже Аншпах был мною отдан; чтобы Пруссия отказалась от уступки Баварией 20 000 жителей; наконец, чтобы Берлинский кабинет запер гавани для английской торговли. Те самые министры, которые отвергли договор Гаугвица, заключенный с взаимными выгодами, почли себя счастливыми, не имея уже в своем распоряжении армии, что могут заключить со мною мир, хотя на постыдных условиях. Я отчасти ожидал этого результата: я обнял одним взглядом положение, в которое поставили короля его слабые советники и рассчитал, что он не мог иначе из него выйти, как покоряясь безусловно закону необходимости, или подвергая себя бедственным случайностям войны. При всем том, я был удивлен поспешностью, с которою он согласился на эту уступку: я привык видеть в поступках Фридриха Вильгельма глубокую обдуманность. Даже Потсдамский договор, не смотря на то, что он был заключен почти непосредственно после неприязненного движения пруссаков на Вислу против русских проистекал слишком ясно из нарушения нами неприкосновенности нейтральных владений и его можно было рассматривать как результат умно начертанной системы; он даже обнаруживал такую сильную волю, что заставлял меня ожидать скорее разрыва, нежели такой развязки, которая, без помощи оружия, выполнила все мои желания: эта победа, одержанная одним почерком пера, превзошла все мои ожидания. Я держал в своих руках Европу; надобно было этим воспользоваться; случай не замедлил представиться.
Лишь только новый трактат, заключенный 16 февраля и ратифицированный неделю спустя в Берлине, поставил Пруссию в зависимость, в которой она до сих пор не находилась, как новые неприятности чуть не произвели разрыва с Австрией вследствие двух, довольно важных происшествий: Венский кабинет, уступая мне венецианскую Далмацию, обязался передать Франции весьма важную гавань Каттаро; австрийцы ограничились тем, что вывели свой гарнизон; но русские войска 15-й дивизии, расположенной на семи островах, послали туда отряд, усиленный черногорцами, так что мы только с помощью оружия могли овладеть этим местом. Я требовал, чтобы Австрия ввела меня во владение этою гаванью, и как я не мог сухим путем пройти из Венеции в Далмацию, иначе как через Триест и Кроацию (Хорватию), то просил Австрию дозволить мне проход через ее владения, в котором она никогда не отказывала Венеции.
В Германии происшествие другого рода едва не поссорило нас: австрийцы послали свои войска занять Вюрцбург, который был уступлен не им, а великому герцогу Тосканскому. Это могло быть допущено по древним правам германской империи, но не соответствовало моим видам на Германию.
Я приказал остановить движение пленных, проходивших Швабию; присоединил к моей армии батальоны депо, которые составляли резервные корпуса Лефебра и Келлермана, что увеличило армию сверх комплекта, и предписал князю Невшательскому, оставленному мною в Баварии, не сдавать австрийцам Браунау и захватить батальоны, которые дерзнуть войти в Вюрцбург, если они не удалятся по первому требованию.
Уверенный в союзе Пруссии, я решился броситься с 250 000 на Австрию, не имевшую армии, или воспользоваться моим положением, чтобы заставить ее исполнять условия договора и вместе с тем отказаться от мысли преобладания в германской империи [Наполеон имел право требовать исполнении условий в отношении Каттаро; но ему не следовало самому нарушать договор, ниспровергая государство, им самим признанное].
Твердость моего положения и укомплектование армии тем более внушали ей опасения, что ее войска были совершенно расстроены и что напрасно ожидали возвращения пленных корпусов Макка для преобразования армии. Слабое положение Австрии и война, объявленная Англии Пруссией, делали меня властелином Германии; я решился воспользоваться удобным случаем, какого, может быть, мне никогда бы более не представилось, чтоб получить на твердой земле такое мощное преобладание, которое бы сделало меня ее повелителем и дало бы мне все средства восторжествовать в войне на море.
Я уже сделал некоторые предварительные распоряжения для приведения в исполнение этой системы, возведя моих братьев на троны, которые должны были вместе и возвысить мою фамилию, и привести пограничные державы под непосредственное влияние Франции. Императорский трон был наследственным в моем роде: я был родоначальник новой династии, которой века придали бы такую же законность, как и всем другим венценосным домам. Со времен Карла Великого ни одна корона не была возлагаема с такою торжественностью: моя власть была освящена и желанием народа и благословением церкви. Члены семейства моего, призванного царствовать, не должны были оставаться в разряде частных людей.
Мы были богаты завоеваниями: следовало привязать тесными узами эти державы к системе империи, чтобы склонить на ее сторону весы твердой земли. Мысль, что между народами нет других уз, кроме общих выгод, есть чистый парадокс. История наполнена доказательствами противного: как много встречаем мы в ней договоров, заключенных для выгод одних царствующих домов. Великое несчастие, без сомнения, когда общие выгоды народа не согласны с выгодою главы государства; но это нередко случается: сколько раз государи, и даже правители республик заключали договоры, совершенно противные выгодам народа. Свобода на море, к которой я стремился, без сомнения должна была быть желанием всех народов, и в особенности тех, которые имели приморские владения; но малые державы недостаточно ценили столь отдаленную надежду, чтобы совершенно отказаться от торговли на двадцать лет. Смотря с этой точки зрения, их настоящие выгоды, равно как и выгоды царствующих домов, согласовались против нас, как скоро мы препятствовали сношениям их с англичанами. Я не мог переменить это положение дел; довольно и того, что я заменил неприязненное для нас правительство другим, которого выгода требовала нашего союза, которого самое существование было тесно сопряжено с нашими успехами: мне не представлялось другого средства заставить действовать в нашем духе народы, совершенно к этому равнодушные, не было другого способа принудить их к пожертвованиям, плоды которых были выше их понятий.