Генри Лонгфелло. Песнь о Гайавате. Уолт Уитмен. Стихотворения и поэмы. Эмили Дикинсон. Стихотворения.
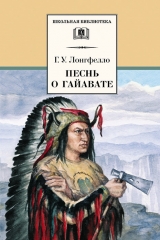
Текст книги "Генри Лонгфелло. Песнь о Гайавате. Уолт Уитмен. Стихотворения и поэмы. Эмили Дикинсон. Стихотворения."
Автор книги: Генри Лонгфелло
Соавторы: Уолт Уитмен,Эмили Дикинсон
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
Песня знамени на утренней заре. – Флаг – в оригинале вымпел (Pennant).
[Закрыть]
Перевод К. Чуковского.
Поэт
О новая песня, свободная песня,
Ты плещешь, и плещешь, и плещешь, в тебе голоса, в тебе чистые звуки,
Голос ветра, голос барабана.
Голос знамени, и голос ребенка, и голос моря, и голос отца,
Внизу на земле и вверху над землею,
На земле, где отец и ребенок,
Вверху над землею, куда глядят их глаза,
Где плещется знамя в сиянье зари.
Слова, книжные слова! Что такое слова?
Больше не нужно слов, потому что, смотрите и слушайте,
Песня моя здесь, в вольном воздухе, и я не могу не петь,
Когда плещется знамя и флаг.
Я скручу струну и вплету в нее
Все, чего хочет мужчина, все, чего хочет младенец, я вдохну в нее жизнь,
Я вложу в мою песню острый, сверкающий штык, свист пуль и свист картечи
(Подобно тому, кто, неся символ и угрозы далекому будущему,
Кричит трубным голосом: «Пробудись и восстань! Эй, пробудись и восстань!»),
Я залью мою песню потоками крови, крови текучей и радостной,
Я пущу мою песню на волю, пусть летит, куда хочет,
Пусть состязается с плещущим знаменем, с длинным остроконечным флажком.
Флаг
Сюда, певец, певец,
Сюда, душа, душа,
Сюда, мой милый мальчик, —
Носиться со мною меж ветрами и тучами, играть с безграничным сиянием дня!
Ребенок
Отец, что это там в небе зовет меня длинным пальцем?
И о чем оно говорит, говорит?
Отец
В небе нет ничего, мой малютка,
И никто никуда не зовет тебя – но посмотри-ка сюда,
В эти дома загляни, сколько там чудесных вещей,
Видишь, открываются меняльные лавки,
Сейчас по улицам поползут колесницы, доверху наполненные кладью.
Вот куда нужно смотреть, это самые ценные вещи, и было нелегко их добыть,
Их жаждет весь шар земной.
Поэт
Свежее и красное, как роза, солнце взбирается выше,
В дальней голубизне растекается море,
И ветер над грудью моря мчится-летит к земле,
Сильный упрямый ветер с запада и с западо-юга,
Шалый ветер летит по воде с белоснежной пеной на волнах.
Но я не море, я не красное солнце,
Я не ветер, который смеется, как девушка,
А после бурлит и сечет, как кнутами.
Не душа, которая бичует свое тело до ужаса, до смерти,
Но я то, что приходит незримо и поет, и поет, и поет,
Я то, что лепечет в ручьях, я то, что шумит дождем,
Я то, что ведомо птицам, в чаще, по вечерам и утрам,
Я то, что знают морские пески и шипящие волны,
И знамя, и этот длинный флажок, которые плещутся-бьются вверху.
Ребенок
Отец, оно живое – оно многолюдное – у него есть дети,
Мне кажется, сейчас оно говорит со своими детьми,
Да, я слышу – оно и со мной говорит – о, это так чудесно!
Смотри, оно ширится, – и так быстро растет – о, посмотри, отец,
Оно так разрослось, что закрыло собою все небо.
Отец
Перестань ты, мой глупый младенец,
То, что ты говоришь, печалит и сердит меня,
Смотри, куда смотрят все, не на знамена и флаги,
На мостовую смотри, как хорошо она вымощена, смотри, какие крепкие дома.
Знамя и флаг
Говори с ребенком, о певец из Манхаттена,
Говори со всеми детьми на юге и на севере Манхаттена,
Забудь обо всем на свете, укажи лишь на нас одних, хотя мы и не знаем зачем,
Ведь мы бесполезные тряпки, мы только лоскутья,
Которые мотаются по ветру.
Поэт
Нет, вы не только тряпки, я слышу и вижу другое,
Я слышу, идут войска, я слышу, кричат часовые,
Я слышу, как весело горланят миллионы людей, я слышу Свободу!
Я слышу, стучат барабаны и трубы трубят,
Я быстро вскочил и лечу,
Я лечу, как степная птица, я лечу, как морская птица, я лечу и смотрю с высоты.
Мне ли отвергать мирные радости жизни? Я вижу города многолюдные, я вижу богатства несчетные,
Я вижу множество ферм, я вижу фермеров, работающих в поле,
Я вижу машинистов за работой, я вижу, как строятся здания, одни только начали строить, другие приходят к концу,
Я вижу вагоны, бегущие по железным путям, их тянут за собою паровозы,
Я вижу кладовые, сараи, железнодорожные склады и станции в Бостоне, Балтиморе, Нью-Орлеане, Чарлстоне,
Я вижу на Дальнем Западе громадные груды зерна, над ними я замедляю полет,
Я пролетаю на севере над строевыми лесами, и дальше – на юг – над плантациями, и снова лечу в Калифорнию,
И, взором окинувши все, я вижу колоссальные доходы и заработки,
Я вижу Неделимое, созданное из тридцати восьми штатов, обширных и гордых штатов (а будут еще и еще),
Вижу форты на морских берегах, вижу корабли, входящие в гавани и выходящие в море,
И над всем, над всем (да! да!) мой маленький узкий флажок, выкроенный, как тонкая шпага,
Он поднимается вверх, в нем вызов и кровавая битва, теперь его подняли вверх,
Рядом с моим знаменем, широким и синим, рядом со звездным знаменем!
Прочь, мирная жизнь, от земли и морей!
Знамя и флаг
Громче, звонче, сильнее кричи, о певец! рассеки своим криком воздух!
Пусть наши дети уже больше не думают, что в нас лишь богатство и мир,
Мы можем быть ужасом, кровавой резней,
Теперь мы уже не эти обширные и гордые штаты (не пять и не десять штатов),
Мы уже не рынок, не банк, не железнодорожный вокзал,
Мы – серая широкая земля, подземные шахты – наши,
Морское прибрежье – наше, и большие и малые реки,
И поля, что орошаются ими, и зерна, и плоды – наши,
И суда, которые снуют по волнам, и бухты, и каналы – наши,
Мы парим над пространством в три или четыре миллиона квадратных миль, мы парим над столицами,
Над сорокамиллионным народом, – о бард! – великим и в жизни и в смерти,
Мы парим в высоте не только для этого дня, но на тысячу лет вперед,
Мы поем нашу песню твоими устами, песню, обращенную к сердцу одного мальчугана.
Ребенок
Отец, не люблю я домов,
И никогда не научусь их любить, и деньги мне тоже не до́роги,
Но я хотел бы, о мой милый отец, подняться туда, в высоту, я люблю это знамя,
Я хотел бы быть знаменем, и я должен быть знаменем.
Отец
Мой сын, ты причиняешь мне боль,
Быть этим знаменем страшная доля,
Ты и догадаться не можешь, что это такое – быть знаменем сегодня и завтра, всегда,
Это значит: не приобрести ничего, но каждую минуту рисковать.
Выйти на передовые в боях – о, в каких ужасных боях! Какое тебе дело до них?
До этого бешенства демонов, до кровавой резни, до тысячи ранних смертей!
Флаг
Что ж! демонов и смерть я пою,
Я, боевое знамя, по форме подобное шпаге,
Все, все я вложу в мою песню – и новую радость, и новый экстаз, и лепет воспламененных детей,
И звуки мирной земли, и все смывающую влагу морскую,
И черные боевые суда, что сражаются, окутанные дымом,
И ледяную прохладу далекого, далекого севера, его шумные кедры и сосны,
И стук барабанов, и топот идущих солдат, и горячий сверкающий Юг,
И прибрежные волны, которые, словно огромными гребнями, чешут мой восточный берег и западный берег,
И все, что между Востоком и Западом, и вековечную мою Миссисипи, ее излучины, ее водопады,
И мои поля в Иллинойсе, и мои Канзасские поля, и мои поля на Миссури,
Весь материк до последней пылинки,
Все я возьму, все солью, растворю, проглочу
И спою буйную песню, – довольно изящных и ласковых слов, музыкальных и нежных звуков,
Наш голос – ночной, он не просит, он хрипло каркает вороном в ветре.
Поэт
О, как расширилось тело мое, наконец-то мне стала ясна моя тема,
Тебя я пою, о ночное, широкое знамя, тебя, бесстрашное, тебя, величавое,
Долго был я слепой и глухой,
Теперь возвратился ко мне мой язык, снова я слышу все (маленький ребенок меня научил).
Я слышу, о боевое знамя, как насмешливо ты кличешь меня,
Безумное, безумное знамя (и все же, кого, как не тебя, я пою?).
Нет, ты не тишь домов, ты не сытость, ты не роскошь богатства.
(Если понадобится, эти дома ты разрушишь – каждый из них до последнего,
Ты не хотело бы их разрушать, они такие прочные, уютные, на них так много истрачено денег,
Но могут ли они уцелеть, если ты не реешь над ними?)
О знамя, ты не деньги, ты не жатва полей,
Но что мне товары, и склады, и все, привезенное морем,
И все корабли, пароходы, везущие богатую кладь,
Машины, вагоны, повозки, доходы с богатых земель, я вижу лишь тебя,
Ты возникло из ночи, усеянное гроздьями звезд (вечно растущих звезд!),
Ты подобно заре, ты тьму отделяешь от света,
Ты разрезаешь воздух, к тебе прикасается солнце, ты меряешь небо
(Бедный ребенок влюбился в тебя, только он и увидел тебя,
А другие занимались делами, болтали о наживе, о наживе).
О поднебесное знамя, ты вьешься и шипишь, как змея,
Тебя не достать, ты лишь символ, но за тебя проливается кровь, тебе отдают жизнь и смерть,
Я люблю тебя, люблю, я так люблю тебя,
Ты усыпано звездами ночи, но ведешь за собою день!
Бесценное, я гляжу на тебя, ты над всеми, ты всех зовешь (державный владыка всех), о знамя и флаг,
И я покидаю все, я иду за тобой, я не вижу ни домов, ни машин,
Я вижу лишь тебя, о воинственный флаг! О широкое знамя, я пою лишь тебя,
Когда ты плещешь в высоте под ветрами.
Перевод Б. Слуцкого.
1
Поднимайтесь, о дни, из бездонных глубин, покуда не помчитесь все горделивей и неистовей,
Долго я поглощал все дары земли, потому что душа моя алкала дела,
Долго я шел по северным лесам, долго наблюдал низвергающуюся Ниагару,
Я путешествовал по прериям и спал на их груди, я пересек Неваду, я пересек плато,
Я взбирался на скалы, вздымающиеся над Тихим океаном, я выплывал в море,
Я плыл сквозь ураган, меня освежал ураган,
Я весело следил за грозными валами,
Я наблюдал белые гребни волн, когда они поднимались так высоко и обламывались.
Я слышал вой ветра, я видел черные тучи,
Я смотрел, задрав голову, на растущее и громоздящееся (о, величавое, о, дикое и могучее, как мое сердце!),
Слушал долгий гром, грохотавший после молнии,
Наблюдал тонкие зигзаги молний, когда, внезапные и быстрые, они гонялись друг за дружкой под всеобщий грохот;
Ликуя, смотрел я на это и на то, что подобно этому, – смотрел изумленно, но задумчиво и спокойно,
Вся грозная мощь планеты обступала меня,
Но мы с моей душой впитывали, впитывали ее, довольные и гордые.
2
О душа – это было прекрасно, ты достойно меня подготовила,
Пришел черед утолить наш большой и тайный голод,
Теперь мы идем, чтобы получить у земли и неба то, что нам еще никогда не давали,
Мы идем не великими лесами, а величайшими городами,
На нас низвергается нечто мощней низверженья Ниагары,
Потоки людей (родники и ключи Северо-Запада, вы действительно неиссякаемы?).
Что для здешних тротуаров и районов бури в горах и на море?
Что бушующее море по сравнению со страстями, которые я наблюдаю?
Что для них трубы смерти, в которые трубит буря под черными тучами?
Гляди, из бездонных глубин восстает нечто еще более свирепое и дикое,
Манхаттен, продвигаются грозной массой спущенные с цепи Цинциннати, Чикаго;
Что валы, виденные мной в океане? Гляди, что делается здесь,
Как бесстрашно карабкаются – как мчатся!
Какой неистовый гром грохочет после молнии – как ослепительны молнии!
Как, озаряемое этими вспышками, шагает возмездие Демократии!
(Однако, когда утихал оглушительный грохот, я различал во тьме
Печальные стоны и подавленные рыданья.)
3
Громыхай! Шагай, Демократия! Обрушивай возмездие!
А вы, дни, вы, города, растите выше, чем когда-либо!
Круши все грознее, грознее, буря! Ты пошла мне на пользу,
Моя душа, мужавшая в горах, впитывает твою бессмертную пищу,
Долго ходил я по моим городам и поселкам, но без радости,
Тошнотворное сомненье ползло передо мной, как змея,
Всегда предшествуя мне, оно оборачивалось, тихо, издевательски шипя;
Я отказался от возлюбленных мной городов, я покинул их, я спешил за ясностью, без которой не мог жить,
Алкал, алкал, алкал первобытной мощи и естественного бесстрашия,
Только в них черпал силу, только ими наслаждался,
Я ожидал, что скрытое пламя вырвется, – долго ждал на море и на суше;
Но теперь не жду, я удовлетворен, я насыщен,
Я узрел подлинную молнию, я узрел мои города электрическими,
Я дожил до того, чтобы увидеть, как человек прорвался вперед, как воспряла мужествующая Америка,
И теперь мне уже ни к чему добывать хлеб диких северных пустынь,
Ни к чему бродить по горам или плыть по бурному морю.
Перевод М. Зенкевича.
Иди с поля, отец, – пришло письмо от нашего Пита,
Из дома выйди, мать, – пришло письмо от любимого сына.
Сейчас осень,
Сейчас темная зелень деревьев, желтея, краснея,
Овевает прохладой и негой поселки Огайо, колеблясь от легкого ветра,
Созрели яблоки там в садах, виноград на шпалерах.
(Донесся ль до вас аромат виноградных гроздий
И запах гречихи, где пчелы недавно жужжали?)
А небо над всем так спокойно, прозрачно после дождя, с чудесными облаками;
И на земле все так спокойно, полно жизни и красоты – на ферме сейчас изобилье.
В полях тоже везде изобилье.
Иди же с поля, отец, иди, – ведь дочь тебя кличет,
И выйди скорее, мать, – выйди скорей на крыльцо.
Поспешна идет она, недоброе чуя – дрожат ее ноги,
Спешит, волос не пригладив, чепца не поправив.
Открыла быстро конверт,
О, то не он писал, но подписано его имя!
Кто-то чужой писал за нашего сына… о несчастная мать!
В глазах у нее потемнело, прочла лишь отрывки фраз:
«Ранен пулей в грудь… кавалерийская стычка… отправлен в госпиталь…
Сейчас ему плохо, но скоро будет лучше».
Ах, теперь я только и вижу
Во всем изобильном Огайо с его городами и фермами
Одну эту мать со смертельно бледным лицом,
Опершуюся о косяк двери.
«Не горюй, милая мама(взрослая дочь говорит, рыдая,
А сестры-подростки жмутся молча в испуге),
Ведь ты прочитала, что Питу скоро станет лучше».
Увы, бедный мальчик, ему не станет лучше (он уже не нуждается в этом, прямодушный и смелый),
Он умер в то время, как здесь стоят они перед домом, —
Единственный сын их умер.
Но матери нужно, чтоб стало лучше:
Она, исхудалая, в черном платье,
Днем не касаясь еды, а ночью в слезах просыпаясь,
Во мраке томится без сна с одним лишь страстным желаньем —
Уйти незаметно и тихо из жизни, исчезнуть и скрыться,
Чтобы вместе быть с любимым убитым сыном.
Перевод И. Кашкина.
Странную стражу я нес в поле однажды ночью;
Ведь днем рядом со мной был сражен ты, мой товарищ, мой сын.
Только раз я взглянул в дорогие глаза, но их взгляд я никогда не забуду,
Только одно прикосновенье твоей простертой руки,
И мне снова в бой, нерешенный и долгий,
Лишь поздно вечером, отпросившись, я вернулся туда и нашел там
Твое холодное тело, мой товарищ, мой сын! (Оно никогда не ответит на поцелуи.)
Я повернул тебя лицом к звездам, и любопытный ветер овевал нас ночным холодком,
Долго на страже стоял я в душистом безмолвии ночи, и кругом, простиралось вдаль поле сраженья,
Странную стражу с горькой отрадой я нес,
Но ни слезы, ни вздоха; долго, долго на тебя я глядел,
Потом сел рядом с тобой на холодной земле, подперев рукой подбородок,
Проводя последние часы, бесконечные, несказанные часы, с тобой, мой товарищ, – ни слезы́, ни слова, —
Молчаливая, последняя стража любви над телом солдата и сына,
И медленно склонялись к закату звезды, а с восхода вставали другие,
Последняя стража, храбрец мой (не смог тебя я спасти, мгновенно ты умер,
Так крепко тебя я любил, охранял твою жизнь, непременно мы встретимся снова);
Потом кончилась ночь, и на заре, когда стало светать,
Товарища бережно я завернул в его одеяло,
Заботливо подоткнул одеяло под голову и у ног
И, омытого лучом восходящего солнца, опустил его в наспех отрытую яму,
Отстояв последнюю стражу, без смены, всю ночь, на поле сраженья,
Стражу над телом друга (оно никогда не ответит на поцелуи),
Стражу над телом товарища, убитого рядом со мной, стражу, которой я никогда не забуду,
Не забуду, как солнце взошло, как я поднялся с холодной земли и одеялом плотно укрытое тело солдата
Схоронил там, где он пал.
Перевод М. Зенкевича.
Сомкнутым строем мы шли по неизвестной дороге,
Шли через лес густой, глохли шаги в темноте;
После тяжелых потерь мм отступали угрюмо;
В полночь мы подошли к освещенному тускло зданью
На открытом месте в лесу на перекрестке дорог;
То был лазарет, разместившийся в старой церкви.
Заглянув туда, я увидел то, чего нет на картинах, в поэмах:
Темные, мрачные тени в мерцанье свечей и ламп,
В пламени красном, в дыму смоляном огромного факела
Тела на полу вповалку и на церковных скамьях;
У ног моих – солдат, почти мальчик, истекает кровью (раненье в живот);
Кое-как я остановил кровотеченье (он побелел, словно лилия);
Перед тем как уйти, я снова окинул все взглядом;
Санитары, хирурги с ножами, запах крови, эфира,
Нагроможденье тел в разных позах, живые и мертвые;
Груды, о, груды кровавых тел – даже двор переполнен,
На земле, на досках, на носилках, иные в корчах предсмертных;
Чей-то стон или вопль, строгий докторский окрик;
Блеск стальных инструментов при вспышках факелов
(Я и сейчас вижу эти кровавые тела, вдыхаю этот запах);
Вдруг я услышал команду: «Стройся, ребята, стройся!»
Я простился с юношей – он открыл глаза, слегка улыбнулся,
И веки сомкнулись навек, – я ушел в темноту,
Шагая сквозь мрак, шагая в шеренге, шагая
По неизвестной дороге.
Перевод Б. Слуцкого.
Лагерь на рассвете, седом и туманном,
Когда, проснувшись так рано, я выхожу из своей палатки,
Когда бреду по утренней прохладе мимо лазаретной палатки,
Три тела я вижу, их вынесли на носилках и оставили без присмотра,
Каждое накрыто одеялом, широким коричневатым шерстяным одеялом,
Тяжелым и мрачным одеялом, закрывающим все сверху донизу.
Из любопытства я задерживаюсь и стою молча,
Потом осторожно отворачиваю одеяло с лица того, кто ближе;
Кто ты, суровый и мрачный старик, давно поседевший, с запавшими глазами?
Кто ты, мой милый товарищ?
Потом я иду ко второму – а кто ты, родимый сыночек?
Кто ты, милый мальчик, с детской пухлостью щек?
Потом – к третьему – лицо ни старика, ни ребенка, очень спокойное, словно из прекрасной желто-белой слоновой кости;
Юноша, думаю, что признал тебя, – думаю, что это лицо – лицо самого Христа,
Мертвый и богоподобный, брат всем и каждому, он снова лежит здесь.
Перевод М. Зенкевича.
Когда я скитался в Виргинских лесах
Под музыку листьев, под ногами шуршавших (была уже осень),
Я заметил под деревом могилу солдата,
Он был ранен смертельно и похоронен при отступленье – я сразу все понял:
Полдневный привал, подъем! Надо спешить! И вот надпись
Нацарапана на дощечке, прибитой к стволу:
«Храбрый, надежный, мой хороший товарищ».
Долго я стоял там и думал, а потом побрел дальше.
Немало лет протекло с тех пор, немало событий,
Но в смене лет, событий, наедине и в толпе, я порой вспоминаю
Могилу неизвестного солдата в Виргинских лесах, с надписью краткой:
«Храбрый, надежный, мой хороший товарищ».
Перевод К. Чуковского.
Как штурман, что дал себе слово ввести свой корабль в гавань, хотя бы его гнало назад и часто сбивало с пути,
Как следопыт, что пробирается вглубь, изнуренный бездорожною далью,
Опаленный пустынями, обмороженный снегами, промоченный реками, идущий вперед напролом, пока не доберется до цели, —
Так даю себе слово и я сложить для моей страны – услышит ли она или нет – боевую походную песню,
Что будет призывом к оружью на многие года и века.
Перевод М. Зенкевича.
1
Согбенный старик, я иду среди новых лиц,
Вспоминая задумчиво прошлое, отвечаю ребятам
На их: «Расскажи нам, дед», и внемлющей мне молодежи
(Взволнован, ожесточен, я думал забить боевую тревогу,
Но пальцы мои разжались, голова поникла, – я снова
Стал раненым боль облегчать, над мертвыми молча скорбеть);
Скажи о военных годах, об их неистовом гневе,
Об их беспримерных героях (иль только одной стороны? Ведь был так же храбр и противник),
Так будь же свидетелем вновь – расскажи о двух армиях мощных,
О войске стремительном, славном, – поведай о том, что видел,
Что врезалось в память тебе. Какие битвы,
Победы и пораженья, осады навек ты запомнил?
2
О девушки, юноши, любимые и дорогие.
От ваших вопросов опять в памяти прошлое встало;
Вновь я, солдат, покрытый пылью и потом, прямо с похода
Кидаюсь в сраженье и с криком после удачной атаки
Врываюсь во взятый окоп.» Но вдруг словно быстрый поток все уносит,
И все исчезает, – не вспомню о жизни солдатской
(Помню, что было много лишений, мало утех, но я был доволен).
В молчанье, в глубоком раздумье,
В то время как мир житейских забот и утех дальше несется,
Забытое прочь унося, – так волны следы на песке смывают, —
Я снова вхожу осторожно в двери (и вы все вокруг,
Кто б ни были, тихо идите за мной и мужества не теряйте).
Неся бинты, воду и губку,
К раненым я направляюсь поспешно,
Они лежат на земле, принесенные с поля боя,
Их драгоценная кровь орошает траву и землю;
Иль под брезентом палаток, иль в лазарете под крышей
Длинный ряд коек я обхожу, с двух сторон, поочередно,
К каждому я подойду, ни одного не миную.
Помощник мой сзади идет, несет поднос и ведерко,
Скоро наполнит его кровавым тряпьем, опорожнит и снова наполнит.
Осторожно я подхожу, наклоняюсь,
Руки мои не дрожат при перевязке ран,
С каждым я тверд – ведь острая боль неизбежна,
Смотрит один с мольбой (бедный мальчик, ты мне незнаком,
Но я бы пожертвовал жизнью для твоего спасенья).
3
Так я иду! (Открыты двери времени! Двери лазарета открыты!)
Разбитую голову бинтую (не срывай, обезумев, повязки!),
Осматриваю шею кавалериста, пробитую пулей навылет;
Вместо дыханья – хрип, глаза уже остеклели, но борется жизнь упорно.
(Явись, желанная смерть! Внемли, о прекрасная смерть!
Сжалься, приди скорей.)
С обрубка ампутированной руки
Я снимаю корпию, счищаю сгустки, смываю гной и кровь;
Солдат откинул в сторону голову на подушке,
Лицо его бледно, глаза закрыты (он боится взглянуть на кровавый обрубок,
Он еще не видел его).
Перевязываю глубокую рану в боку,
Еще день, другой – и конец, видите, как тело обмякло, ослабло,
А лицо стало иссиня-желтым.
Бинтую пробитое плечо, простреленную ногу,
Очищаю гнилую, ползучую, гангренозную рану,
Помощник мой рядом стоит, держа поднос и ведерко.
Но я не теряюсь, не отступаю,
Бедро и колено раздроблены, раненье в брюшину.
Все раны я перевязываю спокойно (а в груди моей полыхает пожар).
4
Так в молчанье, в глубоком раздумье
Я снова по лазарету свой обход совершаю;
Раненых я успокоить стараюсь ласковым прикосновеньем,
Над беспокойными ночи сижу, есть совсем молодые,
Многие тяжко страдают, – грустно и нежно о них вспоминаю.
(Много солдат обнимало вот эту шею любовно,
Много их поцелуев на этих заросших губах сохранилось.)







