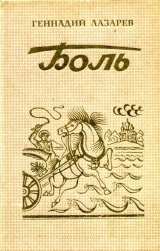
Текст книги "Боль"
Автор книги: Геннадий Лазарев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
МАТЬ
Соне дали выходной, первый за все лето. Не зная, как лучше распорядиться свободным временем, решила как следует выспаться. Однако по привычке проснулась рано. Затеяла стирку.
Пока согревалась вода, присела на порожек крыльца, задумалась чуточку.
Бывало, любила она банные дни. Конечно, доставалось, как же иначе… Но это не огорчало, потому как ни в какие другие не выпадало на ее долю столько внимания. Встанет чуть свет, а Николай, оказывается, и воды наносил, и дров, и уж над баней дымок веселой струйкой вьется.
Андрюша после школы – никуда. Свою обязанность привык исполнять с малолетства – матери белье на пруд подносить. На пруду, под вербами – мостки. И прорубь всю зиму. Белье от прудовой воды течет по рукам будто батист…
Соня зажмурилась от выплывшего из-за облачка солнца и увидела… присыпанный сверкающим снегом пруд, волнистую полоску леса на том берегу, просторное небо. Она – молодая, быстрая – стоит на мостках, ловко помахивает вальком. Звонко переговариваются, сбегая с мостков, ручейки, плещется в проруби солнышко. Подбоченясь, стоит на берегу Андрюша. Радуется и солнцу, и снегу…
Зашлось сердце. «Хоть бы одним глазком взглянуть на него, ненаглядного! Хоть бы самую малую весточку принесла птица залетная!..»
Вернувшись с пруда, развешивали белье. Из дому выходил другой помощник, Веня. Важно, как большой, спускался по ступенькам крыльца с нанизанными на бечевку зацепками. Право закреплять белье не уступал, хотя до веревки доставал только на цыпочках.
Конечно, было нелегко с троими мужиками. Но ни за что на свете не отмахнулась бы она от неисчислимых своих забот, лишь бы повторился миг, когда муж принимал из ее рук свежее белье. «Не пойму, Соня, – обычно говорил он, разглаживая на груди рубаху, – откудова в нашей избе ветром пахнет?» – И тут же умолкал; стеснялся говорить ласковые слова.
По молодости ей хватало. Много ли женщине надо? Посмотри лишний раз, приголубь добрым словом – и растает бабье сердце.
Нонче корила себя: скупилась на слова, на ласку. Думала, не ко времени. Только теперь, когда нет ее сокола, открылось ей: понапрасну не страшись растратить хорошее – не убудет. «Хоть бы на денек вернулся мой сердечный! Всю бы расплескала себя радостью! Все бы отдала, что утаила по неразумению!»
С улицы постучали…
Не иначе нищий. Много их развелось, горемычных, не раз за день постучат: то сирота обездоленный, то старец бездомный, то молодец с выставленными напоказ следами войны – поесть охота всем одинаково…
Вспомнила: с вечера оставалось немного картошек в мундире – на утро сберегла. «Подам одну, коли нищий…» – решила и пошла к воротам.
На улице – почтальон, богом обиженный Кеша, протягивал трясущейся рукой письмо.
К невзрачным треугольникам она привыкла, присмотрелась, их и сейчас – целая сумка у Кеши. Он протягивал, скалясь, добротный конверт. Такие приходили перед войной от Андрея, когда он стал командиром. На сером красиво и спокойно выделялись красные герб и марка с кремлевской башней. Портила конверт смазанная неаккуратной рукой надпечатка «Проверено военной цензурой».
– Картошенку вынесть, Кеша? – спросила Соня просто так, поглощенная и конвертом, и почерком, совсем незнакомым.
– Не-е, тетенька! Я сытый во как! – Кеша сделался серьезным и провел рукой по горлу.
– Ну и бог с тобой… – Соня тихонько прикрыла ворота.
«Об Андрюше?» – подсказало сердце, и она, в сомнении – радоваться ли? – перекрестилась, надеясь этой шаткой мерой отвести худое. Вскрыла. Выпал лист. Второй… А вот и карточка! «Андрюшенька! Сыночек! Родненький мой! Счастье-то, счастье какое!»
На карточке четверо. Прислонились к танку. «За Сталина!» – выведено крупно на башне. Озорные, веселые… В середине – Андрюша. Смеется чему-то, душевно, по-домашнему, будто не возле грозной машины, а так, на гулянье. А на маковке, как и у Вени, топорщится вихор… «Господи! Вот отец-то бы посмотрел, порадовался!»
Поглаживает Соня глянец карточки, будто ласкает сына, и смотрит, не отрываясь, на его лицо, знакомое до малейшей изгибинки, до самого крохотного пупырышка; смотрит и думает, думает.
Ох, как плакалась она перед богом за своего Николая! Шагу не смела ступить без молитвы, огонь в лампаде блюла денно и нощно. Но не дошла, видать, ее мольба, не дошла… Да и как дойти! Ведь за каждого солдата кто-нибудь да молится. А так ли уж он всемогущ, бог? Ведь он – один. А в одиночку за всем не уследишь… Однако отвести пулю от солдатика одно, может, за это господь и возьмется, если услышит молитву. Но решать, какой земле быть порабощенной, какой нет, это не его забота. Это решает сам народ, потому что без родной земли ему жизни нет. Кто он без нее, без родной земли? Камень на дороге, да и только: у всех на виду, но никому не нужен, и всяк его может пнуть.
То погладит Соня карточку, то поцелует. Никому бы не отдала своего старшенького! Упала бы наземь, обняла его ноженьки и не отпустила! Хватит, поди, с нее, она уж одного отдала, самого своего ненаглядного. Но кто, кто же тогда защитит родную землю, как не ее собственный народ? И разве можно обойтись без крови и жертв – будь хоть сто богов! – когда поганый фашист со своими железными танками прет напролом? Ведь одною молитвою от него не заслониться никак…
«Прими мое благословение, сынок, на святое ратное дело… Господи, спаси и сохрани сына моего, воина Андрея!»
Шаловливо обласкал листочки ветерок. Невесомо опустилась рядом нарядная, как на картинке, бабочка; крылышки затрепетали как реснички у спящего младенца – у Сони захолодело все внутри от незнакомости приметы.
Собралась с духом, взяла листок, который поближе. Прочитала быстро, потому что напечатано, только несколько слов чернилами, и еще раз. И еще… И стала онемевшими враз губами повторять вслух…
А когда до ее измученного догадками сознания пробилась беспощадная своей простотою суть, она ужаснулась, а в ясном небе вдруг ударил гром…
Однажды уже было. Или, может, это был сон?..
…Забылись с Николаем, загулялись за полночь. В ту пору ее уже просватали, и отец махнул на нее рукой. «Лучший сторожильщик для молодухи – ее жених!» – сказал. А они с Николаем и радешеньки, что волю им дали.
Плыл по небу веселый месяц. Дурманом исходили сады. Земля томилась в безмятежной дреме.
И услышали вдруг над прудом гул, будто распахнули затворы вешняков. Николай встревожился. Перебежали улицу, миновали проулок – там плотина видней. И увидели: отливая серебром, провисает от хребта плотины струя.
А тут уж известил о беде заводской гудок.
Народ высыпал на улицу. С топорами, лопатами кинулись через огороды к плотине.
Безобразно оскалившись, горловина с шумом выплевывала сгустки ила, хвостатые пни. Между плотиной и заводом, сокрыв русла сливных каналов, уж разлилось озерцо.
Кто-то запалил будку обходчика, и теперь было страшно смотреть на бестолково мечущихся по плотине людей. И только когда прибыли на подводах пожарные, наметился порядок.
Под берегом вода, завихряясь в огромную воронку, проваливалась, увлекая все, что попадало, за собой. Люди, выстроившись цепью, передавали из отвала камни. Крайние бросали их в стремнину.
Соня не знала к чему приложить руки, Стала было таскать камни, но на нее зашумели, чтоб не мешалась.
Внимание ее привлек разговор. Один, взъерошенный, в испачканном пиджаке, докладывал второму, с легкой сединой на висках, – должно быть, начальнику.
– В прокатном плавают доски. Расширить старое русло, чтобы уходила вода, невозможно: все давно обжито…
– Как мартен? – сухо спросил второй.
– Мартен чуть повыше. Но надолго ли это преимущество?
– А здесь? Что вы предлагаете здесь? Прошу короче…
– Возводим перемычку. Отсечем прорыв, а потом посуху отремонтируем плотину. Главное – приостановить размывание. Иначе свод рухнет! Подумать страшно, Виталий Егорович!
– Лодки, Платон Иванович! Сбивайте с замков лодки! Загружайте шлаком и гоните к прорыву!
Светало. Соня огляделась: а где Николай? Отыскала в толпе по розовой рубахе. Он стоял по пояс в воде метрах в десяти от берега на поднявшейся со дна перемычке. Там перехватывали баграми плывшие по течению лодки, загруженные камнями, накреняли, и те, зачерпнув бортами, мгновенно уходили под воду. А к тому месту, где зарождалось течение, парни вплавь подталкивали другие. «Фаина», «Сима», «Лизавета» – намалевано на бортах.

Скоро из-под воды обозначился горбатый свод дупла. То и дело шлепались в поток огромные куски породы.
Пожарные в одних кальсонах, обвязанные для страховки веревкой, подводили в провал рельсы, трубы.
Огромным диском взошло солнце, и Соня различила в верховьях пруда одинокого рыбака. И сонное светило, и рыбак в лодке до того не соответствовали происходящему, что она готова была разрыдаться: городу грозит опасность, а этот удит себе рыбку! Но, подумав, успокоилась: откуда ему знать, что здесь творится?
Взглянув в другую сторону, увидела за вешняком растянувшийся чуть ли не на полверсту обоз. Тронула за рукав начальника:
– Дяденька, глянь!
Тот, не скрывая радости, позвал молоденького милиционера:
– Карасев! Скачи! Поторопи!
Милиционер – на коня. Было хорошо видно, как его окружили возницы. С минуту он красноречиво жестикулировал, потом пришпорил.
– Что там? – Начальник в нетерпении нервно ежился, пока милиционер, вернувшись, привязывал коня к столбу.
– Дубовские мужики рожь везут на элеватор… по продналогу!
– Рожь!? – бледнея, переспросил начальник. – Вон оно что!… А я еще удивился: как дубовцы узнали? Думал, мешки с песком…
– Что делать? Что делать?.. – твердил Платон Иванович, машинально скребясь в небритом подбородке. – Дорога каждая минута, Виталий Егорович!..
– Знаю! – обрезал тот. И крикнул: – Карасев! Коня!
И опять было видно, как помахивают мужики кнутами. Но вот всадник вскинул руку, и вскоре от леса прилетело многократное эхо выстрела. И потянулись одна за другой повозки.
Опередив всех, спешили к прорыву мальчишки. Вздувались на ветру подпоясанные сыромятными ремешками рубахи. Лапти у одного явно не по ноге, бежать несподручно, и он поднимал клубы пыли.
– Ух, ты-ы! – закачал головой самый резвый; и отпрянул.
Подъехали крестьяне. Ближние поснимали шапки. Перекрестились.
Работы приостановились. Все ждали: что будет?
– Что присмирели, мужики? – нарушил молчание начальник.
– Тут присмиреешь… – отозвался бородатый крестьянин, самый старый, наверное, в обозе. – Надо бы покумекать трошки, да время нема: момент-другой – источит плотину. Ты верно сказал давеча: камушками по такой стихии – как по слону дробиной.
Крестьянин поглядел на город.
Увидел ли он, как мечутся по улицам с узлами и ребятишками бабы? Услышал ли, как постукивают топорами старики, заколачивающие на всякий случай двери и ставни родных подворий?
…Пожил он на белом свете предостаточно. Вон и внуки поднялись. И за сохой ходят, и косить горазды. Помощники!.. За это и в извоз взял. Пусть городских калачей отведают, леденцов. Неплохо бы сняться на память…
Помыкался на своем веку. Молодым на Оке баржи железом загружал, пока грыжу не заработал. В японскую шинелку пришлось надеть, и ружье дали. Правда, в окопах мокнуть и в атаки ходить не довелось – всю кампанию в обозе, но все одно – и зимой, и летом одним цветом, на голой земле под телегой. Спинушку и теперича иной раз так прихватит – ни согнуться, ни разогнуться…
И всю жизнь, сколько помнит себя, на первейшем плане был хлебушко.
Хлеб – он навроде бога. Только бог в душе, а хлеб – во всем и всюду. Он и в зыбке, разжеванный бабкой, – заместо материнской груди; и на свадебном пиру – румяным пирогом; и в короткую минуту отдыха на пашне – добрым ломтем; и на бранном поле, в котомке – заветным сухариком; и на свежем могильном холмике памятью о тебе – малой крошечкой.
Хлеб – всем трудам венец. Хлеб – извечная мера блага.
Этим летом рожь собрали знатную! Миром порешили: не тянуть, рассчитаться с государством. И надо ж такая беда, когда до элеватора меньше версты!
Так же вот раз на японской… Прижали к речке пехотный их полк с обозом. Весь день, отходя, отбивались. Зацепиться было не за что: куда ни глянь – лысые сопки. А тут еще речка! Помеха по военным меркам не ахти какая, но все же: лед не окреп, а вода, судя по крутым берегам, не мелкая. За речкой, опять же, голая степь с морозными ветрами. До основных сил три перехода. Ясное дело – в мокрой одежде далеко не уйдешь.
Зашептались в ротах о круговой обороне. Раз уж выпала судьбина, так хоть подороже жизню отдать за царя и отечество. Иного мнения, однако, был полковой командир. У него приказ: сохранить полк и довести обоз в нужное место и к нужному часу.
В тех краях темнеет мигом. Цигарку сворачивал днем, докуривай ночью. Выставили боевое охранение, разбили лагерь. Япошки тоже не дураки: кто же ночью воюет? Для острастки тресканут из пулемета: тута мы, дескать, и снова тихо.
Полковой собрал господ-офицеров, покурили, потыкали саблями в лед. Потом фельдфебели довели приказ: «Коней распрячь, повозки разгрузить и по две в ряд в речку!»
Так и сделали. Но на середине стали телеги уходить под воду. Все ж таки не зря у нее, у речки, берега крутые.
Подошел полковой:
– Ну что, братцы! Обхитрим япошку! Только, чур, патроны беречь пуще глаза! Чтобы все до одного ящичка! Кто мы без патронов, верно? Поручик, – обратился он к начальнику обоза, – чем еще богаты?
– Неприкосновенный запас овса, господин полковник! Несколько подвод сухарей, галеты…
– Вот и прекрасно! Неприкосновенный потому так и именуется, что к нему без нужды прикасаться не должно. Овес, поручик, беречь! Все остальное – да простит меня господь! – на переправу. Выстелить досуха! В такую пору за солдата с мокрыми ногами никто и полушки не даст. А без галет петербургских денек-другой – живы будем, не помрем. Так что ли, братцы?
Перевели коней, перетащили телеги с ранеными. Перенесли все до единого ящика с патронами и снарядами.
Он среди первых вел по шаткой переправе навьюченного ящиками коня и молился. Не мог он, солдат по нужде, хлебороб по духу, простить ни полковнику, ни себе дьявольского хруста у себя под ногами и под копытами своего коня! То похрустывали не успевшие размокнуть сухари. Сухари из трудного хлебушка.
Но ведь оторвались, ушли все ж таки от япошки!
И он, когда к исходу третьих суток неожиданно завидел над склоном дальней сопки дым костров, зашелся радостью, что жив. И еще больше зарадовался за тех, которых вынесли и которые теперь на повозках плакали, не таясь, в колючее сукно своих шинелок.
– Не томи душу! – сказал старик сурово, – Начинай! Ишь, как буравит!
Начальник молча тронул его за руку.
– Распрягай! – скомандовал. – Телеги одна к одной и – по сигналу!
Рабочие кинулись к повозкам.
– Де-да-а! – бежал и по-бабьи скулил жиденький мужик в заплатанных штанах. – Деда Архип, ты аль рехнулся? Хлебушек ведь, хлеб – ты аль забыл? Ведь по зернышку… А ты – в пруд, карасям, а?
– Охолонь, Санек! Охолонь… – заторопился старик. – Хлеб одно, город другое. Хлеб вырастим, были бы руки. А город, его сто лет строили. Там люди, Санек! Малые дети… – Глянул, что заводские уже выстроили повозки вдоль плотины и ждут сигнала, подошел к начальнику; проговорил, будто вынес себе приговор: – Не медлей! Не медлен…
Завертело, закружило в водовороте повозки, прижало к трубам, корежа и ломая.
«А-а-ах!» – выдохнула толпа, когда мешки последней проклюнулись из воды крохотным островком. Значит, пусть в одном месте, но выросла перемычка! Выросла! Значит, есть за что зацепиться!
Посыпались в воду камни. «Быстрее! Быстрее!» А рабочие уже подкатывали еще десяток повозок.
Когда растаяла пена, увидели: по центру и слева перемычка замкнулась. Осталось нарастить ее. И там в пять цепочек, как по конвейеру, передавали из рук в руки камни из отвала.
Однако поток, беснуясь, обрушился на стенку дупла сбоку, справа. Он слизывал плотину вдоль берега как струйка кипятка головку сахара. В провал теперь мог, пожалуй, вместиться паровоз. И свод не выдержал, рухнул. Безобразно ощетинившись шпалами, над потоком провис скелет узкоколейки.
Все, кто был на плотине, понимали: обезумевший пруд усмирить нечем.
Начальник осознавал опасность как никто другой. Его не пугали ни предстоящие дознания, ни расследования. Знавал вещи пострашнее. Не раз над головой свистели пули, металась перед глазами шашка белоказака. Для себя он давно уяснил, что страшна не смерть, страшны бесчестие, позор. Об этом и думал, представляя, с каким укором будут смотреть на него лишенные крова люди: «Не сумел… Не смог… Э-эх!»
Сзади вдруг тревожно Заржал конь, и он вздрогнул от пронзившей его мысли. Обернулся. Кони беспокойно пофыркивали и пугливо прядали ушами.
В воспаленной надеждой памяти вспыхнула в гнетущих подробностях кавалерийская атака: тачанка с осатаневшим от горячей пули коренником летела в безумном карьере к яру…
Сердце заторопилось. И, как всегда случалось в сабельных атаках, мучительно знакомо припомнилось не ко времени тихое после грибного дождя утро…
…Смастерил раз лук. Нашел в плетне тугой кленовый прут, свил из конского волоса тетиву.
Ребята завидовали. Еще бы! За двадцать шагов он всаживал стрелу в лапоть, подвешенный к заплоту.
В то утро подкараулил скворца. Охваченный азартом долгой погони, натянул тетиву. Стрела со свистом вспорола воздух, скворец бесшумно упал. Ликуя, он подбежал. Но странное дело – радость победы угасла, как только почувствовал на ладони робкое тепло.
Вспомнил, как мать выхаживала слабеньких цыплят. Взял клюв скворца в рот и стал помогать ему дышать и пускал слюну. Но птица, еще теплая, была мертва.
Он заметался по двору и спрятался в сарае за поленницу. Ему хотелось убежать от себя.
Много лет спустя добрый конь вынес его из сабельного ада в степь. Там, придя в себя, катаясь по земле и воя от боли, он понял вдруг, что и сам-то, как та несчастная пичужка, – жалкая, ничтожная частичка огромного и вечного Живого.
Как это гнусно – покушаться на Живое! Однако когда над головой занесена казацкая шашка – словом не заслониться. Когда горит крыша, в горнице сидеть у самовара вроде бы ни к чему.
Это так… Но не сам ли он породил сегодняшний пожар? Разве не он недели две назад собственной персоной буквально надрывался в старании протащить на исполкоме решение о приостановлении на плотине профилактических работ?
После засушливого, по сути голодного года выдался хороший урожай. Каждый день на элеватор из соседних деревень прибывали сотни подвод с зерном. Рабочих рук не хватало, и он, кроме прочих мер, предложил направить на элеватор бригады, которые по просьбе настырного зануды-гидролога все лето копошились около вешняков. Что они там делали – неизвестно: то ли укрепляли берег, то ли ловили в норах налимов… Гидролог, вечно небритый запойный мужичонка, слезливо просил на исполкоме продолжить работы, канючил денег и предостерегал о какой-то страшной беде, а он, как человек, облеченный немалой властью, гнул свою линию. «Бюрократы! Перестраховщики! – пошумливал и на бедолагу-гидролога, и на сомневающихся членов комиссии. – Сохранить урожай до единого зернышка – вот политическая сверхзадача момента!»
Никто не скажет, что труднее: исполнять приказ или его отдавать? Не легкая доля и у тех, и у других… Бывалые люди утверждают иное: отдающие приказы раньше седеют.
Соня увидела, как начальник нетерпеливым жестом подозвал тех, кто ему помогал. Его окружили заводские. Здесь же был и молоденький милиционер, и командир пожарных, и старик-крестьянин. И она подошла, но ее оттеснили. О чем он говорил, не расслышала, только все разом обернулись в ту сторону, где стояли нераспряженные повозки.
– Времени нет! – властно сказал начальник. – Рубите постромки… Карасев, командуй!
– Есть! – весело откликнулся милиционер. – Ребята, у кого топоры, – за мной!
Несколько рабочих побежали к повозкам.
– Не дам! Сбрую поганить не дам! – заорал хмурый возчик и, матерясь, стал из обреза всаживать пулю за пулей в водоворот. Когда патроны кончились, швырнул обрез в пруд. – Пропадите вы пропадом! – выкрикнул напоследок и, круто повернувшись, зашагал к лесу.
Вдруг со стороны огородов донесся деревянный перестук, будто поленница развалилась, – и все увидели, как одна из бань накренилась и расползлась по бревнышку. А крайний дом, добротный, крытый железом, как-то странно дернулся, словно поплавок при клеве, и – поплыл.
– Что вы там копаетесь! Карасев! – Начальник сорвал с себя кожанку, сунул ее в руки оторопевшей Сони и бегом-бегом – к стоянке. У первого подвернувшегося под руку возчика вырвал кнут, подправил вожжи, упруго оттолкнувшись, вскочил на телегу и стеганул коня.
Пегий жеребец рванул с места. Начальник направил его на стоявших у кручи рабочих. Те шарахнулись в сторону, и жеребец остался один на один и с кручей, и с бушующим внизу водоворотом. В последний миг он взвился, в муках опираясь о пустоту, и заржал так, что у Сони оборвалось все внутри. Кинулась к нему в сумасшедшем порыве; ее остановили.
– Карасев! – крикнул начальник, поднимаясь с земли и машинально отряхиваясь от пыли. – Действуй!
– Ты что же это делаешь, а? – На начальника медведем пошел старик. Взял за грудки, рванул; расползлась на плече рубаха. – Ты что делаешь? Ты лучше меня, меня убей! Они чай живые! Охолонь, ирод!
Начальник вырвался.
– Карасев, действуй, черт!
– Есть!
Рабочие испуганно метнулись к провисающему над потоком полотну узкоколейки. Полотно пружинило и передние встали на четвереньки и поползли, цепко хватаясь за рельсы и оглядываясь. А последний с искаженным от страха лицом шагал как слепой и крестился. Но вот споткнулся, нелепо взмахнул руками, сорвался. Его крутануло, раз-другой мелькнула в водовороте белая нательная рубаха…
А уж вдоль кручи мчалась в облаке пыли другая упряжка.
Мальчишка с белыми, будто льняными, волосами упал в ноги начальнику и, размазывая по лицу слезы и сопли, запричитал:
– Дяденька, миленький, останови! Пожалей!
– Э-эй, милай! Не подкачай! – стоя на возу, покрикивал Карасев и остервенело стегал коня.
– Нехристь! – сорвалась в безумный крик Соня, и в глазах у нее потемнело.
Начальник посмотрел на упавшую в пыль девчонку, отошел в сторону, где еще дымилось пепелище обходчика. Его замутило, как тогда, когда у яра ужасающим клубком неотвратимо рушилась тачанка. Он знал: память изгложет душу до самых мослов.
Плотина – стонала…
Все вокруг молчало и не имело цвета, все застыло в странной неопределенности, будто вымучивался тягостный сон, в котором не было сил ни защититься, ни позвать на помощь…
Силилась улететь и никак не могла взмахнуть крылами серая, как пыль, бабочка.
Бабочка… Соня вспомнила себя и ей стало бесконечно жаль, что она есть.
Ныло плечо. Должно быть, стукнулась о порожек, когда упала. Поднялась. И пошла. Она еще не знала, куда и зачем.
Так же вот и тогда, на плотине… Когда она пришла в себя, пруд мирно плескался у ее ног. В верховьях рыбачили. И она начала было думать о прошедшей ночи как о странном сне. Но вдруг увидела около пепелища того, кто во сне виделся ей начальником. Только теперь он был весь седой как лунь. Он сидел на бревне, обхватив голову руками, и невидящими глазами смотрел вдаль. А из-за огромного валуна целил в него камнем мальчишка с белыми, будто льняными волосами. Обходя седого, стороной, торопились к своим домам люди. Подошел Николай, молча тронул ее за плечи. И они пошли. Надо было жить: под сердцем сторожко дал о себе знать ее первенец.
Соня вошла в огород, упала в лопухи и заплакала, Плакала она тихо и долго, вспоминая день за днем всю свою жизнь.
Когда в воспоминаниях коснулась до последнего, поднялась и нетвердой походкой вернулась в дом. Решила: Вене, младшенькому своему, об Андрюше – ни слова. Иначе убежит на войну завтра же.








