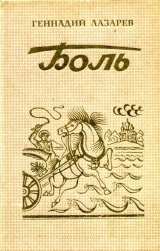
Текст книги "Боль"
Автор книги: Геннадий Лазарев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 17 страниц)
У Максима сердце чуть не разрывается, радость сдержать не может. «Набрехал-таки Сажин, подлец! Вот сволочной человек!» Смотрит то на Аленку, то на Анну, и не знает, с чего начать разговор. Анна незаметно за рукав дернула: всё, мол, хорошо.
– Шли из гостей, – кашлянув в кулак, заговорил Максим, – проведать решили… Наш-то как, пишет?
– А как же… Только некогда ему часто писать…
– И нам пишет! – обрадовался Максим. – Недавно сообщил – квартиру вот-вот дадут. Полуторку… Очередь, говорит, прямо на глазах убывает…
Аленка засмеялась.
– Что вы, дядя Максим! Какую квартиру? Они же в палатках живут! Город-то пока только в названии..
– Как так? – опешил Максим – Он же нам рассказывал, что троллейбусы у них по улицам бегают? Слышишь, мать?
А Анна – счастливая, на глазах слезы – только отмахнулась. «Бестолковый ты у меня!» – сказала, а сама все к Аленке, к Аленке так и льнет.
«Ничего, что в палатках! Выдержит!» – думал Максим, шагая за женщинами и с удовольствием натягивая поводок салазок, которые они выпросили у вахтерши. На салазках смирно лежал тощий узелок «А город, раз начали строить, все равно построят, и троллейбус пустят! – продолжал размышлять про себя Максим. – И я теперь черта с два поддамся! Дождусь внука…»
БОЛЬ
За две ночи ни на минуту не сомкнул глаз Русаков. Было сделано, казалось, все возможное. Да и парнишка цеплялся за жизнь отчаянно. Но слишком трудными были раны… И как утешение за жестокий труд, который (что ж!) не всегда кончается удачей, выпала на долю Русакова нежданно-негаданно встреча.
…Чтобы в ожидании машины не ночевать в деревне, где местному фельдшеру после смерти парня и без гостей было муторно, Русаков решил добираться домой, в город, ночным поездом.
К полустанку вышел, когда уже засинели сумерки. С заходом солнца обильно выпала роса, от земли повеяло стойкой прохладой. По краю просеки, в редкой поросли березок заклубился туман. Тревожимый легким ветерком, что нет-нет да и пробегал вдоль просеки, он наплывал к насыпи и стлался над полотном железной дороги зыбкими косматыми волнами.
На поляне, вдруг открывшейся Русакову за поворотом, притулился к бору станционный домик, понуро клонился к закату долговязый колодезный журавль. Все вокруг молчало. Русаков пожалел было, что не остался ночевать в деревне, но когда подошел ближе, домик с проглянувшими из мутных сумерек веселым крылечком и новенькой тесовой крышей не стал казаться ему таким уж одиноким и унылым. А тут еще знакомо пахнуло терпким укропным настоем… Русаков с жадностью вдыхал этот не встречаемый в асфальтовом городе хмельной воздух, и его охватила какая-то бесшабашная радость. Оттого, наверное, что вот он все еще живет, отмеривает отпущенные ему версты, хлопочет, делает свое нескончаемое дело. Не спеша, словно боясь растерять настроение, миновал огород, отгороженный от дороги пряслом. За домиком, на лужайке, бойко металось пламя костра. При виде его Русакову сделалось вовсе хорошо.
Около костра – трое: два мальчика и мужчина. Один из мальчишек – босоногий и не то чумазый, не то загорелый дочерна – сидел на земле, кутаясь в огромный дождевик. Другой – в яркой синтетической курточке – стоял у него за спиной. Мужчина, присев на корточки, помешивал в котелке варево, от которого исходил аромат грибов и лука.
«Груздянка, черт побери!» – подумал Русаков и, как дитя, зарадовался возможности посидеть около костра и отведать грибков, не базарных – слежавшихся и оттого утративших всякий вкус, – а только что сломленных под березкой, сваренных, может, в ключевой воде и слегка попахивающих дымком.
Мужчине на вид за пятьдесят, а волосы, выгоревшие за лето, как у юнца: белые, волнистые. Лицо пухлогубое, от жара костра румяное. Он прикрывался от пламени рукой, щурился.
– Добрый вечер? – сказал Русаков, подходя к костру и становясь так, чтобы быть на свету.
Мужчина окинул его взглядом с ног до головы, вместо приветствия спросил:
– Из Елового?
– Оттуда…
Мужчина привстал, протянул руку, предварительно вытерев ее быстрым движением о штаны. Назвался Федором. Был он крепко сложен и широк в плечах; клетчатая рубашка с невысоко закатанными рукавами, казалось, вот-вот лопнет по швам.
Русаков, отложив чемоданчик с медикаментами и инструментом в сторону, устало присел на березовый чурбак. Как всегда, после утомительных операций, настырно ныло сердце. Достал и незаметно положил в рот таблетку валидола. Глядя на простоватое добродушное лицо Федора, подумал о том, что такие вот мужики, как этот хозяин полустанка, живут себе вольными казаками, без особых забот и проблем, доживают до глубокой старости и, не ведая о болезнях, умирают счастливо – в одночасье.
– Как там парнишка? – неожиданно спросил Федор.
Заметив, что босоногий мальчик в ожидании ответа как-то вдруг съежился, а второй насторожился и замер, Русаков сделал вид, будто вопроса не слышал.
– Да-а, – протянул задумчиво Федор. – Видел я много смертей… Всяких…
– Воевали? – оживляясь, спросил Русаков. Сам он навоевался досыта, и всегда был искренне рад встрече с бывшим фронтовиком: разве не найдется о чем поговорить, хоть в праздник, хоть в будни?
– Всяких, – повторил Федор, – а такой глупой не припомню.
– Умных смертей не бывает… – горестно вздохнул Русаков.
– Не скажи! За войну я раз сто имел возможность башку потерять… по-умному!
– Как же это… по-умному? – Русаков невольно улыбнулся.
– Расскажи, дедусь, как штабного офицера брали! – подсказал босоногий мальчик. Мельком, будто невзначай взглянул на Русакова и, не в силах сдержать гордость за деда, вдруг застеснялся.
– Не встревай, когда взрослые разговаривают! – ласково пожурил Федор, и – Русакову: – а очень просто! Взяли мы однажды «языка». Взяли красиво, тихо. Но на нейтралке нас засекли: луна не ко времени из-за облаков. Прижали пулеметными очередями к земле: ну, как говорится, ни туды и ни сюды! А «язык», чуем, до зарезу нужен. Третью ночь подряд посылали. Командир мой, Ваня Соколок… Может, слышал? Если воевал, наверняка слышал! О нем в газетах писали!
– Может, и слышал… Времени столько прошло. Мог и забыть…
– Не-ет… – запротестовал Федор. – Таких, как Ваня Соколок, не забывают! Такой – один на весь фронт! Так вот, Соколок и говорит: «Всем не выпутаться! Кому-то одному надо обнаруживать себя…» На войне, известное дело, – не торгуются. Ты, может, и не хуже, но и не лучше остальных. И каждому остаться в живых охота одинаково. Чего уж тут торговаться… Отполз я метров на полтораста в сторону, да как черкану из автомата по ихним окопам.
Федор присел на корточки и стал помешивать в котелке. Русаков обратил внимание сразу, как подошел, на то, что Федор все делает неторопливо, степенно: и говорит, и глазами поводит, и отбрасывает пятерней прядки волос.
– Долбали они меня, веришь, – продолжал Федор весело, – минут двадцать! И все из минометов, из минометов, сволочи!
– И что было? – от нетерпения подавшись вперед; спросил мальчик в курточке.
– А ничего! Всю землю кругом перепахали минами. А на мне – ни одной царапины! Во как!
«Силен завирать, чертяка!» – с восхищением подумал Русаков.
– …А ведь я тогда каждую минуту готов был богу душу отдать! По-умному, так сказать… Сознательно… – Федор махнул рукой – что, мол, зря говорить, – помолчал. Потом вполголоса, словно рассуждая сам с собой, заговорил снова: – Парнишка из Елового раз пять, говорят, в горящий дом кидался, когда бабку в дыму искал. Пять раз смерть обманул, а на шестой… Чуешь? А бабка-то, оказывается, в это самое время за околицей бруснику собирала! Разве это справедливо? Да и ей, бабке, завтра сто лет… А ему, наверное, и восемнадцати не было!
Русакову ворошить в памяти только что пережитое не хотелось, но, увидев, как на лицо Федора тенью налетела грусть, сказал:
– Человек гибнет – вот о чем думал парнишка, когда шел в огонь. Молодой, старый – разве в этом дело… Так уж устроены люди: именно когда трудно, когда страшно, проявляется сущность каждого: слабый отвернется, сильный поспешит на помощь. Так и здесь…
Федор молча подцепил щепья, бросил в костер. Свернувшееся было пламя разыгралось, чутко вздрагивая при каждом движении ветерка.
– Сейчас ужинать станем, – сказал так, будто подытожил разговор. – Сбегай, Митя, домой! Попроси у мамки посуду. Да учти – у нас гость…
Мальчик сбросил дождевик и, сверкая босыми ногами, побежал к дому. За ним потянулся второй.
– Без нас ничего не рассказывай, дедусь! – крикнул Митя, оборачиваясь. – Мы скоро!
Немного погодя в доме распахнулось окно, и женский голос позвал:
– Папаша! Шли бы в избу! Поели бы как следует! Да и пассажира пригласи… Что вы там, как цыгане?
Федор доверительно пригнулся к Русакову, пояснил:
– Дочери погостить приехали с ребятишками… Одна из города, другая из Елового… Наговориться не могут! Даже свет вон не зажигают. Сядут в обнимку и говорят, говорят… А мальцы при мне. Этих хлебом не корми, дай про войну послушать… Наша война для них что сказки-байки, не более. Они и играют-то не во что-нибудь, а в войну. Чуешь? Не понимают, глупые, как это страшно, когда по-всамделишному… – Помолчав, добавил: – Не обессудь, тут поужинаем.
Он упорно называл Русакова на ты, хотя был явно моложе. И тот не обижался: понял, что Федор со всеми так, и не потому, что грубиян или невежа, а просто иначе, как на равных, не умеет.
Пришли мальчишки. Принесли в плетеной корзинке посуду, кринку с молоком, краюху хлеба. Федор поставил котелок поодаль от костра на разостланный дождевик. Жестом пригласил Русакова. Тот достал из чемоданчика фляжку. Предложил:
– Выпьете?
Федор размашисто откинул назад волосы. Засмеялся, простецки, по-свойски:
– Неужто откажусь! У нас говорят: после бани, перед ухой да грибами – грех великий без этого самого!
Русаков налил в подставленную кружку. Предупредил:
– Чистый… Медицинский…
– Чую!
– Разбавьте немного…
– Ни-ни! Разве можно! Разбавленный я завтра в сельпо могу приобресть. А такого – с войны не пробовал! – Увидел, что Русаков закручивает пробку, забеспокоился: – А себе, себе почему не налил?
– Свою норму я выбрал, – невесело усмехнулся Русаков. – Сердчишко барахлить стало…
– Ну, коли так – твое здоровье! – Федор выпил. Отломив от краюхи кусок, уткнулся носом, стал смачно вдыхать и охать. – Веришь, будто в окопе побывал! – Сказал и как-то странно улыбнулся; и было не понять, запечалился он или обрадовался этому воспоминанию.
Груздянка удалась. Ели прямо из котелка, деревянными расписанными в золотисто-красные цвета ложками. Потом Русаков пил с мальчиками душистое парное молоко с легкой, обволакивающей губы пеной.
Федор возился около колодца с посудой. Очищая песком котелок от копоти, он не то ворчал от неудовольствия, не то напевал – было не разобрать.
Нешумно потрескивал костер. В высоком и чистом небе беззаботно горели звезды. Наступила ночь. При неровном свете костра, а еще от усталости Русакову окружающее виделось сказочным: и мальчишки, сидевшие в обнимку и что-то лепетавшие друг другу, и белобрысый Федор, бренькающий котелком, и присмиревшие сосны, и глубокое, подсвечиваемое изнутри россыпями звезд небо.
– Дядя, – городской мальчик робко тронул Русакова за руку, – попросите дедушку рассказать, как он с товарищами немецкий танк угнал… «Тигр». Знаете, как интересно!
– А почему сам не попросишь? – спросил Русаков.
– А он уже рассказывал…
– Если просить, – посоветовал Митя, – так лучше о том, как дедуся целый взвод фашистов уничтожил.
– Один!? – удивился второй мальчик.
– А то как!
«Вот загибает! – усмехнулся Русаков. – И к чему ребятишкам голову морочит…»
Из темноты вышел с охапкой смолья Федор. Шатром сложил на прогоревший костер длинные с загнутыми концами, похожие на лыжи, щепы. Костер задымил. Встав на четвереньки, Федор дунул на угли – из дыма вырвалось пламя, лизнуло щепы и взметнулось с искрами к небу. Плывшие над дорогой хлопья тумана сделались алыми.
– Ну, ребятня, вам пора! – заключил неожиданно Федор. – За день-то набегались… Небось ноги гудят. Марш на сеновал!
Митя, ни слова не говоря, угрюмо поплелся к сараю. Второй, хочешь-не хочешь, – за ним.
Русакову было неловко держать возле себя Федора в такой поздний час. Сказать же – отдыхайте, мол, до поезда, а за костром я послежу – не хотелось: вдруг, действительно, возьмет да и уйдет в избу с дочерьми побалакать. Сиди потом, кукуй в одиночестве. Он утешал себя тем, что Федор, конечно же, рад-радешенек всякому новому пассажиру, ведь, если разобраться, без людей на полустанке не особенно сладко. Чтобы подзадорить его на разговор, спросил с деланным удивлением:
– Верно говорят, будто вы один целый взвод фашистов на тот свет спровадили?
Федор вопроса будто и не слышал. Достал папироску, сунул в пламя щепку, когда та вспыхнула, прикурил.
«И дернуло же меня! – подосадовал Русаков. – Обиделся мужик…»
– Стояли мы в ту зиму под Ленинградом… – заговорил Федор после затяжки.
«Неужели и впрямь про взвод начинает? Вроде бы и налил-то я ему немного!» – подумал Русаков с зародившейся вдруг неприязнью: терпеть он не мог, когда бывшие фронтовики приукрашали свои ратные дела.
– …недалеко от Невской Дубравки…
– Невская Дубравка!? – удивился Русаков и почувствовал, как от соприкосновения с далеким, но до боли не забытым прошлым по душе разливаются и теплая радость – от встречи с тем, с кем воевал рядом, – и щемящая грусть от сознания того, что со многими уже не доведется свидеться никогда. Теперь он готов был простить Федора: нехай брешет, коль это доставляет ему удовольствие.
– Случилось как-то затишье, – продолжал Федор. – Отпустил меня Ваня Соколок к соседям, земляка проведать. Возвращался я под вечер. Погода стояла дрянь: снегопад, ветер… Не заметил, как сбился с лыжни. Блуждал, блуждал по полям да перелескам – чую, дело швах! Замерз, как собака, а никак на знакомые места не выйду. Уж совсем стемнело, наткнулся на блиндаж… Блиндаж как блиндаж: труба из-под снега, дымок вьется. Обрадовался: хоть переночую по-человечески… Толкнул дверь. Слышу за одеялом, которым проход завешен, – смех. Ржут, думаю, черти, анекдоты травят, а тут хоть замерзай на снегу! Отбросил одеяло – да чуть было не сел тут же: немцы! Целое застолье! Елочка на столе, бутылки: рождество, видать, отмечали… Вижу, один за пистолетом потянулся. Тут уж и я опомнился! Хвать с плеча автомат, и длинной, без передышки очередью давай молотить, пока всех не уложил!
– Повезло! – заулыбался Русаков.
– Еще как! – согласился Федор.
– Ну а самое-самое из пережитого запомнилось? – спросил Русаков, уже, собственно, не собираясь принимать всерьез ни Федора, ни его истории.
– Мало ли было всякого, и интересного, и страшного – война… – становясь озабоченным, проговорил с грустью Федор. – Все разве упомнишь. Но одно… Смерть придет, а то, как погиб Ваня Соколок, не забуду!
– Погиб… Ваня Соколок?! – удивился Русаков, привыкший на войне больше удивляться тому, что остаются в живых. Удивился он не гибели Соколка, а тому новому, едва уловимому, которое проступило вдруг в облике рассказчика.
Федор тяжело опустился на чурбак, обхватил голову руками и, словно не рассказывая, а вспоминая вслух, заговорил торопливо и сбивчиво:
– В тот раз вдвоем мы ходили. Приказ был – без «языка» не возвращаться. Видать, намечалось что-то. Всю ночь мы рыскали по тылам, и только перед рассветом взяли то, что надо. Офицера! До линии фронта далеко… А мы уж замерзли и устали до смерти. Ох, и трудно ж было! Веришь, жилы лопались, пока тащили этого борова! До наших уж было рукой подать – слышим, обходят. Чуем – не уйти! Соколок приказал: жми, говорит, Федя, а я прикрою! Да чтоб этот сундук, говорит, был доставлен по адресу целехоньким. На офицера показывает, а сам улыбается… Улыбается, будто на гулянку идет! На войне – знаешь – не торгуются! Поволок я немца, а сзади уж трах-тах-тах, трах-тах-тах – началось! Да долго ли выдержит – один? Окружили Соколка, и прикладами, прикладами… Представляешь? А я, пес поганый, лежал за кустом, все видел и стрельнуть не смел!..

Костер прогорел, и только угли, тлея, струили по сторонам мрачный красноватый полумрак. Ни Русаков, ни Федор, казалось, не замечали того, что стало по-осеннему холодно. Федор продолжал сидеть на чурбаке, обхватив голову. Русаков ходил взад-вперед рядом и растревоженной памятью вспоминал свое.
– А знаешь, кто виноват, что нет Соколка в живых? – спросил Федор. И тут же зло ответил: – Я!
– Перестань! – отмахнулся Русаков. – Ничего ты не виноват. Ты выполнял приказ.
– Приказ, приказ! – зашумел Федор и, будто казня себя, жестко проговорил: – Дело не в приказе. Накануне у меня был «язык»…
– Как так!? – насторожился Русаков.
– Из блиндажа… Один из тех… Его царапнуло немного, а он под стол… Связал я ему руки и повел к своим. То ли фрицы участок оголили, то ли мне просто повезло, только вышли мы скоро к знакомой развилке. Пока были на ихней стороне, немец будто воды в рот набрал. Понимает: чуть что – крышка ему. Рыскает глазами, но молчит. Боится за свою шкуру. А как увидел наши позиции, давай на меня орать. Знает, собака, что не трону пленного, – и орет! По-нашему балакает плохо, но понять можно: оскорбляет по-всякому. Я его прикладом по загривку, он опять за свое. Не стерпел я…
– Как же это ты? – глухо простонал Русаков и суетливо стал доставать таблетку.
– Да вот так! – отрубил Федор. – Оскорблял, хаял нас немец – я стерпел. Черт с ним, думаю! Тогда смеяться он стал, надо мной, над всеми нами смеяться! Сталин, говорит, капут! Чуешь? А ты – это, дескать, я – ты, кляйне русс Иван, – гросс ди-ри-мо! Дерьмо, значит! Представляешь? И заржал… И плюнул мне в глаза…
Федор притих и торопливо, словно боясь опоздать, сунул руку под рубашку. Другой рукой нервно достал папиросу, но курить не стал, бросил ее на угли. Помолчав, заговорил с откровенной печалью.
– Как вспомню, что подвел Ваню Соколка до смерти, – веришь! – сердце так заболит, будто кто-то кровь из него, как из тряпки воду, выжимает! Мы ведь с ним в огонь, может, сто раз кидались! Я вот живу, а Соколка нет. И никто его не воротит. Я живу и по праздникам награды надеваю… И за этого «языка», что с ним тогда взяли, тоже медаль, между прочим, как с куста сорвал… А ведь скрыл, скрыл, пес поганый, что натворил накануне. И командиру не сказал, и сам от себя столько лет вот поглубже, на самое донышко упрятываю… Меня бы под трибунал надо, труса паршивого…
– Хватит, хватит тебе, – не удержался Русаков и обнял Федора за плечи. – Ребят много полегло хороших…
– А мне все кажется, – чуть слышно сказал Федор, – живы они! И Ваня Соколок жив! И парнишка из Елового! Знал я его… По воскресеньям ездил в город к невесте… В техникуме она учится… И все остальные, с кем воевал, тоже живы. Только будто разъехались мы в разные стороны, а адрес оставить друг дружке забыли… Давай выпьем за них, товарищ майор!
– Не майор я. Старшиной войну закончил..
– Старшина так старшина – еще лучше! Я ведь тоже – не генерал! Плесни капельку, старшина! Душа от боли на части разрывается…
Из ночи прилетел паровозный гудок. Пассажирский шел точно по расписанию…
ДОБРАЯ ПАМЯТЬ
В институте считали, что Лагунову повезло: вместо занемогшего шефа на зональный семинар должен поехать он. Однако сам Лагунов был иного мнения о предстоящей поездке. Если бы не Челябинск! Ведь в Челябинске живет Наташа… Но администрация и научный совет института были непреклонны. И Лагунов согласился – в Челябинске, в конце концов, говорят, миллион.
Стояла великолепная погода. Организаторы семинара хватались за голову: ежедневно с завидным постоянством повторялась одна и та же история – зал заводского клуба, где проводился семинар, после перерыва на обед катастрофически пустел. Самые дисциплинированные – десятка полтора-два специалистов – парами усаживались подальше от сцены и старательно делали вид, что внимательно слушают выступающих. Смешливый толстяк-снабженец и две дамы пенсионного возраста, неизвестно зачем приехавшие на семинар, весело судачили на свободные темы. Лагунов, устроившись поудобней возле окна, просматривал свежие газеты. Наконец, члены президиума, не скрывая удовлетворения, покидали сцену, дежурная поспешно гасила главную люстру. Участников семинара – как ветром сдувало.
Все свободное время Лагунов маялся в гостинице. Он читал то привезенный из дому скучнейший роман, то подшивку журнала «Здоровье» пятилетней давности, которую предложила ему пожилая горничная. За неделю Лагунов осилил подшивку, узнал уйму интересного, открыл у себя несколько болезней, и был, в общем-то, доволен: командировка проходила так, как и было задумано. Собственно, читал через силу, лишь бы скоротать время, лишь бы забыть, что он в Челябинске. Он подавлял в себе желание думать о том, что где-то рядом, может быть, на соседней улице живет Наташа. Он не сомневался, что рано или поздно станет думать о ней, но надеялся, что это придет, по крайней мере, – после взлета самолета.
Но не рассчитал Лагунов своих сил. Накануне отъезда на город выплеснулся веселый звонкий дождичек. Он остудил нагретый за день асфальт, омыл листву деревьев, и в приоткрытое окно откуда-то из прошлого ворвался запах сирени. И когда Лагунов, обессилев вдруг, понял, что от этого шального запаха ему не убежать, не скрыться, его душу охватило щемящее желание увидеть Наташу.
«Этого еще не хватало! Раскис, как мальчишка? А ведь как-никак пятый десяток распечатал, не восемнадцать… – Лагунов передразнил себя: – Восемнадцать… восемнадцать! А как ты поступил в восемнадцать?»
Костя Лагунов узнал Наташу в сорок пятом в ремесленном. В те годы в ремесленное многие шли: там кормили и одевали.
Наташу уважали в группе за то, что ее отец погиб в Берлине, и за то, что она, узнав о его гибели, не заплакала, а только сжалась в комок и побледнела. А еще за то, что не боялась мальчишек. Один парень, Димка-Кудряш, из эвакуированных, стал к ней приставать. Наташа сначала отшучивалась, потом стала грозиться пожаловаться мастеру – не помогало. Однажды, в темном коридоре Кудряш схватил ее и стал целовать. Наташа вырвалась и наотмашь хлестанула его ремнем с форменной пряжкой. Димка не выдал. Объяснил мастеру, что бровь рассек на скользкой лестнице. А ребятам сказал: «Пальцем тронете Наталью – брюхо распорю! Я в оккупации был, мне ничего не страшно!»
Как-то осенью Наташа отпросилась на ночь домой. А утром чуть свет – на завод. Ее станок с Костиным в одном ряду. Костя увидал, как Наташа над деталью носом клюет, метнулся, выключил станок.
– Глупая! Жить надоело?!
Наташа устало отмахнулась:
– Отстань… Мастер не видел? Деталь вот запорола. Узнает, не отпустит сегодня. А у меня мама… – И заплакала.
Костя на обед не пошел. Сказал, что ногу натер. В перерыве заговорил кладовщицу смешными историями и стянул со стеллажа заготовку из нержавейки. К приходу группы деталь была готова.
Может, с этой детали все и началось…
Встречались по выходным, тайком, чтобы не попасть на язык ребятам: быстро стишки сложат про «жениха и невесту».
Незадолго перед выпуском, весенним вечером Наташа разоткровенничалась:
– Перед самой войной от нас ушел отец. Ушел – и все… Как нам было трудно, ты не представляешь! И потому, что остались одни, и потому, что не на что было жить. Мама болела, сестренка меньше меня.. Потом он прислал с фронта аттестат… но я не смогла простить его. Деньги, которые мама получала по аттестату, жгли руки. Мне казалось, что за эти деньги отец выкупает по частям свою жестокость, свою подлость. И я боялась, что однажды он выкупит все до последней капельки и сделается чистеньким… И никто на свете не узнает, какой он… предатель…
Костя никогда раньше не видал Наташу такой взволнованной и строгой. Она словно повзрослела, и он, и радуясь, и страшась этого, боялся шелохнуться, чтобы не спугнуть свершившееся.
А Наташа продолжала:
– Говорят, дети не должны осуждать родителей. Говорят, детям надо стремиться быть лучше родителей, чтобы доказать о своем праве осуждать. А как доказать – мертвому? И можно ли простить мертвому? Не знаю… Отец предал нас. С войны он не пришел. Погиб. И погиб, я уверена, так же честно, как и миллионы других солдат, о которых мы сегодня поем песни. А думать о нем по-хорошему я все равно не могу! Мне хочется помнить о нем хорошо, а не могу! Значит, за предательство мало заплатить жизнью! Значит, жизнь не самое ценное! Есть что-то такое, что выше и значимее жизни. А что, не знаю…
Костя и не подозревал, что можно рассуждать, плохи или хороши родители, что есть чувства сильнее тех, что вызваны утратой близкого человека. Сказал неуверенно:
– Не знаю, права ли ты… Может, потом, когда повзрослею, сумею ответить…
Они шли пустынной аллеей и ни о чем больше не говорили. Им было хорошо молчать. Небо было тихим и задумчивым. Сочно пахло сиренью и чем-то еще, тонко и пронзительно: должно быть, чуть слышимый ветерок приносил с окраины, где сады, запах яблоневого цвета.
Из темноты вынырнула тень. Подошел Димка-Кудряш. Шинель на верхние крючки не застегнута – под блатного, фуражка набекрень, на виске гроздь золотистых кудрей.
– Обижает? – спросил у Наташи и зыркнул на Костю.
Наташа смутилась:
– Мы друзья… Правда, Костя?
– Конечно…
– Смотри! Предупреждать не стану! – Димка поиграл перед Костиным лицом финкой. – Р-раз – и в дамках!.. Я в оккупации был, мне ничего не страшно!
После училища Наташу оставили в поселке. Костю и еще нескольких ребят, в их числе и Димку-Кудряша, направили в Челябинск на тракторный завод.
Работали они с Димкой на одном участке, жили в одной комнате, серый в полоску костюм, купленный на две первые получки, носили по очереди: день – Костя, день – Димка. И вообще, все у них было пополам. Как они уживались – непонятно. Один спокойный, обстоятельный, другой – будто заведенный, ни минуты на месте! А главное кудрявый, целая копешка кудрей, золотых, как спелая пшеница. Надо же такому родиться! Идут вдвоем – девчонки оборачиваются. И не поймешь, то ли на Костю заглядываются, то ли на Димку.
В августе – как снег на голову! – приехала Наташа. Ее направили с завода на учебу в техникум.
Она остановилась у тетки, которая жила в общей квартире. Заниматься там было негде, и Наташа с утра уходила в парк.
После работы в условленное место приходил Костя. Они подолгу сидели около каменоломни, заполненной зеленоватой, будто подкрашенной акварелью водой, бродили среди сосен и все говорили, говорили…
Домой возвращались, когда верхушки сосен растворялись в темном небе и когда начинало казаться, что они не в парке, а в дремучем лесу.
Затихали улицы, в домах гасли огни, а они никак не могли разойтись.
Наташа жаловалась:
– И хочется учиться, И страшно! Экзамены я сдам! А вот как жить на стипендию? Одна прожила бы, не избалована! А как сестренка? Ждали-ждали, когда буду зарабатывать, и – на тебе! Сдаю экзамены, знаешь, так, лишь бы не показаться дурой. А мне четверки ставят. Я им и не рада вовсе, четверкам, даже наоборот… Хорошо бы на вечернее отделение! Пошла бы работать…
– Ничего, Наташ! Важно, чтобы зачислили! Я зарабатываю… Хватит нам…
Наташа благодарно сжала Косте руку, не дала досказать.
Вышла на балкон тетка. Пригрозила:
– Через пять минут не придешь, запру дверь и не открою!
Наташа тихонько засмеялась:
– Хоть бы не пустила! Мы бы с тобой на всю ноченьку… В нашей каменоломне. Правда?
И убежала.
Когда Костя пришел в общежитие, Димка сказал:
– Жалко. Придется уезжать из Челябы. Примут Наталью в техникум – поженитесь. Ни к чему тянуть резину. А мне ни к чему смотреть на вас. Я не Христос. Уеду…
Жизнь распорядилась, однако, по-своему. Их вызвали в военкомат. Медкомиссия определила, что у Димки непорядок с легкими. Костю отправили на Дальний Восток и зачислили на боевой корабль.
Вдогонку ему полетели письма. Наташа писала:
«…Я подсчитала, тебя не будет со мной тысячу четыреста шестьдесят дней. Тридцать уже прошло… Господи, как долго!»
Костя понимал: если Наташе не оказывать помощи, она не сможет учиться. Но откуда деньги у рядового матроса? Если уж кто и сможет помочь, так это только Димка. И Костя написал ему:
«Знаешь, Кудряш, встретил я тут девчонку, такую, что расхотелось писать Наташке. Скажи ей, что и тебе, мол, не пишет, пес эдакий! Ушел, мол, наверное, в море, за тридевять земель. В загранку… Договорились, Кудряш? Выручай!»
Написал, и его сознание пронзило какое-то тоскливое чувство, будто стал он жить на чужой планете, откуда возврата нет и не будет. Будто потерял самого себя.
Димка ответил:
«Я тебя понял. Ты думаешь, что Наталья не подождала бы тебя каких-то четыре несчастных года? Да? Ты скотина! И можешь мне не писать, и можешь не попадаться на глаза! Ты меня знаешь: Раз – и в дамках!»
– Костя!? Боже мой! Костя! – Наталья отпрянула от двери, прикрыла глаза рукой, словно не веря в реальность происходящего.
Лагунов тихо улыбался. У него было такое чувство, будто он куда-то уходил, так, на часок, зная, что его ждут, торопился и вот, наконец, – вернулся. А то, что отсутствовал он не час и не два, а больше четверти века – это неправда, это кто-то выдумал. За эти годы у каждого из них бывали свои печали и радости, свои удачи и поражения – и у того, и у другого прошла целая жизнь. А в их отношениях просто-напросто случился перерыв, какой бывает между актами в спектакле. И какая разница, сколько этот перерыв длился: час, год, десятилетия! Этой мысли и улыбался и поражался Лагунов, потому что видел в Наталье не зрелую женщину, а девчонку. Девчонку, которую когда-то любил, с которой не успел нацеловаться досыта, которую, как выясняется, не смог вычеркнуть из сердца до сих пор.
Наталья осторожно, как на яркий свет, открыла глаза:
– Ты! Ты! Костя!..
В первые минуты они, кажется, не знали, о чем говорить. Наталья суетливо перебирала тесемки скатерти. Лагунов жадно и бестолково курил.
– Ты почти не изменился, – сказала Наталья, и невозможно было понять, радуется она этому или печалится.
– Ты тоже. Все такая же… красивая!
– Как ты разыскал меня?
– Через справочное. Найти тебя легко… Назвал девичью фамилию: Вишенкова. Таких ни в Сибири, ни на Урале… Одна ты… Сказали, была такая, но стала Масловой. Я сначала не понял… Это же фамилия… – Лагунов грустно улыбнулся. Спросил: – Где он?
– Ты же помнишь, у него обнаружили туберкулез. Он заболел еще в оккупации. В нашем поселке просмотрели. Запустили… С Дмитрием мы прожили десять хороших лет! Сын… – Наталья кинулась к шкафу, достала альбом. Стала торопливо листать; из альбома на пол посыпались карточки, но она, казалось, не замечала этого. Наконец, нашла. – Смотри – сын! Это мой сын! Такой же кудрявый, как Димка! Инженер… Представляешь – на работе по отчеству величают: Константин Дмитриевич… А как у тебя? Как ты, Костя?








