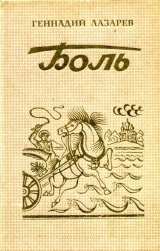
Текст книги "Боль"
Автор книги: Геннадий Лазарев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
ДОСТОИН
От нечего делать Венка фантазировал. Он воображал себя то летчиком из, «Истребителей», то голкипером Кандидовым, то чуть ли не чапаевским Петькой. Впрочем, все это никак не соответствовало его настроению. Думал он совсем о другом. Мать сетует: и жизни-то как следует еще не видела, а она, оказывается, уже отшумела. А у него дни тянутся – аж скулы ломит! Вот, и весна – наконец-то, наконец, потеснила зиму.
Ребята рассказывали: нет восемнадцати – в военкомате лучше не показываться. Военком там бывший командир полка, из фронтовиков. Злой, говорят, как черт. И управы на него – никакой.
Венка подошел к зеркалу – нет, на физиономии никаких существенных изменений! Многие в классе уже вовсю бреются, а у него – жалкий пушок. Тайком от матери постригал всю зиму, пока случайно не узнал, что от ножниц волосы жестче не становятся.
Кто из мальчишек не мечтает повзрослеть поскорее? И откуда оно, стремление у вчерашних юнцов не взять поболе, сообразуясь с новым возрастным рангом, а наоборот, дать, вернуть?
Рассчитаться… Может, это не совсем точное слово. Утвердиться! Встать в один строй с теми, кто тебя вырастил. Утвердиться соленой работой на пашне или на заводе в огненной бригаде.
И чтоб видели: ты – со всеми, твой пот – и в каравае, и в слитке.
Быть со всеми, не затеряться – это потребность души, такая же естественная, как желание помочь матери поднести тяжелое.
А когда около порога твоего дома враг, когда общими стали боль и беда… Как тогда утвердиться среди равных?
Только надев шинель.
Не потому ли очереди, где записывают в добровольцы.
На крыльце постучали, проскрипела в сенцах половица, и в горницу ввалился молодцеватый солдат в хромовых не по форме сапогах гармошкой. От него несло бражкой.
– Сержант Алексей Пряслов! – козырнул он и добавил: – Можно сказать, просто Лешка. Я от супруга вашего, Николая Архипыча, буду…
Тетя Соня побледнела, засуетилась.
– От бати! – закричал Венка.
– Я к артиллеристам за пополнением командирован, сопровождать попросили… – загордился Лешка. – Заодно вот за почтальона… – Положил на стол сверток. – И вам посылочка имеется… от Николая Архипыча. Непосредственно с боевых, можно сказать, позиций…
Усадили гостя под образа. Затеяли самовар. Пока Лешка мастерил «козью ножку», тетя Соня поманила Венку за дверь, сунула что-то мягкое, завернутое в рушник.
– Беги к Жиловым! Попроси бутылочку разливухи! У них есть…
Самовар допевал нешумную песню. Ветерок дышал о окно горьковатым сиреневым дурманом. Лешка, радуясь ударившему в голову хмелю, смачно дымил самосадом, со вкусом рассказывал:
– В полку нас семеро, земляков. Мне лично повезло: в связные взяли. Тут я как рыба в воде! С комполка за ручку, во как! Однако ж служба, я вам доложу, как взведенный, можно сказать, курок!
– Мой-то как? – робко перебила тетя Соня. – Не хворает?
– Передовая ото всех хвороб излечивает! – заверил Лешка. – Я сам до войны зубами страдал… Однако ж, представьте, всю зиму по уши в снегу, портянки, извините, по неделе перемотать негде, а зубы – ну хоть бы хны! Иной раз так охота в санбат, хоть чуток теплом подышать! Пусть, думаю, выдернут зуб-другой – не жалко! У меня их, можно сказать, целый рот… – Он добродушно заскалился в редкозубой щербатой улыбке. Вдруг посерьезнел: – Да вы гляньте, что Николай Архипыч послал!
…Отец прислал гимнастерку. Гимнастерка была линялой, пропотевшей. Дрожащими руками тетя Соня выправляла складки, скорбно разглядывала затертый воротник, тронутые ржой пуговицы.
Пальцы задержались на едва заметной повыше кармана дырочке.
– Медаль… Медаль у него! – поспешил пояснить Лешка.
Венка вспыхнул: батя-то, батя! Бывало, матери пуще огня боялся, а тут – медаль! Спрашивать, за что награда, постеснялся: медали на войне зря не дают. А мать прильнула к заскорузлой ткани, не таясь, плакала.
– Вы не беспокойтесь, – утешал ее Лешка. – Николай Архипыч при комбате службу несет, на телефоне. Можно сказать, чисто штатская работа. Человек он смирный, уважительный. Приглянулся, видать, комбату…
Тетя Соня перекрестилась на образа:
– Сохрани его бог, комбата!
В разгар сенокоса, когда земля покойно дышала парным теплом, пришла на отца похоронка…
Всю ночь просидели Венка с матерью в обнимку. Мать легонько гладила Венку, как маленького, по волосам и чуть слышно, чтобы не спугнуть память, рассказывала про отца: каким нескладным он рос мальчишкой, как однажды она разглядела в нем красивого и ладного парня и каким добрым он стал ей мужем.
Венка слушал мать и молчал. Он помнил отца по-своему: тихим и беззащитным. И ему было еще жальче его. «Таких-то за что?» – думал он, а сам уже понимал, что война жертвы не выбирает. Он слушал мать и торопил утро.
Как уехал с утра военком, так и пропал…
Венка заглянул во все кабинеты, и через час стал своим человеком. К изумлению секретарши мигом отыскал в машинке неисправность: крутанул что-то отверткой – и перестала дребезжать каретка. Важному на вид капитану, который работал за железной дверью, пообещал спилить на вязе сук, затенявший окно.
Выбрав момент, подкатил к пожилому майору. Вспомнил: до войны этот дядька работал каким-то начальником! «Свой» – подумал с надеждой и протянул книжку, в которую, чтоб не измять, были вложены документы.
Майор, отдуваясь кислым дымом дешевой папиросы и не взглянув на Венку, прочитал заявление, развернул характеристику.
Из-за этой бумажки Венка накануне весь испереживался. Пока искал Томку, комсорга, пока та сочиняла характеристику, пока нашли девчонку с отличным почерком – полдня пролетело. Побежал в школу. Сторож сказал, что Михаил Алексеевич болеет.
Супруга директора встретила Венку без восторга. Однако, узнав о его нужде, попросила подождать. Через несколько минут пригласила в комнату мужа.
Михаил Алексеевич полулежал в кресле, укутав ноги пледом.
– А я думаю, какой Смеляков? – директор слабо улыбнулся. – Ксения, – обратился он к жене, – угости нас квасом. Видишь, парню жарко… У нас, знаете, отменный квас, Смеляков! Извольте отведать?
– Я могу опоздать, Михаил Алексеевич… – взмолился Венка.
– Хорошо, хорошо! – согласился тот. – Только скажите, это вы перед зимними каникулами сорвали урок физики?
Венка, чувствуя, как у него холодеет спина, кивнул.
– Зачем? – на удивление не строго спросил директор.
– За четверть у меня выходила надежная тройка. Учитель хотел поднять до четверки. Обещал вызвать…
– Та-ак! Хорошо… А теперь скажите, дружочек мой, как вам удалось оставить без света физика с высшим образованием? Ведь во всех других классах, если мне не изменяет память, свет горел.
– Я в патроны под лампочки бумаги натолкал…
– Ты слышишь, Ксения? Так провести специалиста! За такое оригинальное применение теории ему следовало бы выставить за четверть «отлично»! – Директор притих. Долго и печально разглядывал лежавший на столе лист бумаги. – Подойди ближе, Вениамин, – проговорил тихо. – Как преподавателю мне очень горько… и я бы вас не отпустил… Ни одного! А как администратор… обязан…
Дрожащей рукой вывел размашисто: «Достоин».
– Печать бы надо… на характеристику… – посоветовал майор и, помолчав, добавил с досадой: – А вообще-то, Смеляков, я не решаю. Такими, как ты, занимается сам. Рискни! У тебя есть… веские доводы.
– Боязно… – доверительно вздохнул Венка.
Неожиданно – будто налетел ветер – захлопали двери, кто-то пробежал, бухая сапогами. «Смирна!» – донеслось с крыльца.
В коридор вошел седой с жестким взглядом военный. Он слегка прихрамывал, и когда приблизился, Венку неприятно резануло тягучее поскрипывание протеза. Остановился около кабинета, достал ключ.
– Смеляков, девятиклассник… – поспешил представить Венку майор. – В добровольцы просится, товарищ комиссар!
– Возраст? – Военком колюче окинул Венку с ног до головы.
– Восемнадцать, товарищ военный комиссар! – отрешенно выпалил Венка и, выбивая башмаками пыль, подошел. Не выдержав взгляда военкома, добавил: – Скоро…
Военком молча пригласил майора в кабинет. Толкнул за собою дверь. Но та полностью не закрылась. Венка тут как тут, ухом – к щели.
– У него отца убили, Иван Павлович, – заговорил майор. – Брат – танкист, предположительно комвзвода. Парнишка рвется на фронт…
Некоторое время было тихо. Должно быть, военком знакомился с бумагами.
– Скажи, Рощин, – спросил негромко – почему ты усердствуешь с этими ребятами?
– Разнарядка, товарищ комиссар… – буркнул майор.
– Ты подумал, что они только одно исправно умеют: лоб под пули подставлять! Ты сперва научи их солдатскому делу! Укомплектуй школы военруками из фронтовиков. Вон их сколько на толчке семечками торгует…
– Кто пойдет на такую зарплату…
– Всем ее нынче не хватает! – отрубил военком. – Ты с этим, Рощин, не шути! У призывника на брюхе должна быть мозоль! А ты посмотри, как они по-пластунски? Стыд! Носом землю скребут, вроде спрятался, а задницу за версту видно!
– Отпустите на фронт, Иван Павлович! Который раз прошусь…
– На фронт не отпущу, потому как проку от тебя никакого. А вот из майоров в сержанты произведу, если дело не поправишь! Будешь повестки разносить по плану мобилизации. Ясно?
– Так точно…
– Ну, а теперь, если все ясно, позови – как его?..
Венка вечером – никуда. Как оставишь мать одну?
Смеркалось. Подернутое рваными облаками небо жалось к земле. На улице – никого. Только под старым вязом, возле накатанных в пирамиду бревен, маячила фигура Мурзилки. Это было все, что осталось от некогда шумной ватаги, известной на всю Первомайскую. Если посчитать – целый взвод собирался, бывало, под вязами. И до того стало грустно – хоть реви. Ни поговорить, ни посоветоваться… Рассказать некому, где сегодня был, с кем разговаривал. Не пойдешь же к матери сообщать о заявлении – ульется слезами.
Мурзилка надежный парень, но у него в жизни свое – рыцари, мушкетеры. Да еще мороженое, ситро. Сейчас ничего этого нет, и как он обходится – сказать трудно. А бывало, увидит эскимо – и уши от волнения как маковый цвет.
Иногда под вяз приходят девчонки: Веруся и Галька.
Верусю Венка признавал: она из одного с ним класса и не боится пройти по Степанидиному переулку. А ведь там, по рассказам старух, в старое время водились оборотни!
А вот она и сама! Венка задернул занавеску так, чтобы ему улицу было видать, а его с улицы – нет.
Веруся шла не спеша. У нее такая походка: не суетливая, плавная, будто плывет по гладкому озеру, стоя в ладье. За то, что длинноногая и большеглазая, дразнили ее балериной.
Верусе с отцом хорошо: обнова чуть ли не каждую неделю. На ней и сейчас – туфли с ремешком. Таких ни у одной девчонки на всей Первомайской!
Не успела Веруся дойти до вяза, у соседей хлопнула калитка, показалась Галька.
Галька непонятная, больше молчит. Придет под вяз – посидит, послушает и уйдет. Простенькая: русые волосы, к лету – веснушки.
Жиловы приехали из деревни года за три до войны. Купили и за одно лето переделали на свой лад дом пятистенник.
Особого внимания на них не обращали; приехали люди – ну и пусть себе живут. Когда пришло трудное время, многое стало видеться по-иному.
Жилов с бойни, где работал бойцом, обычно возвращался в сумерках. Всегда при нем тяжелый набрякший рюкзак. По песку ему идти трудно, но он все-таки ходит именно там, вдоль палисадников: вдруг удастся проскользнуть незамеченным. На панели пришлось бы, после каждого шага подтягивая несгибающуюся ногу, шаркать. Тогда все бы слышали – идет, несет свою ношу Жилов. Подкрадывался к дому: любил проверять Барса. Тот – начеку, упиваясь злобой, грызет подворотню. «Чё, рад?» – радовался Жилов.
Кто-то из домашних торопливо сбегал с крыльца. Скрипел засов…
А вскоре разливался по улице сумасшедший аромат: жарили у Жиловых телячьи потроха.
…Галька на ходу поправила воротничок красивой голубой кофточки. «И эта как артистка!» – усмехнулся Венка. Вдруг его будто обожгло: кофточка-то материна, девичья, как она говорила, с кружевной вставкой! Мать надевала ее разве лишь по праздникам! А он сам отнес Жилову за бутылку разливухи! Как же не глянул тогда, что в рушнике? Торопился…
Венка посмотрел на мать. Та штопала. Хотел незаметно прошмыгнуть в сени, но мать остановила:
– Позанимался бы… Физику повтори. У Андрюши «отлично» стояло, а у тебя… Все книжки да романы. Рано, поди, про любовь-то?
– Сам знаю… – буркнул Венка и, на ходу напяливая старенький отцовский пуловер, заторопился на улицу.
Мурзилка сидел на бревнах и ежился: похолодало. Длинный, худой, он, словно кузнечик: торчали в разные стороны локти и коленки. Девчонки в сторонке лузгали семечки.
Венка подал Мурзилке руку. Тот стиснул ее и от удовольствия захлопал глазами.
– Чего нового? – Венка ни к кому конкретно не обращался и искоса поглядел на Гальку. Он еще не знал, как придраться к ней, и решил сперва взвинтить себя. Спросил у Мурзилки: – Ситро пил сегодня?
Тот обиженно засопел – всегда так; то про ситро заладит, то Мурзилкой обзовет. А какой он Мурзилка, если уже вовсю курит? Разложил на бревне кисет, кресало, витой шнур из хлопчатки.
Венка смастерил самокрутку, выбил искру; шнур зачадил.
– Не стыдно?.. – с упреком проговорила Галька.
– Еще чего! – Венка обрадованно крутанулся.
– Не слишком ли ты сегодня ершистый? – Веруся улыбнулась. – Со всеми будешь задираться или только с сильным полом?
– Тебя не трону… Ты гость. Эту, – Венка кивнул в сторону Гальки, – тоже нельзя. Вон она какая расфуфыренная! Только кофточка чуток великовата… Не с чужого ли плеча?
Галька как-то странно ойкнула, закрыла лицо руками.
– За что ты ее? – холодно спросила Веруся. Помолчав, добавила: – Сам-то посмотри на себя. Вырядился, как петух…
Венка опешил. От обиды потемнело в глазах.
– Да ну вас! – сгорбившись, метнулся прочь.
Подошел к дому Жиловых, забарабанил по наличнику.
В ярости Барс заметался около щели. Хлопнула дверь.
– Фу, Барс! Фу!
Калитка приоткрылась, выглянул Жилов.
– Там Галька… в кофте… – заторопился Венка.
– Ну и чё?
– Я рассчитаюсь, дядя Игнат! Ей-богу! Верните! А хотите, отработаю? Рук не пожалею… дядя Игнат!
Жилов сказал дружелюбно:
– А чё… заходи как-нибудь. Можа, сторгуемся…
Венка уныло брел вдоль улицы. «Вот тебе и друзья! – думал он. – Нашли чем упрекнуть! Как петух! Это я-то?..»
Конечно, надо обладать немалым нахальством, чтобы появляться на людях в таком наряде, как отцовский пуловер! В свое время он был хорош: вишневое удачно гармонировало с серым. Купить такую модную вещь отец не отважился бы: пуловер подарили ему на службе за ударную работу. Но носил охотно. Пуловер поизносился, и мать заштопала его пестрыми нитками из распущенного шарфика. Красильщик взялся выкрасить в однотонный цвет. Но не получилось… Вишневое стало синим, а серое – ядовито-зеленым. Такого цвета были попугаи на довоенных переводных картинках.
Дышал в лицо ветерок. Шелестели листвой липы. Вдалеке угадывалось очертание мартена. Между щитами затемнения временами вспыхивали сполохи.
Около Степанидина переулка Венку окрикнули:
– Эй, друг, одолжи закурить!
Из темноты вышли двое. Один долговязый, другой чернявый.
Венка протянул кисет. Чернявый зачерпнул горстью.
– Про запас… Не возражаешь?
– Бери, чего там… – согласился Венка.
Из-за угла показался парень с гитарой.
– Да это никак из-под вяза? – сказал он и нехорошо засмеялся. – Балерина к тебе бегает, а?
– К нему, к нему! – обрадовался чернявый.
– А тебе-то что! – робко огрызнулся Венка. Он чувствовал, что сегодня ему несдобровать, но угождать не собирался. Подумаешь – трое! Он прием знает – жевать нечем будет!
– Балерина – девочка что надо! Гитарист вихлялся, словно в бока ему тыкали палками. – Ты ей скажи, мы каждый вечер здесь, пусть заходит. Не обидим… Верно, ребятишки?
Те заржали. Венка шагнул и, метя в то место, где колечком закручивались у гитариста космы, выбросил кулак. Кажется, достал. Но и у самого от удара в скулу перед глазами рассыпались искры. Забыв о приеме, замахал руками налево и направо.
Но вот долговязый, изловчившись, так припечатал, что Венка рухнул. По переулку гулко протопали. Прильнув к земле, он заскулил от обиды. Заскреблась тоскливая мысль. Неужто он взрослый только для своих первоклашек? А как же тогда понимать Михаила Алексеевича, директора, который и встретил и проводил уважительно? Да и в военкомате с ним поговорили как положено…
Вдруг понял: просто те трое собрались, как шакалы, в стаю. Стаей ведь удобней творить черное. Когда стаей, спросить вроде не с кого.
Встал, отплёвываясь песком, подошел к колонке. От холодной воды немного успокоился.
Под вязом все по-прежнему, только Галька ушла. Мурзилка, сложившись в зигзаг, обнимал колени; Веруся смотрела на небо. Как только Венка подошел, она громко объявила: «Ну, мальчики, я пошла! Уже поздно…»
– Погоди! – буркнул Венка, удивляясь ненормальной глухоте своего голоса, заволновался. – Я провожу…

Веруся глянула из-за плеча пристально и не строго.
– Я тоже с вами! – зашумел Мурзилка.
– Тебе, букварь, пора домой, – улыбнулся Венка и дал Мурзилке щелчка, подошел к Верусе.
– Пойдем, что ж… – сказала та негромко, словно хотела, чтобы не слышали другие. – Только знай, не интересно с тобой…
– Знаю… Да я так… Не идти же тебе одной!
– Ходила же раньше…
– То раньше…
Облака, растаяли. В высоком небе покойно мерцали звезды. Как живой, вздыхал завод.
Венка шел чуть поотстав. Он до боли косил глазом, разглядывая такой знакомый и вроде бы совсем незнакомый профиль и прямые, водопадом стекающие на плечи волосы.
Снова все перемешалось: вратарь Кандидов, Веруся, вихлястый с гитарой… и эта маленькая радость от еще одного ушедшего в прошлое дня. А в стороне недосягаемым для всего этого суматошного вихря образов оставалось, как глыба, заявление, запертое в сейфе злого, как черт, военкома.
Глава седьмаяВОЕНРУК
Военрук вызывал мальчишек, которые, по его мнению, подходили для задания. А оно было нешуточное: вывезти с лесных делянок полтысячи кубометров дров. Он сидел за партой, а кандидат в отряд – за столом, на котором лежали винтовка, автомат и пара гранат. В учебных целях стволы у оружия были просверлены, а гранаты начинены опилками, но все равно – рядом с таким внушительным арсеналом игривое настроение, принесенное с улицы, вмиг улетучивалось. Военрук считал, что ученик, побывав на рабочем месте преподавателя, непременно вырастет в собственных глазах, и тогда с ним можно разговаривать по-взрослому. А за парту он сел еще и потому, что там удобней писать.
Прежде чем сесть, приподнимал измочаленную осколком правую руку и бросал высохшую кисть со смиренно сложенными в щепоть пальцами на тетрадь – чтобы та не двигалась. Левой выписывал в маете одному ему понятные знаки.
– А тебя, Малышев, я взять не могу… Ты уж меня извини… – Военрук решительно провел в тетрадке жирную линию.
Мурзилка оторопело захлопал глазами:
– Я что – хуже других?
– Не заставляй меня оправдываться, Малышев… Иди!
– Товарищ лейтенант! – взмолился Мурзилка. – Вы думаете, если я не такой толстый, как некоторые, так у меня и силенки нету? В классе я, между прочим, больше всех подтягиваюсь.
Уловив во взгляде военрука нерешительность и понимая, что это его последний шанс, Мурзилка вытянул руки и грохнулся на пол.
Нерешительность военрук проявил по простой причине: то, что он лейтенант, знали все, потому, что за неимением другой одежды, он носил военную форму, а в петлицах гимнастерки следы от кубиков еще не выцвели, но вот «товарищем лейтенантом» называли его впервые.
Мурзилка, между тем, раз за разом продолжал отжиматься от пола. «Однако силен малец!» – подумал военрук и приказал:
– А ну, хватит, Малышев! Встать!
Под вечер выгрузились на небольшом разъезде.
Венка, уставший за долгую зиму от всяческих переживаний, обрадовался простору, как малое дитя игрушке. Скинул ботинки и бегом-бегом по теплой траве в березовую рощу.
Тихо умирал день. Тягучее безмолвие нарушалось только обеспокоенным гудением припозднившейся пчелы, запутавшейся в цветке. Пучки закатных лучей, наискось перечеркнувшие березняк, до того были насыщены светом, что их можно было, казалось, тронуть и отвести, как нити паутины, в сторону.
– В две шеренги становись! – раздалась команда, и Венка, успевший-таки веточкой высвободить пчелу из плена, побежал в строй.
Хозяин на разъезде Маркин. Ему за пятьдесят. Он толст, улыбчив и в своих непомерно широких штанах и потрескавшихся на сгибах галошах очень похож на загулявшего запорожца, какими их обычно рисуют в книжках. Только форменная фуражка выдает в нем должностное лицо. Все обязанности, предписанные уставом железных дорог – от стрелочника до начальника – возложены на него. Фактически их исполняет жена Маркина, тетя Поля. Но она никем официально не числится, так как по штатному расписанию второй единицы на разъезде не предусмотрено. Чтобы подзаработать, она без лишних разговоров согласилась занять в отряде должность повара.
Ознакомившись с документами, Маркин показал на притулившийся к лесу барак с заколоченными окнами и на копешку посеревшего сена.
– Все в вашем распоряжении, – сказал он.
Выбрали самую большую комнату, наносили сена, которое внутри копешки сохранило стойкий аромат. В бараке тонко запахло земляникой и душицей.
Когда из леса стали наплывать сумерки, разожгли костер, поужинали, сложив в общий котел у кого что было.
Военрук проснулся на рассвете. Не спалось, и он уж в который раз стал проигрывать в уме предстоящий день.
Выходило так, что на делянку они попадут только после обеда. Маркин предупредил: лесничий раньше не появится. С одной стороны, это хорошо. Можно не спеша наточить топоры, развести пилы. С неотлаженным инструментом намозолят пацаны руки – и только.
С другой стороны, уже сегодня ребята подчистят домашние запасы. А завтра? Попробуй накормить двадцать пять гавриков, когда в распоряжении овсяная крупа, суп-концентрат с сомнительным привкусом мяса и мутное подсолнечное масло, пригодное разве лишь для смазки колес! С таким ассортиментом не разбежишься. Денек-другой мальчишки потерпят, а потом застучат ложками. Ему выдали надежные, вроде, документы. В них строго предписано председателю соседнего колхоза обеспечить отряд. Но как? Хлебом – по карточкам, картофелем – в меру, мясом – при наличии, молоком – по возможности. Надо идти договариваться… Значит, придется просить лесничего посмотреть за ребятами. Одних же их не оставишь, такую ораву! Надо сразу загрузить их работой, чтобы они смирились с тем, что здесь не пионерлагерь, а заводской участок. Иначе задание не выполнить до морковкиного заговенья.
Военрук, прислонившись к стене, натянул сапоги. Вышел.
Тетя Поля уже разводила костер.
– С дисциплиной, гляжу, порядок на транспорте? – на всякий случай немного заискивая, заговорил военрук.
– А как же! – подтвердила тетя Поля. – А вот как у вас – не знаю. Ведра-то пустые?
– Извини, тетя Поль, извини! Это мы сейчас поправим…
– Соль не забудь! – напомнила тетя Поля. – У нас у самих нету…
– Тьфу ты, черт! – выругался военрук. – Ведь взвешивала же, взвешивала – точно помню! – добавил он, картинно укоряя себя перед тетей Полей и мысленно костеря на чем свет стоит кладовщицу с крашеными губами, которая насчет соли словом не обмолвилась. «Теперь вот и соль добывай… Чтоб ей всю жизнь пересоленное есть, заразе!» – еще раз подумал военрук о кладовщице, которая, выходит, по-наглому обманула его: ведь в накладной соль была выписана.
Вернулся в барак. Помогая себе зубами, развязал мешок. Кружкой отсчитал двадцать семь порций. Тетя Поля взвесила ведро в руке, неодобрительно покачала головой. Военрук смутился, сожалеючи пожал плечами: «Норма…»
Бойко играло в костре пламя. Из ведер поднимался легкий парок. «Закипит – и буду играть подъем», – решил военрук и вспомнил, как в училище будил их горнист, как серебряно пела труба, будоража душу, и пошло, пошло… Вспомнил… и глянул с ненавистью на плетью висевшую руку.
…Он был строен и синеглаз, военрук.
Офицерская фуражка, с которой он сжился настолько, что не мыслил себя без нее, делала его еще совсем юное лицо суровее. Но стоило снять (в учительской или классе) – суровость вмиг таяла, как тает на песчаном берегу грозная волна. И тогда он мало чем отличался от окружавших его старшеклассников. Разве что таившейся в синих глазах грустью да привычкой все делать добротно, не суетясь.
В школьные годы он нравился девчонкам, но сам среди них ни одну не выделял. Занятый по горло в осовиахимовских кружках, он готовил себя к службе в армии. Так и уехал, тихо и неприметно, ни с одной не подружив, не погуляв.
Из училища на второй день войны – на фронт.
Мученический стыд отступления, отчаянные попытки зацепиться за свою землю… И всюду кровь и смерть.
Хирург вскрыл рану, цокнул языком: «Все, лейтенант! Отвоевался!»
А потом унизительное, как у нищего, которому не подают, сознание собственной никчемности.
Однажды заглянул майор из военкомата. От него нехорошо несло табачищем; он скалил прокуренные зубы, не выпуская дешевую папиросу, и все старался убедить, что и с одной рукой можно оставаться солдатом.
Майор майором, но сам он, как человек по сути своей военный, успевший побиться с вражеским солдатом и на расстоянии полета пули, и в рукопашной, обстановку понимал не хуже. Много горя еще придется хлебнуть всем вместе и каждому в отдельности. Главное, что он жив. Жив… А труба зовет… И надо, значит, в строй.
Ждали лесничего. Дежурный наводил порядок в спальной комнате. Тетя Поля мыла посуду. Военрук, пригласив в кладовую «представителей общественности», избранных открытым голосованием, докладывал обстановку, предупредив, однако, чтобы «представители» не очень-то распространялись об истинных запасах. Остальные играли на поляне в футбол, приспособив вместо мяча найденную в бурьяне ржавую банку из-под американской тушенки.
Стоял такой шум, будто в одно время прибыли на разъезд два встречных, и все пассажиры враз вышли. Только двое, Венка и Мурзилка, ушли в лес. Этим не терпелось опробовать на деле остро отточенные топоры.
Вот Венка с силой метнул топор в старую березу. Топор перевернулся, чиркнул ствол и, звякнув, улетел в кусты.
– Ты чего… сдурел… с овса-то, – засмеялся Мурзилка.
– Чудак, – сожалея, проговорил Венка. – Сразу видно, не читал про последнего из могикан…
– Чего… не читал? – растерялся Мурзилка.
– «Последний из могикан», – говорю. Про индейцев… У них у любого топорик… томагавк. Представляешь, за двадцать шагов веревку раз – и нету! А ты говоришь… – Венка поднял топор и, поискав глазами, куда бы метнуть, увидел за порослью Наступающих на барак березок выкрашенную охрой дверь. – Пошли, покажу…
Оказалось, до делянки рукой подать: километра два, не больше.
Лесничий, крепкий средних лет мужчина с обветренным лицом и в выцветшем до крайности пиджаке, как человек, которому приходится помногу ходить, шел не спеша, некрупными шажками. Его неторопливость раздражала военрука, привыкшего к быстрой энергичной ходьбе. Да и ребята, идущие вслед, чуть не наступали им на пятки.
– Достанется тебе с ними, – посочувствовал лесничий. – Что, там, в райцентре, повзрослее не могли насобирать на такое дело?
Военрук не ответил, ослепленный обидой за свой взвод, самый молодой в полку. Странно, но такими же словами, тогда, на переправе, полковой комиссар отчитывал комбата: «Что, капитан, повзрослее не мог ребят подыскать?» А комбат вовсе и не собирался оставлять взвод для удержания моста, пока отходит полк. Он приказал залечь на другом берегу в кустарнике и не выдавать себя ни при каких обстоятельствах. Просто ждать и ждать, когда подойдут основные силы немцев. А уж вот тогда…
И он, лейтенант Серега Хебнев со своими юнцами, закусив, чтобы не заорать, рукоятку нагана, смотрел, как два других взвода их роты отбиваются из последних силенок.
Когда все было кончено, одна группа немцев с ранеными ушла, вторая на мотоциклах переправилась через мост. Проехали немного, вернулись… И буквально в полусотне шагов от затаившегося взвода, на песчаном бережку сбросали в кучку оружие, разделись и, обнаглев до того, что даже не выставив охранение, бросились в воду.
Лейтенант проверил, надежно ли закреплен диск на ручном пулемете, подал сигнал. Молча вышли из-за укрытия, бросили по гранате в фыркающих от удовольствия купальщиков, и за минуту уложили всех. Только один, должно, обезумевший, с распоротым осколком брюхом, в беспамятстве вырвался на берег и, расстреливаемый в упор, наткнулся на кучу с оружием. Нащупал гранату, заученным приемом выдернул кольцо и уже, наверное, не живой, швырнул перед собой.
Когда осела пыль, было не узнать в разметанных телах двоих веселых пареньков, которые на привалах хвалились, что с Оки.
Вечером, отправив на дно реки танк и два грузовика с солдатами, взвод на трофейных мотоциклах помчался вдогонку за полком.
Все это военрук вспомнил за короткий миг. И зримо представил. И вновь пережил. Ведь тогда и его зло ужалил осколочек проклятой немецкой гранаты…
– Те, которые повзрослее, знаете где? – он нервно махнул рукой. – Тама! В окопах! Танки поджигают… с винтовками! Танки, понятно? А отдельные штатские в это время подберезовики собирают…
Лесничий промолчал, только вдруг побледнев, глянул с укором и прибавил шаг. Военрук понял, что переборщил, смутился. В это время в просветах между деревьями забелела одна поленница, другая, и он, чтобы стушевать неловкость, спросил:
– Наши… дровишки?
Лесничий молча свернул на поляну, за которой широким клином врезалась в березняк делянка. Она была обезображена разновысокими, уже прихваченными гнилью пеньками и хаотичной порослью молодняка. И только золоченые солнцем поленницы неуверенно утверждали, что лес здесь когда-то рос не напрасно.
– А вон и транспорт! – Лесничий показал в сторону развесистой березы, под которой стояли крестьянские телеги.
– Лошади когда будут? – поинтересовался военрук. – Надо, чтоб показали как запрягать. Ребята вряд ли знают эту науку…
– Запрягать, говоришь? – Лесничий глянул на все еще стоявших в строю мальчишек, посоветовал вполголоса: – Пусть побегают…
– Инструмент сложить под березой! Без надобности не брать! – скомандовал военрук. – Разойдись!
– Видать, тебе не все сказали, – отведя военрука в сторону, продолжал лесничий. – Нема в колхозе лошадей. Вывелись… Нонешней весной у Левушкина на быках и коровенках пахали. А теперь он и этих не даст! Решил стадо возродить. Грызется со всеми! Может, так и надо… Так что самим придется… впрягаться…
Древний старичок, сидевший на завалинке крайнего дома, словоохотливо пояснил:
– Ежели вам, гражданин хороший, наш председатель нужон, чуток поспешайте, застанете дома… Недавно проезжал тут Дементий Захарыч на своем транспорте… на обед, значит…








