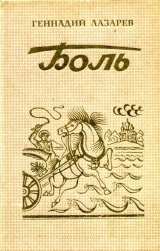
Текст книги "Боль"
Автор книги: Геннадий Лазарев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
Эти девчонки, не ведая опасности, летят, как бабочки на огонь, навстречу своей погибели. Жили бы себе рядом с мамами. Хватит теперь силенок у России и без них! И эта дурнушка – туда же! Ей-то что, глупенькой, не хватает? Дом, видать, полная чаша, если судить по тому, с какой легкостью вчера ее мать высыпала на стол дюжину золотых червонцев.
В коридоре людно. Около кабинетов толпятся парни. Шумно смеются по самому пустячному поводу, заглядывают по очереди в замочные скважины, острят в дело и без дела.
Многие подстрижены наголо. Для этих сегодня решающая комиссия, а завтра – на фронт.
Галька лавировала между сваленными в кучи валенками, упавшими на пол шапками. Дверь впереди распахнулась, и из кабинета вывалился Венка. Босой (из-под штанин свисали тесемки кальсон), он прижимал к голому животу огромные ботинки; на голове – модная кубанка. Смешил резкий переход на шее и руках от бледнехонького, каким было тело без сошедшего за зиму загара, к красновато-шоколадному, каким стали от жара заготовок кисти рук и лицо.
– Ты чего здесь? – удивленно спросил Венка.
– А ты?
– Ты же видишь – комиссия… Время подошло..
– А-а… Понятно… – Галька все еще не могла прийти в себя и стеснительно улыбалась.
– Это ваши девчонки раскудахтались? – ботинками Венка указал на девчат.
– Наши, – подтвердила Галька, понимая, что этого не скрыть.
– Что, тоже на комиссию?
– В госпитале будем дежурить, – ответила Галька, и ей сделалось грустно оттого, что должна говорить неправду.
– А я на заводе, вальцовщиком. У меня «бронь» до конца войны.
– Нравится… на заводе? – спросила Галька.
– Ага.
– Гала! – позвала одна из девушек. – Вызывают! Тебя ждем…
Галька вскинула глаза. Лицо у Венки – не понять: то ли шутит, то ли сердится. Вечно он такой, непонятный!
– Пока? – сказал он и улыбнулся.
– Пока… – ответила она с напускной веселостью и почувствовала себя так, словно осталась в лодке, которую оторвало от берега и понесло бог весть куда; он еще долго будет виден, берег, но уж не добраться до него никогда и ни за что на свете.
После поликлиники Венка забежал домой, переоделся в рабочее, перекусил всухомятку и – бегом на завод; хотелось успеть на горячую обкатку стана.
Заглянул на толчок: пора было разжиться табачком.
Отсутствие денег Венку не смущало. Нехватало, чтобы он добровольно выкладывал свои кровные, честно заработанные! За что? За отраву! Да еще кому – бездельникам, которые наживаются на чужом несчастье.
Подошел к крайнему старику с взлохмаченной бородой. «Как табачок, не суховат?» – спросил и, утопив руку в табак, взял щепотку для пробы. Одновременно давно отработанным приемом зачерпнул мизинцем и безымянным, прижал к ладони сколько удержалось. Растер в щепоти, с видом знатока понюхал. «Копытом отдает!» – дал беспощадную оценку и брезгливо высыпал табак в мешок. Степенно, не суетясь, пошел вдоль ряда; непринужденным движением засунул руку в карман. «Есть на закруточку…» – подумал с веселостью, когда из-под мизинца табачинки струйкой побежали по ладони.
– А у вас, дедуля, как табачишко? – обратился он к пышнотелой краснощекой тетке с толстенной, в палец, самокруткой в зубах.
– Разуй зенки-то! – рассердилась тетка, но и потереть табак, и понюхать позволила.
– Влажноват… Да и нарезан крупно – хоть печку растопляй… – заключил Венка и высыпал табак из щепоти.
– А ты в себя затянись, затянись разок! – запротестовала тетка и протянула чадящую самокрутку. – До самоих мозгов достает, всю дурь из башки вышибает! – заверещала она.
Отвлекая внимание тетки, Венка левой рукой отмахнулся от нее как от надоедливой мухи, а правую – в карман. «Еще на закруточку!» – отметил он, разжимая пальцы.
Насобирав по крохам полновесную горсть, Венка, чтобы поддержать марку серьезного покупателя, в конце ряда свернул цыгарку, закатил глаза от удовольствия, затянулся раз-другой и широким жестом выложил перед ошарашенным хозяином свой последний измятый рубль.
Дымя папиросой заспешил к проходной. А из глубины толчка догонял его звонкий голос Лешки Пряслова:
Три туза, три туза..
Ставка новая – коза!
Угадай туза червей,
Будет козочка твоей.
Ошибешься – карта зла,
Превратишься сам в козла!
Настроение у Венки – хоть куда! Ремонт стана закончили в срок. Начцех пообещал при случае дать выходной. Плановичка намекнула, что за этот месяц выйдет неплохой аванс. Врачи попридирались, попридирались, а от факта не уйти: здоров и годен для службы в морфлоте. Но он характер выдержал: в танковые войска – и точка, туда, где братка, и как обещал военком. Одет от теперь – с иголочки: и обувка, и кубанка, и бушлат – надо бы лучше, да некуда. И табачком разжился. Вот только Линочка…
О Линочке вслух не вспоминали. Было стыдно смотреть друг другу в глаза. Из-за каких-то талонов, господи!.. Да пропади они пропадом, эти горячие обеды! Лично он теперь во веки веков не пойдет в заводскую столовую.
И ведь поднялась же у какой-то сволочи рука!
Бригадой подумали было установить в столовой негласное наблюдение, но, взвесив все за и против, от этой затеи отказались.
Столовая кормит во все три смены. И не только прокатчиков, но и мартеновцев, и кочегаров из паросилового цеха – да мало ли кого еще. Попробуй, проверь каждого! Да и кто это позволит, проверять. Потом подумали, подумали и решили: украсть некому, просто Линочка спрятала талоны подальше, да и забыла, бедняжка, куда…
Венка вздохнул, и не в радость ему стал этот голубой под распахнутым небом день.
А денек был хорош! В свесившихся из-под карнизов сосульках радугами играло солнце. Сочно поскрипывал под ногами снежок. На дороге возле кучек лошадиного добра суетились шустрые воробушки. Слегка морозный воздух разносил во все концы разноголосый перезвон мостовых кранов. Судя по всему, не за горами была весна…
На площадке, перед входом в заводскую столовую, толпились мужики. Кто курил, кто читал в витрине свежую газету.
Подойдя поближе, Венка увидел Мурзилку. И тот – по всему было видно – тоже увидел Венку. Но странное дело – не пошел навстречу, а, вероятно, считая, что в робе не признали, юркнул за спины мужиков и, пригнувшись, заспешил в сторону механического участка.
Миновав столовую, Венка окрикнул:
– Погоди! Ты мне нужен…
Он действительно хотел рассказать, как врачи не совсем ласково обходятся с призывниками. Тому ведь скоро тоже на комиссию…
Мурзилка прибавил шаг.
Распахнув дверь, Венка увидел, что Мурзилка убегает по центральному проходу. Тогда и он, еще не зная зачем, тоже побежал, звонко цокая по металлическим плитам подковками новых ботинок. На него подозрительно косились от станков женщины и подростки.
Около выхода Мурзилка на миг оглянулся, увидел, что Венка настигает, и лицо его исказилось страхом.
«Что это с ним? – почувствовав недоброе, подумал Венка. – Неужто все еще меня остерегается? За «бронь», конечно, надо бы его проучить…»
– Стой! – выкрикнул просяще. – Не трону! Стой…

За участком – сразу же прокатный цех. Там Венка как рыба в воде, там Мурзилке все равно не уйти. Чуть что, остановят ребята из бригады.
Не переводя дыхания, Венка влетел в цех. В настороженной тишине отчетливо слышен был шорох вращающихся на холостом ходу валков да тягучее гудение пламени в нагревательной печи. Мягко бренькал хорошо отлаженный рольганг. Это продвигалась к прокатной клети заготовка. В пусковой бригаде начцех и другие «старички». Платоныч – и тот на месте рядового подручного… А где Мурзилка?
Расстегивая на ходу фуфайку, Мурзилка спешил к тому месту, куда вот-вот должна подойти расплющенная вдесятеро заготовка. Его кто-то пытался остановить, но он вырвался. И успел… Достал из кармана какие-то листочки и бросил – всю пачку – на проплывающую рядом раскаленную добела заготовку. Листочки вспыхнули. Только несколько верхних, подхваченные горячим воздухом, попорхали, словно бабочки, и, когда заготовка продвинулась дальше, плавно опустились на пол. Мурзилка проворно скинул фуфайку и поднырнул под рольганг. Быстро-быстро собрал листочки, высунулся в просвет между роликами…
Надсадно заскрежетало железо от аварийной остановки линии, взметнулся и погас сноп малиновых искр, внезапно возникший и тут же внезапно оборвавшийся смертельный вскрик, полный животной тоски, заметался испуганной птицей под крышей. Венка опасливо подошел поближе…
Заготовка при аварийной остановке продвинулась по инерции вперед, соскользнула в сторону и уперлась в ограничитель. Из нее сучком торчал срезанный по пояс Мурзилка. Видать, в последний миг вцепился в ограждение мертвой хваткой и стоял словно еще живой: выпучив глаза и разинув рот, будто силился выкрикнуть просьбу…
Платоныч родным с перепугу голосом незнакомо матерился. «Ты куда залез, черт полосатый? Только выдь, я тебе харю-то расквасю!» А Мурзилка все таращил глаза, пока не вспыхнул смердящим пламенем. Рядом корчились, как чертики, черные лоскутки бумажного пепла.
Венка, спрятавшись за пожарный щит, блевал: тошнило. Уж было нечем, а его все выворачивало и выворачивало наизнанку.
Заключение– По местам, орелики! – гаркнул басом Платоныч.
Венка в новенькой суконной спецовке стоял, опираясь на захваты, около первой клети. Сейчас поднимут затвор, резво побежит по рольгангу заготовка, и многое потом будет зависеть именно от него, от первого подручного. Он видел: около бытовки собралась толпа. По кожаному пальто узнал директора. «Переживает!» – подумал уважительно.
– Слышь, студент! – Подошел Платоныч. Домой он, видно так и не ходил (ночью делали холостую обкатку), и был, как и накануне, небрит, в грязной, будто изжеванной, рубахе. – Глянь во-он на того паренька. Рядом с вальцовщиком… где ты начинал… Видишь?
– Новенький? – спросил Венка и, вглядевшись, узнал долговязого, который летом свалил его в Степанидином переулке в нокаут.
– Знаешь его? – поинтересовался Платоныч.
Венка кивнул.
– Тогда через недельку будем выпускать на самостоятельную… А потом передвижку проведем, по цепочке… – басил на ухо Платоныч.
– Не понял…
– А что понимать – готовься! Я еще в прошлом году просил директора снять с меня «бронь». Сегодня ночью прижал его вон в том проходе – пообещал… «Замену, – говорит, – найдешь, возражать не стану». Ты уж не подведи! Я за тебя поручился! А, студент?
– Ладно… – помедлив, протянул Венка и заулыбался.
Он улыбался не бригадиру. Он улыбался своим мыслям. Он лучше всех знал, сколько ему оставалось.
До встречи с военкомом оставалось всего-то тридцать три дня! А смен за вычетом выходных, обещанных начцехом, и того меньше…
НЕ ПОЙМАН
Весь вечер и ночь перед воскресеньем падал тихий долгожданный снег. Он, как к празднику, принарядил и деревья, раздетые донага осенними колючими ветрами, и обезображенную затянувшейся распутицей землю, и серые, омытые недавними дождями дома.
Чуть просветлилось, а уж по заснеженным улицам валом валил народ с узлами, чемоданами да и просто так, налегке. Непроторенными тропинками, по колено в сугробах – к огороженному высоченным забором пустырю, что раскинулся за конечной автобусной остановкой. Там – городская толкучка.
Заря, сначала робкая, блеклая, скоро разлилась пунцовыми красками на полнеба. Миг – и заиграло обнадеживающим багрянцем еще холодное солнце.
Над толкучкой заколыхалось сизое облачко дыма: соблазнительно запахло шашлыками. Призывно заверещали торговки семечками.
На толкучке, как в муравейнике, – у каждого своя забота. У одного – продать подороже, у другого – купить подешевле. Здесь можно найти все, в чем возникла нужда: от крошечного, с ноготок, резистора для карманного приемника до похожего на железнодорожный контейнер старомодного шкафа.
Сквозь толпу, действуя локтями, словно клином, пробирался Прошка Остроухов. Засаленная, с кожаным верхом шапка залихватски сдвинута на затылок – и как только держится на голове, неизвестно; большегубый щербатый рот – не рот, а сплошная нескончаемая улыбка. Улыбался Прошка не от веселой жизни. Просто он отлично понимал, что улыбчивый торговец скорее найдет путь к сердцу покупателя. Под тужуркой у Прошки сапожки на меху. Он пуще огня боялся милиции, он буквально трепетал, видя представителя власти, но желание превратить товар в наличные было сильнее страха. И этому желанию было подвластно сейчас все существо Прошки.
Проходя мимо молоденьких женщин, он красноречиво постукивал себя по груди, опасливо зыркал глазами по сторонам и, улыбаясь, мурлыкал:
– Товар – высший сорт, тридцать семь, меховые. Товар – высший сорт…
Прошка приехал на толкучку с утра, исходил ее вдоль и поперек, но сбыть сапожки никак не удавалось. Он продрог и на чем свет стоит чертыхал в душе и толкучку, и покупателей, и свою жизнь.
Толпа на глазах редела: базар шел на убыль. Прошка, отрешенно улыбаясь, метался из одного ряда в другой. Ныла нога, и теперь он прихрамывал откровенно, не таясь, и поэтому покачивался при ходьбе с боку на бок, как селезень.
Запаниковав от неудачи, он был готов отдать сапожки за полцены, по стоимости материала. В конце концов, чего ее жалеть, свою работу. А мозоли не в счет… Осмелев до крайности, достал сапожки и постучав подошвой о подошву, выкрикнул:
Подходи, налетай,
обновку милке покупай!
Примеряй, красавица!
Уступлю, раз нравится!
Растудыттвую-туды,
продаю свои труды!
И сразу же сапожками заинтересовались всерьез. Немолодая на вид женщина, видать, из района (вся шуба в шелухе от семечек), не поленилась, примерила.
– Уступите маленько – возьму! – предложила она, робко заглядывая Прошке в глаза.
Случись это минутой раньше, Прошка уступил бы не задумываясь. Но теперь, увидев, как к нему направляется Санюра, приятель и кореш по базарным делам, он только воодушевленно кашлянул:
– Никак нельзя, гражданочка! За сколь купил, за столь и торгую. Маловатыми оказались супружнице, иначе стал бы я разве мелочиться! Это же – сами видите – вещьт! Не какая-то там заморская синтетика, а натуральная собака. И подошва, как и положено, – импортная, не чета нашенской… За сто лет не износить…
Рядом остановился Санюра. В модном ворсистом пальто, в богатой шапке. На пухлых гладко выбритых щеках – здоровый румянец. Глаза веселые, с огоньком, как у сытого кота. Подмигнув Прошке, спросил:
– За сколько отдаешь, хозяин?
Прошка назвал цену.
– Если тридцать седьмой – беру!
– Ишь, какой шустрый! – Женщина выхватила у Остроухова сапожки и стала проворно отсчитывать деньги. – Я полдня искала, искала, а он – на готовенькое…
– Не могу, гражданин! – поддержал женщину Прошка. – Гражданочка первой дала согласие приобресть товар…
Когда она ушла, прыснул со смеху:
– Видел раззяву? Ну, народ! В цирк не надо ходить…
– Я тебе что говорил: держись за меня – не пропадешь! – Санюра снисходительно похлопал Прошку по плечу. – Отметить бы надо трудовые успехи, а?..
– Само собой! – согласился Прошка. – Иди, занимай столик, а я в магазин слетаю… В столовой, окромя пива, ничего, наверное, нету…
Прошка не знал, как выразить свои чувства. От сладостного ощущения независимости, которое пришло к нему вместе с новенькими хрустящими червонцами, на душе у него все пело. Он шел напрямик, большерото улыбаясь налево и направо. Сегодня ему крупно повезло. Сегодня он принесет домой деньги. Новенькие, будто только что из банка, червонцы надежно пригрелись в боковом кармане, около сердца. Вот обрадуется Фрося!..
– Остроухов! – окрикнули, словно выстрелили сзади.
Прошка машинально остановился, но оглядываться не стал. Решил: если нужен – подойдут. На плечо легла чья-то рука. Глянул искоса. Холодно и привычно, как артист на бис, улыбался старый знакомый, тот самый, который всегда здоровался, – молоденький, белозубый милиционер.
– Здорово, Остроухов!
– Здравия желаю, гражданин лейтенант!
– Опять ты меня обхитрил! – Лейтенант миролюбиво подтолкнул Прошку под локоть: – Я за тобой часа полтора наблюдал… Куда ты скрылся?
– Никуда я не скрывался, – угрюмо проговорил Прошка. – На месте не стоял, верно… Но и не скрывался. Что я – вор, скрываться?..
– Однако сплавил сапожки… Вижу, вижу – сплавил. Вот только жаль, не подсек я тебя!..
– Не туда смотрите, гражданин лейтенант! – обрезал Прошка и хотел уйти. – Лучше бы спекулянтов подсекали! Больше бы пользы было…
– А ты не груби, не груби, Остроухов! – Лейтенант нахохлился, враз его улыбчивые, подвижные губы онемели. – Вот поймаю с поличными, начальство рассудит, что полезней!
– С поличными, говоришь?! – процедил Прошка сквозь зубы. Посмотрел кругом, словно ища свидетеля. Нагнулся и резко задрал штанину на левой ноге. Похлопывая ладонью по упругой коже протеза, хохотнул сипло: – Вот она, поличная! Я ее в сорок первом под Москвой схлопотал…
Лейтенант отмахнулся.
– Не устраивай спектакля, Остроухов! Чего ты, в самом деле…
– А ты не тыкай! Не тыкай! Не больно-то! Видели мы таких тыкунов! – распаляясь, выкрикнул Остроухов лейтенанту в спину. – Соплеват еще тыкать! Ты манкой обжигался, а я уж…
Лейтенант давно скрылся в толпе, а Прошка, заковыляв к магазину, все жаловался неизвестно кому.
– С поличными… Он, видишь ли, будет подсекать меня с поличными… У меня дома пятеро меньше мал мала. Им скажи, что ихнего отца будешь подсекать. Они еще не знают, что такое поличные. Они только видят, как отец вкалывает в две смены без передыха, а все в одних и тех же портках вторую пятилетку. Хорошо в казенной шинели на всем готовеньком. Начистил пуговицы, и ладно…
Идти стало невмоготу. Прислонился к забору, расстегнул ворот рубахи. Притих, прислушиваясь, откуда исходит боль. Вспомнилось отчего-то детство. Как по прохладной траве бегал к озеру…
Не идет – летит жизнь. Давно ли в школе учился. В пятом учитель хвалил, за прилежание и смекалку. И коробку цветных карандашей подарил. Цветных! Это теперь никого и ничем не удивишь, а тогда эти карандаши дивом казались. А после седьмого дед отдал в сапожники. «Книжками сыт не будешь, – сказал, – а сапожное ремесло, Проша, – золотое дно!» Ой как не хотелось Прошке за верстак, ой как хотелось погонять мячик, покупаться летичко в озере, да супротив деда разве пойдешь. В таком деле и отец слова не имел.
В восемнадцать – будто вчерась! – женили. Через неделю после свадьбы отец отделил. «На хлеб зарабатывать мы тебя, слава богу, научили, зарабатывать на сахар учись сам, не маленький!» Сняли с Фросей комнатку у одной старушки и зажили себе – глядеть любо-дорого.
Война разрушила и поломала всю жизнь. Не прошло и полгода, вернулся домой калекой. Рад был до смерти, что жив остался. А поглядел, что творится в глубоком тылу, – впору опять на передовую. Жену оставлял красавицей, вернулся – не узнать, почернела Фрося лицом, будто чахоточная. Все, что успели с ней в свое время нажить, променяла на пшено да на картошку. А дочка – и на девочку ничуть не походит: золотушная, личико сморщенное, как у старушки, ножки – это в два-то годика! – не держат. И дом – такой обездоленный: забор растащили кому не лень, сарай разобрали сами – на дрова; от крыльца мимо жиденьких кустиков терновника бежит едва обозначенная тропка к косо торчавшей из сугроба одинокой будке нужника.
Вернулся в свою мастерскую. За верстаками одни старики, фронтовики-инвалиды да мальчишки, отбившиеся от школы. А зарплата – хоть и расписываться не ходи, а передавай в фонд обороны. Деваться некуда – стал по вечерам калымить напропалую. Работал сноровисто, добротно, заказы выполнял в срок. За то при расчете не церемонился, драл с заказчиков по три шкуры. Особенно с мужиков с «бронью». Ух, как он их не любил за свалившееся от бога благополучие.
Сбывались слова покойного деда: в кармане стало позванивать. Всю войну деньжата загребал лопатой. Да и потом – когда оно, государство, раскачается? – почитай целую пятилетку портные, красильщики, сапожники были незаменимыми людьми, что для колхозника, что для сталевара, что для артиста. Шуткой, шуткой сколотил на дом.
В сущности, жили неплохо. Старшую дочь выучили на техника-стоматолога, замуж выдали за хорошего человека – и не выпивает, и специальность культурная. И внук растет, слава богу, здоровенький, горластый.
За старшей, Верой, Надежда тянется. Эта, пожалуй, побоевей, похитрей будет, за эту душа не так болит, как за старшую. Хотя как ей не болеть, душе. Это только так говорится: выпустил дитя из родительского гнезда, и – как гора с плеч. Оказывается, с годами тревога за детей нарастает, на проверку выходит иное: маленькие дети – маленькие заботы, большие дети – большие заботы.
За Надеждой – как горох – трое мальчишек. И все смышленые, ласковые, из школы грамоты похвальные чуть ли не каждую четверть приносят, и соседи не жалуются – чего еще надо?
Но как раздумается Прошка о том, каких сил стоит ему поднимать на ноги такую ораву – одному! – сердце так заболит, так заболит, хоть ложись и помирай. Зашалят нервы, заноют раны – тут уж не медли, Фрося, доставай из заначки, что сумела отстоять прошлым разом, или беги, пока не закрыли.
Санюра поднялся на крыльцо, встряхнул шапку, чтобы от растаявших в тепле снежинок не запрел мех. Шапку он берег. В своей жизни Санюра вряд ли дочитал до конца хоть одну книжку, но в вещах толк знал. Он считал, что делового человека от неудачников, подкаблучников и других не уважающих себя мужиков отличают перво-наперво незаношенные, в любую погоду чистые ботинки, строгая, из добротного меха шапка и ни на день не отставший от моды галстук. Мужчин при засаленном галстуке Санюра не уважал. Частенько совсем новыми, но вышедшими из моды галстуками он демонстративно перевязывал пачки старых газет, когда сынишке предстояло сдавать их в макулатуру. А мужика в стоптанных ботинках он и за человека не принимал.
В столовой народу битком. Но Остроухов каким-то чудом раздобыл два места, около окна, и ему принесли и пиво в двух графинах, и закуску. Он потирал от удовольствия руки и простодушно, расквашенно улыбался. Увидев Санюру, простецки, как на стадионе, будто с его подачи забили гол, вскинул руки.
Санюра забегал юрким взглядом по залу. Убедившись, что знакомых нет, подошел и, расстегнув пальто, сел.
Столовые он презирал; любил тишину, комфорт и – просто вкусно поесть. У него было на что заказать любой стол. Однако пойти с Остроуховым в ресторан или даже в кафе он не мог. Везде его знают как человека солидного, при хороших деньгах. Смешно, если он заявится туда с этим невзрачным человечишкой в дешевой серой рубашке. Он и в столовую с ним пошел только с тем расчетом, чтобы по пьяной лавочке вырвать давнишний долг.
Санюра не уважал Прошку за мелкомасштабность. И в работе, и в жизни. Терпел по привычке, как терпят из нужды сапоги, которые жмут. Работал он приемщиком от комбината бытового обслуживания в отдельном павильончике с яркой вывеской «Кожремонт». Павильончик стоял хоть и в переулке, но на бойком месте. Сюда со всего города несли на ремонт и реставрацию все, что изготовлено и пошито из кожи и кожзаменителей. За перегородкой было установлено кое-какое оборудование, и Санюра – в шикарном вельветовом пиджаке и прибалтийском плетеном галстуке! – менял замки-молнии и всякую всячину на сапожках и сумках.
Последнее время отбоя не было от заказов на поясные ремни с огромными фигурными пряжками, и Санюра едва успевал смахивать в выдвинутый ящик стола пятерки и десятки. Трудновато было с материалом. В ход шли и голенища старых сапожек, которые надо было обязательно покрывать ярким цветным лаком, и обрезки кожи, которые приносил из мастерской Прошка Остроухов.
Санюра оценивающе посмотрел на свет пиво, пригубил и шумно поставил кружку.
– Так и знал – кислятина… – проворчал он и скривил в неудовольствии рот.
– Главное – местечком заручиться, сладенькое само собой организуется! – поспешил заверить Прошка и, оглядевшись по сторонам, извлек из кармана бутылку «Особой». Отковырнул вилкой пробку и, нахохлившись от озабоченности и сознания важности свершаемого, налил, придерживая стакан на коленях, чуть ли не до краев. – Держи, Александр Акимыч!
Санюра зажал стакан в большой мясистой ладони и, выждав, пока официантка с подносом, уставленным порожними кружками, не скроется за перегородкой, залпом выпил. Отпил глоток пива, наколол вилкой маринованный гриб, но гриб сорвался и, скользнув по брюкам, упал на пол.
– Что, другого нечего было заказать? – проворчал рассерженно.
– Было… рыбу под маринадом… Да только какая нонче рыба? Это, наверное, кит, не иначе… – Прошка невесело хохотнул и стал наливать водки себе. – А вообще-то, Александр Акимович, на горяченькое у нас пельмени. Зоя! Зоинька! – окрикнул он официантку. – Ты не забыла нас… насчет пельмешек?
– С пельменями расправляйся один… – сказал Санюра трезво. – Мне некогда… – помолчав, спросил в упор: – Рассчитываться собираешься?
Прошка отрешенно, не прячась, выпил и надолго уткнулся в тарелку. Когда он жевал, его красные с мороза уши двигались. Это и смешило Санюру и раздражало.
– Чего молчишь?
– Погоди малость, Александр Акимыч! – не разгибая спины и глядя снизу вверх, как собачонка из подворотни, заторопился Прошка. – Деньги во-о как нужны! – провел ребром ладони по худой шее. – Зима, видишь, прикатила. Конечно, оно так и должно быть, насчет зимы… От нее – никуда… И все бы ничего: и картошки запасли, и капусты с огурцами полон погреб… Все бы ладно, да Кольке, средненькому, в школу не в чем… Пальтишко с матерью присмотрели… В центре, в угловом… Колька-то в третий пошел! Задачки решает, шельмец, как орехи щелкает! Мы с матерью только диву даемся. Васятка, тот в первом… Похуже учится. Но то-о-же со-о-обража-а-ает! Коньки просит… «Канады» какие-то. Я говорю, учись как следоват – будут коньки! А чего? Пускай катается, раз нам не пришлось? Верно? Подтянулся, шельмец, к концу четверти! Представляешь? – Прошка засмеялся, громко, на весь зал.
– Не валяй дурака! – обрезал Санюра и, как бы шутя, сильно ткнул Прошку в бок кулаком. В дверях он увидел знакомого. «Не хватало, чтобы с этим чучелом гороховым за поллитровкой засекли!» – подумал и, не глядя на Прошку, будто его тут и не было, прошептал с угрозой: – У меня твоих заготовок десять пар. Если до следующей субботы долг не вернешь – в воскресенье заготовки… тю-тю! Понял?
Прошка присмирел. Торопливо налил в стакан, протянул Санюре. Тот молча так зыркнул, что у Прошки будто все оборвалось внутри.
– Да ты что, Александр Акимыч! Ты меня прямо без ножа! Погоди малость…
– Слышал я, – перебил Санюра, – будто на склад партию хромовых шкурок получили… – Встал и, не попрощавшись, не взглянув, ушел.
Прошка смотрел ему вслед до тех пор, пока тот не скрылся за дверью. «Мать честная! Как же теперь быть-то?» – подумал и, запрокинув отрезвевшую вдруг голову, не выпил – выплеснул водку в нутро. Закусывать не стал, было не до пельменей…
Незадолго до окончания смены Остроухов прибрал инструмент и, стараясь не попадаться на глаза бригадиру, вышел. Было уже совсем темно, и если бы не снег, излучающий какое-то странное внутреннее свечение, то – хоть глаз коли. Прошка пересек наискось двор, потоптался в нерешительности около приземистого амбара. Потом махнул рукой и толкнул обитую железом дверь.
Кладовщик Семен Кузьмич Туркин, пожилой мужчина с болезненным небритым лицом, слегка кивнул на приветствие Остроухова и снова уткнулся в бумаги.
Прошка провел по заиндевевшей кирпичной стене пальцем, брезгливо втянул носом затхлый, пропахший плесенью и кожей воздух.
– У тебя тут, Кузьмич, чахотку запросто схлопотать…
– Чахотку где угодно можно заработать, если не беречься, – неохотно отозвался Туркин. – Я здесь почитай уж десятый год, и ничего…
– То-то румяный, как девка под венцом…
– Хвораю, – уточнил кладовщик и неожиданно зашелся кашлем. – Грипп, должно быть, холера ему в бок.
– Какого же рожна торчишь тут? Билютнил бы… – посочувствовал Остроухов.
– Морока одна. Товар сдавать – хлопот не оберешься. День сдавать, день принимать – для болезни времени не останется. Отлежусь в выходные..
Остроухов сел на табурет, снял шапку. Перепачканными варом пальцами отбросил со лба влажную от пота прядку жиденьких волос.
– Слышал, что тебе нездоровится, – заговорил вкрадчиво, борясь с охватившим его еще в цехе волнением. – Дай, думаю, зайду, проведаю друга. И лекарства вот надежного захватил… – Стеснительно засмеялся и поставил на стол бутылку.
– Ну и лис, холера тебе в бок! – колюче поглядывая тусклыми глазами, проговорил Туркин. – Что нездоровится мне, ты слышать не мог – об этом никто не знает. Это – раз. Что мы с тобой друзья Прохор… извини, отчества не помню…
– Ермолаич… – бойко вставил Остроухов.
– Так вот… Что мы с тобой друзья, извини, Прохор Ермолаич, – это еще вопрос, большой вопрос. Это – два. А вот зачем ты с водкой пришел, мне невдомек, ей-богу!
Лицо у Прошки сделалось серьезным и грустным.
– Всех ты моих козырей побил, Кузьмич! Но деваться некуда. Выручай! Сам знаешь, какие нонче заработки у нашего брата. Это раньше мастеров ценили. Клиентура была… Может, помнишь Полину Вячеславну? Горсобесом после войны командовала… Уважительная была женщина, культурная, а ведь только мне доверяла на туфлях набойки менять. Во как. А теперь что? Индустрия, машины… Бабы в сапожники пошли! Срамота! Это разве мастера? Подметки рубчики клеем мазнет, под пресс – и готово! А через день-два у клиента пальцы наружу! Ты посмотри, что делается, Кузьмич, а! – Все больше распаляясь, зачастил Прошка, словно чувствуя, что его вот-вот остановят. – Заплатки ставить разучились, перетяжку делать – лень-матушка. Каблуки немного скособочились, носочки чуть пообтерлись – в утиль! Им износа нет, сапожкам, а их – в мусорку! Им бы головки заменить или перетяжку на размер меньше – и носи себе сезон-другой, радуйся! Ан нет – в утиль. Потому у нас и не хватает ничего, потому и спекуляция. Настоящих мастеров растеряли. Нонешний специалист стеж к стежу правильно не положит, шов у него сикось-накось, как ходы сообщения в линии обороны… Помнишь, поди?
– Притомился я, Прохор… – перебил Туркин устало. – Да и по домам пора… Что тебе, зачем пришел? Говори…
– А то, Кузьмич, что жить стало трудно, – выдохнул Прошка. – Я уж не говорю, что сам как мохор… Погляди, в какой шапке хожу – только мух бить. На ребятишках все горит… В школу на пирожки – дай, в кино – опять же дай! Мы, бывало, «Чапаева» посмотрим, через полгода – «Джульбарса», еще через полгода – «Тринадцать». А теперича через день то трагедия, то комедия, да все в двух сериях, не иначе. Это ничего, пусть наши дети пообразованней нас будут…
– Ну так что? – Туркин заерзал на стуле, сердито захлопнул книгу, в которой до этого что-то писал. – Хватит, может, бестолковщину молоть?
– Выручай, Семен Кузьмич! – в миг посерьезнел Прошка, уловив в голосе кладовщика сухость и раздражение. – Пряжей бы разжиться… В магазинах, ты знаешь, ее днем с огнем не найти. На барахолке смотрел – нету. А я валенки подшивать подрядился… У нас в околотке многие носят. Все приработок для дома, да и для людей полезность. Выручай, Кузьмич! Ее, пряжи, надо-то пустяк – фунтов десять. По твоим меркам – раз плюнуть…








