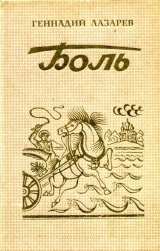
Текст книги "Боль"
Автор книги: Геннадий Лазарев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
ОДИН
Венкина мать на завод не пошла, рассудив, что домохозяйке доверят только швабру. А цену себе Соня знала. «Шваброй пусть командует неумеха!» – заключила она и без особых сомнений устроилась на мельницу.
Разве женское это дело – таскать мешки? Однако такой порядок: не сумел заставить сдатчиков – носи на своем горбу. А как заставить, если зерно везут то старики хворые, то мальчишки голенастые, которые только в рост пошли? Им бы лето мячик погонять, в речке поплавать да молочка вдосталь… А тут – мешки по три пуда! Надорвутся – какие из них потом мужики!
Раз приехали так же вот, просо привезли. Господи, из-за телеги его чуть видать, возчика! Пиджак ниже колен, лаптенки разбиты. «Ты что, или пехом? – спросила. – Неужто лаптей не жалко?» – «Лапти, – говорит, – дело наживное! Коня, тетенька, надо беречь, а не лапти». И ведь еле уговорила отойти от воза, пока разгружала. Потом ушла за угол, где лопухи, и давай реветь. От жалости и к мальчонке этому…
Заработок на мельнице – слезы. Хотя и с хорошими деньгами не разбежишься: на прилавках – шаром покати, продавщицы только зенки продают да тыквенные семечки лузгают.
Все бы ничего – надорвалась, нутро будто болячка. Иной раз упасть бы в лопухи, да чтоб подольше не нашли. Ан, нет – паровоз под парами около склада! Машинист, креста на нем нет, матерщинник, лучше не связываться, но и тот плюнет – и вместе с бабами мешки с мукой в вагон таскает.
А где легче? В войну работа везде до седьмого пота. И никто ее за тебя не придет и не сделает.
Выпадали на мельнице и праздники. Мучная пыль штука вредная, куда хочешь пробьется. Как забьет механизмы, что те аж поскрипывать начинают, ток выключали. Пыль, где скребками, где щетками, – в берестяной туесок. Из нее разрешал директор лепешки печь.
Удалось однажды полакомиться и Венке.
Вот был обед! Лепешки, с пылу, с жару, горкой высились на выскобленном добела столе и по-домашнему надежно пахли хлебом. Женщины судачили без умолку и, кажется, не замечали гостя. А он и рад! Сначала стеснялся. Но мать, вся такая родная со своими гладко причесанными волосами и воткнутой в них давнишней-предавнишней гребенкой, ласково шептала:
– Ешь, Веня, ешь… Не робей…
Венка вспомнил было о сдобных булочках, которые мать пекла к пасхе и первомайским праздникам, но решил, что нет: тем, довоенным, булочкам далеко до нынешних лепешек! Булочки очень уж воздушные, проглотил – и не слышно. От лепешек, правда, на зубах подозрительно похрустывает, зато в животе тепло и уютно.
Однажды мать вернулась с работы раньше обычного. Достала из сундука теплое белье, стала штопать старенькую фуфайку. Венка учил уроки, и тому, чем она занимается, значения не придавал – мало ли работы по дому. Случайно взглянув, увидел – мать плакала. Спросил, обеспокоясь:
– Мамань, ты чего?
Соня проговорила дрогнувшим голосом:
– На Оку отправляют, сынок! Рвы против танков копать. Немец-то, слышь, с Тулы в обход Москвы собирается! Ты-то как, Веня? Не на кого мне тебя оставить…
– Что я, маленький! – обиделся Венка.
– Не такой уж и большой, – вздохнула мать и с горечью добавила: – А Прасковья вон Жилова откупилась! Справку дали, и что сердце, и что тяжелое нельзя…
– Как же так, мамань? – возмутился Венка. – Тетка Прасковья не старее тебя…
– Не знаю, сынок. Трудное это дело…
Откуда было знать Венке об участковом враче…
При эвакуации Вера Ивановна бросила все, успев положить в мужнин саквояж лишь самое необходимое. Податься ей было некуда, поехала к двоюродной сестре. Но та сама ютилась с ребятишками в махонькой заводской квартире.
Вера Ивановна не выдержала неудобств коммуналки и сняла комнатку в домике с садом у пожилых хозяев.
По вечерам, уткнувшись в провонявшую чужим духом подушку, горько рыдала. Весело жилось в Киеве! Шикарная квартира с ванной, поклонники, добрый и славный муж… Взамен – подумать только! – четверть буханки сырого, как глина, хлеба и мизерная ставка участкового врача.
Вера Ивановна осунулась, подурнела, округлости ее пышного тела опали как сугробы на весеннем солнце. Выкупая хлеб загодя, она к концу месяца осталась ни с чем, и дня через два голодной жизни решила с отчаянья устроить себе праздник, может, последний… Подкараулив, когда хозяйка ушла то ли на базар, то ли еще куда, проскользнула в горницу. Небритый хозяин подшивал около окна валенки. Конечно, он даже отдаленно не был похож ни на одного из ее поклонников, но откровенный ее замысел раскусил сразу.
– Ты эта… того… – Он испуганно замахал руками. – У нас этого добра у Ксюши сколько хошь! Хоть пруд пруди!
Вера Ивановна жалко, обессиленно заплакала от стыда и обиды и… попросила поесть. Хозяин поспешно отбросил валенок и, привычно и складно матерясь на войну и на всю эту проклятую жизнь, ушел за перегородку. Скоро вернулся и протянул Вере Ивановне большую еще теплую картофелину с лопнувшей кожуркой.
– Ты эта… того… поешь… А нам, – можа, спиртику?.. Болячки-то, небось, обмываешь? А ты больного не обмывай – сами заживут. Спиртику бы… А твое добро нам нашто? Я, вишь ли, того – к Ксюше привычный…
А на другой день, когда какая-то тетка попросила у нее справку об освобождении от тяжелого труда и сунула кусок сала, Вера Ивановна даже глазом не моргнула – взяла.
Вскоре тетка потребовала продления. Вера Ивановна, боясь разоблачения, выдала справки теперь уже и тетке, и ее здоровой, как гренадер, дочери. А они, оказывается, только тем и занимались, что спекулировали сахарином, мылом и чем придется.
В медицинской комиссии при военкомате, членом которой ее назначили, за ошибку в диагнозе можно было поплатиться головой, и она зря не рисковала. Но салом ее теперь было не взять. Предпочитала колечки, сережки, монеты с изображением российских венценосцев.
Когда стали посылать на строительство оборонительных сооружений, Вера Ивановна уже в первый день работы комиссии выписала не меньше двух десятков справок. Среди клиентов были и ее подопечные. Особенно понравилась ей Жилова. Уж очень та была щедра.
Утром Венка провожал мать. Он нес мешок с ее пожитками. Соня отплакала свое за длинную ночь, все передумала, и сейчас шла, как солдат в отступлении, не выбирая дороги. На плече, как винтовка, лопата.
По еще незаснеженной земле ветер перегонял жухлую листву. Тускло блестели покрытые льдом лужи. Мутнело холодное солнце.
Народ стекался на площадь. Строились в колонны. В колонне, где мать, одни женщины. В соседней, справа – парни и девчата из техникума. Слева – пацаны из ремесленного училища. Этих можно узнать без труда по телогрейкам и кокардам на шапках в виде сложенных крест-накрест молоточка и гаечного ключа. Стоят хмурые, важные, словно все теперь зависит только от них.
Перед трибуной, под бархатным знаменем – заводские. Там не толкаются, чтобы согреться, не играют «в жучка», как студенты. На всех новенькие брезентовые рукавицы, отчего у колонны нарядный вид. Позади полуторка, загруженная лопатами, кирками.
С краю разный люд: домохозяйки, старики, подростки. Шум, толкотня, как на базаре… Руководители колонн охрипли, созывая своих, и туда заторопился военный в заляпанной внизу шинели. Пора начинать.

На трибуне седовласый сутулый мужчина в легоньком не по погоде пальтишке подошел к микрофону. Постучал ноготком: в громкоговорителе щелкнуло. Колонны замерли, и Венка услышал, как плещутся на ветру флаги.
– Товарищи! Митинг, посвященный сооружению неприступного рубежа обороны столицы…
Мальчишки реденького оркестра вскинули трубы. Разорвал тишину «Интернационал». Венка – руки по швам. А с трибуны будоражит сердце кумачовый лозунг: «Все для фронта, все для Победы!» И до того он суров, лозунг, что хочется снять перед ним шапку. И грустно оттого, что вот не дорос, что самое главное сделают без него.
– Слово имеет… – загудело от напряжения в громкоговорителе. И вдруг – оборвалось! Охнула площадь…
Сбоку трибуны распахнулась дверь, выскочил, как ошпаренный, мальчишка. Вскинул в отчаянии руки к проводам. И все, от седовласого начальника до малограмотной домохозяйки с зазубренной лопатой, поняли, что на заводе в эту минуту опять забуксовал прокатный стан.
А на подстанции старичок-диспетчер, разобрав сквозь свист селекторной связи мат-перемат прокатчиков, перекрестился, рванул рукоятку рубильника – и побежал ток от городских кварталов по заводскому кабелю к стану.
Давно миновали окраину. Соня держала Венку за руку и уж в который раз повторяла:
– Хлеб выкупай после школы, когда почерствеет, тогда он сытней… Щи выноси на холод, чтобы не прокисли. Картошку расходуй по три штуки, а то сегодня густо, а завтра пусто! Ты меня слушаешь, Веня?
– Слушаю, слушаю… – тоскливо отмахивался тот.
– Хорошо бы курочек сберечь. С первыми капелями, даст бог, начнут нестись… Печку топи каждый день. Выхолаживать избу нельзя: весной запотеет. Что отец скажет, когда приедет? И учись, учись хорошенько!
А Венка думал не о хлебе и не о дровах, которых у них и в помине столько нет, чтобы топить каждый день, а о том, как разместить такую тьму народа? Пристанской поселок невелик, домов на всех, как ни крутись, не хватит. А река? Вон она какая: нет у нее конца. Таким же должен быть и ров. Это как же его выкопать?
Поднялись на пригорок. Впереди жирно чернели неровные квадраты вспаханных паров, золотились полоски стерни с пупырышками скирд соломы. А вдали сквозь дымку проглядывалась нежная зелень озимых. И настолько это было неожиданным, что передние ряды остановились. Опустил на землю древко знамени пожилой рабочий, подтолкнул локтем соседа: «Смотри!»
Не может человек знать, что обрадует его в следующий миг. Неожиданная встреча, или ветерок, пахнувший родным подворьем… Но всегда сладкой болью отдаются в душе воспоминания о детстве.
Если ты родом из города, то чаще, чем иное, вспоминается, может, колонка на перекрестке, торчащая из земли гусиной шеей, из которой ты пил, зажав ладонью струю, и осыпал себя в жаркие дни серебряными брызгами. Или слышится перезвон старенького трамвая на повороте; под его колеса вы загодя подкладывали охотничьи пистоны и замирали от восторга в ожидании пулеметной, как в кино, трескотни.
Если же ты из деревни, то вспоминаешь, верно, крутые сугробы кочанной капусты вдоль завалинки да веселый перестук тяпок в погожий осенний денек. Или видится длинноногий теленок с белой звездою на лбу, привязанный к колышку на бархатной лужайке.
Это не главное, откуда ты родом. Если в суете не забыто детство, то в разгар лета, отведав – нет, не свежего яблочка или иного благородного фрукта, а простой картошки с прозрачной кожуркой, ты непременно почувствуешь себя счастливей, чем накануне.
Ныне, проезжая в скором поезде или быстрой машине мимо зазеленевших озимых, ты непременно припомнишь, как когда-то стоял с молодым отцом на краю укутанного снегом поля с неровными, словно прорехи, островками изумрудной травки, как отец, странно волнуясь, говорил незнакомо о земле и хлебе.
С пригорка видать: по полям, по чуть приметным тропам из ближних деревень, как ручьи к речке, стекаются к столбовой дороге люди. У каждого в руке узелок, на плече лопата.
За недалеким взгорьем с нарядной, как невеста, церквушкой – Ока. Все – туда: там рубеж, за которым Москва…
Дрова кончились. Ордер, выданный им, как семье фронтовика, лежал в голубой конфетнице. Дров не было и на городском складе. Объяснили, что все уходит на завод.
Венка выбил в заборе звено. Доски, однако, сгорали как порох. «Так и на неделю забора не хватит!» – подумал.
Оставалось последнее: разобрал потолок коровника, снял бревна верхнего венца, кур перевел в закуток.
Дома старался быть меньше. Дома постоянно хочется есть. При виде одного пузатого буфета – хоть реви! Открой, бывало, любую дверцу, и – на тебе: то пряник, то пирожок. А теперь, когда к нему приближаешься, он лишь нахально позванивает посудой.
Вечером Венка растоплял печку, разжигал самовар. На ужин – кружка кипятка. Он убедился: вставать приятней пусть голодным, но в тепле, чем сытым, но в холоде.
Беспокоили куры. Последние дни Венка кормил их капустными листьями. Вот уж, действительно, повезло! Когда военные закончили выгружать капусту, к вагону, как пчелы на мед, сбежались пацаны с соседних улиц. Венка, укрывшись от ветра, снял рубашку, завязал узлом воротник. Получилось вроде мешочка, куда он и стал складывать листья. Из тех, которые почище, два раза варил щи. Остальное – курам. Листья сдабривал сушеными яблоками. Прошлой осенью тетка привозила из деревни на компот. Про них забыли. Яблоки пересохли, от долгого хранения были тронуты червем. Но куры охотно их клевали.
В то утро он высыпал в корытце последнюю горстку.
Вернувшись из школы, заглянул в закуток. Обычно куры рвались на свет, хлопая крыльями и подминая друг друга. На этот раз только одна, самая маленькая, бочком-бочком вышла из угла и, вытянув шею, уставилась на Венку немигающим глазом. Остальные ничком лежали на земле. Петух неудобно приткнулся грудью к корытцу. Венка тронул его, и тут же отдернул руку, испугавшись закостенелости.
В растерянности выбежал на улицу – ни души! Надо же – спросить не у кого: как быть, что делать с курами, ведь они, возможно, еще живые. Вспомнил про Мурзилку. Подошел к палисаднику соседей. Свистнул.
– Сколько, говоришь, они у тебя тут проживают? – спросил Мурзилка деловито, когда вошли во двор. – Дней десять? Да-а-а… Хорош хозяин! Без насеста, на голой земле да еще на таких харчах – двух дней им достаточно. А они, видишь: десять держались! Закаленные… Как ты их закалил, а? Расскажи, Венка?..
Венка промолчал и стад на ощупь ловить уцелевшую курицу. Та громко и бестолково закудахтала.
– Кровь пустить надо, пока живая, – посоветовал Мурзилка.
– Убивать не дам! – решительно возразил Венка.
– Голову даю на отсечение – не выживет! – Мурзилка провел ребром ладони по горлу. – А тут хоть наедимся…
Венка сунул под нос Мурзилке фигу..
– А этого не хотел?
– Смотри, твое дело… Погубишь животное…
– Сам ты животное! – Венка в конце концов поймал курицу и стал ее поглаживать приговаривая: – Курочка… Птичечка…
Венка внес курицу в избу. Налил в склянку теплой воды – пусть погреется.
Отгородил угол за печкой, принес сена для гнезда – вдруг захочет нестись.
Подумав, отрезал от пайки корочку…
Глава четвертаяВАГОН КАШИ
Вагон стоял вторые сутки. Обычный в общем-то, с облезлой краской и ржавым тормозным колесом – таких тысячи прошло через тупик. Но почему приглянулся именно этот, Венка толком объяснить не мог. Ну, во-первых, если бы боеприпасы, выставили бы часового – это ясно. Во-вторых, напрасно ставить пломбу на порожняк никто не станет, не то время. А главное – запах. Пахло деревней. Будто поставили на колеса сельский двор с чуланом и амбаром, привезли в город, и вот он источает вызывающе аппетитный опарный дух. Венка представил, как сидит себе в вагоне на ящике и хрупает сухари.
Как стемнело, вызвал Мурзилку, изложил суть плана. Тот сделал вид, что ему не страшно.
Подморозило. В такую погоду сидеть бы дома да почитывать книжки.
От столба к столбу, от дерева к дереву – подкрались к вагону.
– Поглядывай! – прошептал Венка. – Чуть что – кашляни…
Пока Мурзилка соображал, что происходит, Венка был уже на крыше. Привязав к вытяжной трубе бельевую веревку, снял тужурку и стал нащупывать ногами оконный люк. Надавил: фанерка, хрустнув, отвалилась.
Вытравив с руки веревку, стал протискиваться вовнутрь. Опоры не было, и он, не удержавшись, рыбиной соскользнул вниз.
Под ним громыхнуло. В полоске света, проникающего через люк, различил чешуйчатую поверхность из ровных квадратных плиток. Сердце замерло – динамит! Сейчас как рванет…
Сердце робко отсчитало миг, другой. Венка нервно хохотнул – и вовсе это не динамит. Динамит возят в ящиках. А такие плитки он видел у военных. Пожилой коновод называл эту штуку отрубями. Их дробили, замачивали и давали лошадям. Тогда и он по примеру коновода погрыз. Пресно, недосолено… Но если подсолить… Схватил плитку – и в люк. И еще одну… «Держи, Мурзилка!»
Вдруг послышались голоса. Кто-то, подбежав, сказал с угрозой:
– Убег, гаденыш! Башку бы ему отвинтить…
Венка затаился: вагон с кормами – не соседкин огород. В огороде, бывало, поймают, в худшем случае наложат в штаны крапивы. Здесь – военный груз! Кто будет слушать, что хотелось поесть, что собирался взять только на одну кашу? Его колотило от холода, но он не смел шелохнуться. Сердитый сказал:
– Надо артиллеристам сообщить. Охрана нужна… А то ведь все перетаскают.
По обрезу люка заскребло, рядом с Венкой упала плитка. Вторая больно стукнула по ноге. Ушли. Прошло несколько томительных минут. Наконец, невдалеке свистнули: Мурзилка.
Цепляясь за что попало, лишь бы скорей отсюда, Венка юркнул в люк, схватил тужурку, оставленную на крыше, и спрыгнул в снег.
– Пос-стукай… – пролепетал он, когда прибежал Мурзилка. – Душа з-зашлась…
Мурзилка стал барабанить его по спине, тыкал в бока.
– А где продукты? – спросил испуганно.
Венка вздохнул и рявкнул:
– Стук-кай! Только по з-затылку-то з-зачем, дурья башка!
Утром по пути в школу Венка даже не взглянул в сторону вагонов, до того они стали ему ненавистны. На уроках о неудаче старался не вспоминать. Но к концу занятий дверь в класс приоткрылась и прилетела записка. Девчонки передали. Нехотя развернул. «Глянь в окно, засоня!» – было нацарапано карандашом. Обернулся – и не поверил глазам: от вагона веером разбегались пацаны.
Площадка напоминала муравейник, с той лишь разницей, что муравьи норовят сносить в одно место, а пацаны, наоборот, растаскивали. Отруби. Кто охапкой, как дрова, кто на плече, а кто под мышкой. Которые похитрее, отдали учебники девчонкам. Другие затолкали их под ремень и теперь маялись: падали в снег то отруби, то книги, потому что рук удерживать и то, и другое не хватало.
В толпе различил Мурзилку. Тот перевязал несколько плиток брючным ремнем и забросил их за спину. Отцовская шапка налезала на глаза, и он брел, не видя дороги, по колено в снегу. У него начали спадывать штаны. Отогнув полу фуфайки, Мурзилка стал свободной рукой придерживать их. В это время за спиной расползлись плитки. Попытался поправить, но окончательно запутался в штанинах и ткнулся носом в сугроб.
Венка еле досидел до звонка. Кубарем скатился с лестницы и, одеваясь на ходу, кинулся на улицу.
Дверь вагона распахнута. Расспрашивать не стал – не до этого. Вспомнил о веревке. Тем же путем, что и накануне; залез на крышу. Цела! «Вот когда ты пригодилась, ми-ла-я-а-а!» – упиваясь азартом, пропел на какой-то знакомый мотив. Связал несколько плиток и во весь дух – домой.
Из соседнего переулка вывернулись двое с салазками.
– Успеем? – спросили.
– Пока тихо… – ответил на бегу Венка. Повернул на Первомайскую, и чуть было не столкнулся с Егоровной.
Жила Егоровна напротив. Сколько Венка помнит, всегда была старой. И всегда верховодила. Но война ее надломила. То ли память о погибших сыновьях источила, то ли силы ушли. Чтобы быть на людях, напрашивалась с детьми посидеть. И ее жалели, не позволяли ходить за милостыней на чужие улицы. Помогали: кто картошенку от себя оторвет, кто горстку крупы. А то и супчика перепадало.
Егоровна, шаркая ботами, торопилась.
– Кашу, говорят, дают, что ли? – спросила она, узнав Венку.
– Дают, дают, бабуля! Высшего лошадиного сорта…
– Всем или только ребятишкам? Старикам-то дают ли? – услышал вдогонку, но отвечать не стал.
Навстречу, запыхавшись, бежали три мальчика. Один из них, самый маленький, подпоясанный зелененьким пояском от платья, отставал и чуть не плакал. Венка остановился. «Этого еще не хватало, чтоб чужие…» – подумал ревностно.
Малец вдруг споткнулся, упал и заревел. Который постарше, вернулся:
– Вставай, Митя! Из-за тебя и нам не достанется…
Венке сделалось не по себе. На закорках у него уютно пристроены четыре плитки жратвы. Ему надо – он большой… А мальцы перебьются, потому что чужие. Слово-то какое ненормальное – чужие…
– Эй, желудки! – крикнул он. Те нехотя вернулись: – Вас к вагону близко не подпустят… – сказал и опустил на снег свою ношу. – Вот вам по одной… И – марш по домам!
Мальчишки в сомнении посмотрели друг на друга, недоверчиво глянули на Венку, но отруби взяли.
Догнал Егоровну.
– Держи, бабуся, пока я добрый! Питайся… С такими харчами как графиня Монте-Кристо будешь до весны в потолок поплевывать…
Около вагона по-прежнему шум, толкотня. Мельком Венка увидел: в садике перед школой стоит, держась за сердце, директор Михаил Алексеевич, через дорогу семенит завуч.
Мальчишки повзрослев забрались в вагон и сваливали плитки в образовавшийся проход. Часть их падала в снег, на рельсы.
Венка выбрал, которые почище, стал увязывать. Пальцы от волнения не слушались.
Вдруг три выстрела разорвали воздух над головой и будто припечатали Венку к жгучему от мороза колесу. Чистый, как в кино, голос скомандовал:
– Отставить! Быстра! В две шеренги… стана-а-вись!
Не соображая, метнулся вслед за всеми. Шарахалась толпа вдоль вагона туда-сюда. Все норовили убраться в середину, подальше от стрелявшего. Венка оказался с краю и с изумлением узнал знакомого по госпиталю старшину.

Тот совсем не изменился. Так же уверенно сверкал выбритый до синевы затылок, из-под лихо сбитой набекрень шапки свисало на бровь крутое колечко кудрей, горела начищенная до самоварного блеска пряжка командирского ремня. Только вместо обмоток сегодня на нем были кирзовые сапоги.
Под старшиной нервно пританцовывал взмыленный жеребец. Левой рукой он то отпускал, то натягивал поводья, правой играючи помахивал наганом.
– Слушай сюда! – властно выкрикнул старшина, когда строй более-менее обозначился. – В соседнем гарнизоне нечем кормить строевых коней! Может задержаться отправка части на фронт, под Москву! Туда, где добиваем мы фашистского гада!
Он прогарцевал перед строем, всматриваясь в лица мальчишек; заглянул в вагон, перекинулся парой слов с завучем.
Венка глянул украдкой налево-направо. Все здесь были свои, и это немного успокаивало. Тут же и девчонки, которые побойчее. Замыкала строй продавщица из хлебного магазина. Она испуганно хлопала глазами и, как младенца, прижимала плитку к груди. Если через час, – вновь заговорил старшина, – вагон не будет загружен, я вынужден буду пойти по домам!
Для большей убедительности он дважды выстрелил. Конь вздрогнул, старшина пришпорил его и он, взяв в намет с места, ошметками снега забросал стоящих на правом фланге мальчишек.
– Как же так, мальчики? – сокрушался завуч. – Такое пятно ляжет на школу! Как думаешь, Смеляков, вернут дети отруби?
Что мог ответить Венка за других, когда не поручился бы за себя? На душе было муторно. Скорей бы уж угнали этот злополучный вагон! Но уходить дамой с пустыми руками ужасно не хотелось.
Он поднял облепленный снегом кусочек и положил в рот Вспомнил аппетитно жующего усатого коновода и живо представил, как обрадовалась бы мать, увидев на столе дымящийся горшок.
Около колеса заметил торчащий из-под снега уголок плитки. Подумал – осколочек… Валенком пнул. Плитка оказалась целой, только грязноватой. Успокаивая себя, решил, что такую коням нельзя. Воровато озираясь, улучил момент – спрятал под тужурку. Буркнул, что некогда, и зашагал к дому.
К вагону спешили пацаны с отрубями, а он, самый смелый на улице, корежился в панике: не дай бог вывалится из-под тужурки его добыча. Вот будет смеху! Засунув руки в карманы, придерживал ее цепко, как бомбу. А плитка упорно выскальзывала, и уж не было сил удерживать ее.
Наконец-то, наконец – дома! Швырнул плитку на лавку. Зачерпнул воды и долго пил. Материным фартуком смахнул с лица испарину.
Не раздеваясь, сел около окна. Конечно, этот фасонистый старшина не станет лазить по амбарам. Просто стиснет покрепче зубы от горькой обиды и отправит вагон как есть. А потом пройдет по улице, ведя коня под уздцы, да глянет на окна, как в глаза людей. И вряд ли кто не метнется тогда в простенок. А может, вернувшись в гарнизон, чтобы не оправдываться перед трибуналом в жалости к голодным ребятишкам, пустит себе пулю в сердце…
Вывезли из переулка знакомые ребята салазки, нагруженные доверху. Хлопнули ворота соседей: это, наверное, Мурзилка. Точно – он. Остановился. «Иди, чего уставился!» – махнул рукой Венка.
Провез детские саночки старичок Прохор Петрович. На саночках три плитки. Сзади, то ли помогая, то ли держась, чтоб не отстать, семенит малец, подпоясанный зелененьким пояском.
Из дома напротив вышла Егоровна. Черпая снег низенькими ботами, прошла по чуть обозначившейся тропинке к дороге, подняла плитку, как икону на богомолье…
Заметался Венка по избе. Наконец, нашел. Одежной щеткой стал счищать с плитки, ножиком выколупывать песчинки. Стамеской отколол по углам по крошечному кусочку, завернул в тряпицу и, положил за зеркало, куда мать до войны обычно прятала от него сахар.








