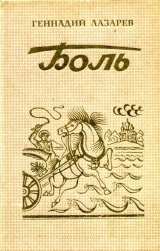
Текст книги "Боль"
Автор книги: Геннадий Лазарев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Во второй папке сверху лежало письмо, отпечатанное на машинке. Буква «о» выбивалась из строчки, и от письма рябило в глазах. Захар Яковлевич посмотрел на подпись и стал читать.
Комбинат бытового обслуживания «Рембыт»
Р у к о в о д и т е л ю
Следственными органами выявлена преступная группа, которая длительное время занималась организованным хищением материальных ценностей на центральной базе управления.
Прошу Вас срочно провести инвентаризацию последней партии поступившего на ваш склад хрома. По признанию злоумышленников из части мешков указанной партии ими похищено 12 (двенадцать) шкурок.
Заместитель прокурора города
Захар Яковлевич нажал кнопку звонка.
– Алевтина, – обратился он к секретарше, – пригласи, пожалуйста, Спиридонова… И пошли за Туркиным. Нет, сама сходи и за Туркиным… Ты у нас самая молодая… Только одевайся как следует: мороз опять вон какой!
– Да-а, дела… – прочитав письмо, протянул Спиридонов. – Я думаю, Захар Яковлевич, надо бы ребятишкам Прохора Ермолаича стачать из поступившего хрома сапожки, а к лету – туфли или что… – Прикурив и со вкусом затянувшись, добавил: – А может, перебьются…
1968, 1989 г.
ПЛАКСА-ВАКСА
Светлой памяти моей матушки, Анны Алексеевны, с любовью и благодарностью посвящаю
1
– А на могилу к дедушке Егору ты ходил? – спросил Павел.
Спросил и осекся, увидев, как совсем сник мальчонка. И пожалел, что свернул в переулок…
Павел не бывал здесь давненько – так уж сложилось… А раньше, в какую бы сторону ни вела отпускная дорога, он непременно выкраивал денек-другой на Москву, чтобы повидать дядю Егора и тетку Груню, а уж потом – к старикам, в тихонький городишко на Оке.
Походив досыта по морям-океанам, не изведав шумных застолий и праздной жизни, он в родных местах, как милости от судьбы, ждал встречи с теми, кто из его детства. Пока, бывало, идет с пристани, с кем только не посудачит. И о себе расскажет с удовольствием: кто такой и чей, и о житье-бытье расспросит; вспомнит, наконец, если не признал сразу, что за человек перед ним, – и радешенек до смерти!
Любил бродить по старым сбегающим к реке улицам. Отмечал: да, упорно вершит свое невеселое дело времечко. Грустил, вспоминая, как вон по той тропке веселой стайкой вприпрыжку летели к яру, с разбегу кидались в водоворот и как долго потом спорили с неуступчивыми окскими волнами.
Набрел раз на врытую на углу рельсу. Этой дорогой ходил он в школу. Как-то зимой мальчишки побойчее с таинственным видом шепнули: «Лизни, Пашка. Эх и ки-и-сленько!» Лизнул… Мальчишки разбежались, а он дернулся, но рельса не отпускала. Так и стоял, напустив с испугу в валенки, пока Ленка, глазастая девчонка из другого класса, не позвала на выручку хозяйку дома.
Преданно навещал древнюю аллею, что повторяла изгиб реки по-над крутым берегом; со странной верой ждал: вот сейчас из-за кустов выпорхнет та, глазастая. Выпорхнет и, как тогда, когда он снял с верхушки липы ее котенка, уважительно отметит: «А ты храбрый, Павлик!»
Захаживал в гости, не дожидаясь приглашения, по простоте душевной полагая, что и ему рады. Ведь вместе с ним, пусть на вечерок, но заглядывало же в дом хозяев их собственное детство!
И на этот раз решил сперва заехать к тетке Груне, которая, похоронив дядю Егора, стала просить навестить ее. Недавно к письму даже что-то вроде схемы приложила. Будто в дачном поселке можно заблудиться… Старый морской волк, он в океане находил дорогу по звездам!
Однако, судя по схеме, в поселке выросли новые кварталы. И в одном из них, в переулке Яснозоревом, обзавелся собственным домом Андрейка, можно сказать, Андрей Егорович.
…Трудно сказать, когда это началось. Еще не было войны… В то лето тетка Груня пригласила погостить.
Степень родства только с возрастом приобретает значение. Тогда они с Андрейкой об этом не задумывались. Выбрав уголок потемнее, придумывали разные страсти-мордасти, чтобы проверить себя на смелость, мечтали попасть, когда подрастут, на границу. А кто они по отношению друг к другу – не все ли равно!
Их день начинался с трамвая. Накатавшись до головокружения, бродили по залитым солнцем улицам, взявшись за руки и оставляя черными, как головешки, пятками вмятины на размякшем асфальте.
Каждое утро во дворе их поджидала Вика, нескладная, такая же глазастая, как Ленка, в жиденьких косичках – огромные банты. Повернет голову – банты взлетают с плеч, будто бабочки.
– Мальчики, возьмите, – Вика вежливо заглядывала в глаза, – мне тоже хочется Москву посмотреть. Возьмите, а? Я вам по эскимосине…
Андрейка отмахивался. Но однажды согласился – потребовав, однако, обещанное угощение.
Они стояли на остановке и весело уплетали мороженое. А Вика, поднимаясь на цыпочки, все ждала трамвай номер два. И порхали ее бабочки…
Когда от эскимо остались одни палочки, ребята тайком перемигнулись и – юркнули в толпу.
– Мальчики, возьмите, а? – умоляла Вика на следующее утро. – Я вам по пироженке…
Как подрастающие зверята с каждым днем все дальше отходят от своего логова, так и они ежедневно меняли направление и удлиняли маршрут.
Раз нашли Сокольники с его озорными комнатами смеха и разноцветными каруселями; разыскали царство зверей.
А однажды набрели на Третьяковку!
Андрейка потом уверял, что привел сюда Павлика специально.
– Ну и ладно, – соглашался тот. – На то ты и москвич, чтобы знать про Москву больше. Вот приедешь на Оку, – втайне смаковал он грядущие победы, – тогда посмотрим, кто дальше под водой проплывет, кто дудку звучистей вырежет…
Опрятная седенькая старушка, дежурившая около входа, позвала жестом и, по-доброму улыбаясь, сказала:
– То, что вы без гроша, – полбеды, так и быть, пропустила бы… Но вы ж босиком! Как бурлаки у Репина…
На следующее утро Андрейка за завтраком шепнул: «Ешь сытее: уходим до вечера!»
Дня и впрямь не хватило. Околдованные чудом сопричастности, они наивно радовались и печалились вместе с теми, кто жил, может, целых сто лет назад, а теперь вот, как живой, глядел с полотен с такой настороженной пытливостью, что аж мурашки по коже.
Павлику очень уж грустно было за одного мальчика. Сапожничал тот у чужих людей… Проведала его мать. И гостинец принесла – булку. Мальчику бы о дружках-товарищах расспросить, да отпустили от верстака прямо в фартуке всего-то на минутку. А тут еще гостинец… И так ужасно хочется отведать! Не устоял… И глядел так жалостливо, что Павлику впору плакать. Удержался: Андрейка увидит – обязательно съязвит своей любимой «плаксой-ваксой». «Плакса-вакса», колбаса, жарена капуста… Съела муху без хвоста и сказала: «Вкусно!»
Андрейка подошел, прошептал серьезным до незнакомости голосом:
– Вот увидишь – обязательно буду художником!
Павлик запечалился: мечты о службе на границе рушились. Утешала только гордость: пацанов вон сколько, но все норовят в танкисты да в летчики, где проще, а его братан – в художники! Он, может, один такой на всю Рогожскую заставу!
…В войну, когда немец подошел к Москве, тетка Груня приехала с Андрейкой на Оку.
Попала мать из огня да в полымя: ртов стало вдвое больше, а запасов никаких: в подполе – ни картошенки, в сусеках – ни крупинки.
И каким по-царски роскошным казался школьный завтрак на большой перемене! Пусть это был всего-навсего тонюсенький, на один жевок, ржаной сухарик с худосочной жижицей картофельного пюре – ждали его как манну небесную.
Первое время Андрейка держал фасон: москвич! Предложат сухарик, а он отвернется. Да еще и губы скривит – от неудовольствия.
Ребята постарше провели с ним воспитательную работу. Под лестницей, где обычно курили на переменах. Андрейка вышел оттуда очень сосредоточенный с распухшими ушами.
– Чтобы не брезговал! – пояснили ему.
Павлику стало жаль брата.
– Он же художник, понимаете вы! – напустился он на ребят.
– Подумаешь – художник!.. – возмутились те. – Что теперь, булку ему?
– Да он… Да он… – Павлик разволновался и выпалил вдруг пришедшее на ум: – Он фашистские зажигалки тушил! Во!
– Иди ты? – удивились ребята.
Андрейка, осмелев, снисходительно усмехнулся:
– А что? Запросто… Могу показать…
Зажигательных бомб, чтобы показать свое мастерство, конечно, не нашлось, но на уроке истории учительница попросила Андрейку рассказать о фронтовой Москве. Тот вышел к доске, откашлялся в кулак и стал рассказывать. Он так красочно нарисовал ночные дежурства на крыше, что Павлик и сам вроде поверил в это. Поверил и еще больше загордился братом.
Андрейку доизбрали в редколлегию стенгазеты и натаскали ему целую шапку лепешечек акварели довоенных запасов.
Немцев скоро прогнали от Москвы, и тетка Груня уехала. Андрейку решили оставить: надо было закончить учебный год.
Вскоре Павлик стал замечать, что мать все лучшенькое – Андрейке. Если на обед картошки, то Андрейке – на одну, но больше. Молока достанет – опять же Андрейке чашку не разбавленного, а ему наполовину с кипятком.
Раз чуть не разревелся от обиды.
Мать отвела его в чулан, назидательно пояснила:
– Первый кусок – гостю, так заведено. Не вертаться же ему худее, чем был… Что люди в Москве скажут?..
Павлик переживал не оттого, что мать обделяет. Нет. В конце концов, с голоду умереть не даст. Его обижало то, что Андрейка привилегии вроде бы и не замечал.
К пасхе мать раздобыла где-то яичко. Одно-единственное. Сварила его на медленном огне, чтобы не треснуло, покрасила в отваре луковой шелухи. За завтраком, перекрестившись на образа, протянула яичко Андрейке.
Павлик не выдержал, отошел к окну.
В палисаднике около стволов деревьев щетинилась травка. Ворковали под карнизом дикие голуби. На лужайке нарядные ребятишки играли в лапту.
Весна радовала. За весной – лето. А летом впроголодь спать ложится только лентяй. Уйдет половодье – в лугах, в болотинах, рыбу хоть картузом черпай. В оврагах щавель повылезает, столбунцы. Липового цвету можно насушить. Полезного в нем, говорят, полно…
Он смотрел на улицу, а сам, как чуда, ждал. Вот Андрейка стукнул яичком по столу. Соблазнительно зашуршала скорлупа… «Что же это он без соли? С солью-то в сто раз сытее…» – подумал с возмущением.
– Павлик! – позвал вдруг Андрейка, и Павлик, как заведенная игрушка, обернулся. У Андрейки на ладони, сложенной лодочкой, крохотное рыжее солнышко. – Возьми, Павлик! Это – тебе…
– Сам ешь! – в запальчивости выкрикнул Павлик, жалея о том, что говорит, и страдая от этого; и Андрейка метнул солнышко в рот…
2
Случилось так, что Павел летел в столицу на реактивном лайнере вдогонку за солнцем, ночь по этой причине неестественно удлинилась, и он чертовски устал. На Курском вокзале сел в электричку; вознамерился вздремнуть. Но, пока приноравливался к жесткой скамейке, за окном мелькнула знакомая до боли в сердце площадь со змейкой трамваев, сверкнули солнечными зайчиками витрины универмага, в котором они с Андрейкой до войны покупали ириски по пятаку за пару, – сон как рукой сняло, и он уж больше от окна не отрывался.
С веселым дробным перестуком электричка катила мимо дачных садов, по березовым перелескам. В приоткрытое окно врывался сдобренный ароматом скошенных трав шалый ветерок.
Из-за поворота показалась в пышном убранстве зелени нарядная недавно реставрированная церковь. Помнится, здесь они с Андрейкой сошли в тот вечер и подались к охотничьим угодьям вон по той грунтовой дороге. (Дернуло же их тогда сойти именно здесь…)
…Послевоенные комиссионки запомнились Павлику обилием старинных люстр, фарфоровых безделушек и никелированных самоваров. Откуда только все это взялось?
Андрейка искал натюрморт. Он задумал сделать копию и на вырученные деньги купить ботинки.
На окраине, в нешумном магазинчике увидели ружье. Обыкновенное, в общем-то, одноствольное. Но соблазняла цена.
– Почему так дешево? – поинтересовался Андрейка. – Может, неисправное?
– Из конфискованных, – пояснил продавец, икая перегаром.
Андрейка загорелся.
– Давай напополам купим! Одно лето буду пользоваться я, другое ты. Давай, Павлик, а?
У Павлика были деньги на рубашку. Подумав, он согласился.
– А паспорт есть? – спросил продавец.
– Есть, как же! – заверил Андрейка и сунул продавцу пятерку. – А как насчет патронов?
– Где-то были… – Продавец достал из-под прилавка старенький патронташ и многозначительно подмигнул, давая понять, что делает немалую услугу.
Весь вечер у них чесались руки: хотелось рассмотреть покупку поближе, да и момент был подходящий: дядя Егор в поездке. Но тетка Груня, как назло, не уходила – вязала. И утром не заторопилась, как обычно, на рынок, за картошкой подешевле, а долго гладила белье.
Они кругами ходили мимо зарослей крапивы в углу двора, где было спрятано ружье, и маялись. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы Андрейку не осенила идея отправить мать в кино.
У тетки Груни от радости сердце зашлось. В кино последний раз она ходила уж не помнила и когда, пожалуй, до войны. Однако обрадовалась она не билету, а поступку сына. «Господи, – перекрестилась мысленно, – неужто вырос, мой-то?»
Накормив ребят обедом, достала платье понарядней и модные туфли на среднем каблуке. Туфли по причине долгого лежания ссохлись и сильно жали. Она ошпарила их кипятком и заставила походить в них Андрейку.
– Вот еще! – возмутился тот, но туфли надел, и, пока мать утюжила платье, смешно изображал модниц, которые крутятся по вечерам около ресторана с накрашенными губами.
Тетка Груня, пока шла по двору, билет всем соседкам показала. Поясняла: «Вот, сын, Андрюша, велит сходить на цветное кино!»
Фильм был хорош! Диву дивилась тетка Груня, как это люди достигли, что на экране все в цвете, как у Андрюши на картинках. Даже глаза у Хозяйки Медной горы какого цвета – и то видать! Сидела она в третьем ряду, млела от восторга и сожалела маленько, что редко они с Егором в клубы ходят.
Вдруг дверь мигнула дневным светом; кто-то выкрикнул:
– Гражданка Коршунова – на выход! У вас в квартире стреляют!
Ни жива, ни мертва вышла тетка Груня из зала. Как дошла до дома, и не помнит.
На удивление, дома был порядок. Только попахивало, будто спички палили. К рамке зеркала приколот неоконченный рисунок с размашистой надписью: «Мам, нас не теряй, мы на охоте». Ниже излюбленная Андрейкина подпись, которую он ставил на своих картинах, – хитро переплетенные буквы А и К.
Вбежал милиционер с наганом в руке. При виде нагана тетка Груня и вовсе не совладела собой и бухнулась в обморок.
Ребята в это время были уже в электричке.
Управились они быстро. Проводив тетку Груню, собрали ружье. Проверили спусковой механизм – щелчок был коротким, немного пугал и волновал воображение. Потом захотелось проверить кучность: не разбрасывает ли оно дробь, ружье?
Павлик развесил на заборе, как раз напротив окна, две мишени. Глянул по сторонам, взмахнул рукой:
– Огонь!
Из-за горшков с геранью, стоявших на подоконнике, брызнуло пламя. Павлик, окутанный сизым облачком дыма, восторженно закивал на мишень с рваной дырой в центре, показал большой палец.
– Огонь!
Перейти двор, пересечь площадь было делом двух минут. А там как раз и электричка.
Сошли, где и все. Но, чтобы не мельтешить перед глазами у профессионалов с вислоухими собаками, повернули в другую сторону, мимо обезглавленной церкви.
Шли долго. Уже отпылал закат. Пора бы и речке блеснуть или какой болотине. Но, куда ни глянь, – ржаное поле с бугорками скирд да вдали, на пригорках, березовые колки. И – хоть бы ворона пролетела…
На ночь зарылись в снопы.
Павел помнит, каким не по-городскому прозрачным было небо. Ничто не искажало его естества, и оно своей обнаженной первозданностью вызывало смутное беспокойство.
– Никому не удавалось изобразить ночное небо таким вот – могучим, – заговорил вдруг Андрейка. – Помнишь в Третьяковке, у Куинджи? Но у него господствует луна. Поэтому совсем иная, чем теперь, цветовая гамма пространства. Изобразить небо вот так, как сейчас, – немыслимо. А с другой стороны, нужен ли он, натурализм? Надо написать человека и подчеркнуть одно из двух: или как он ничтожен на фоне неба, человек, или как велик – вот главное! Иного в искусстве быть не должно. Верно? Как ты считаешь?
Андрейка всегда так складно и, вроде бы, правильно рассуждал, что Павлик сразу умолкал. Вот и на этот раз – он прикинулся спящим.
Проснулись от солнца: давно наступило утро.
Было тихо, покойно. Стрекотали кузнечики. Издалека доносились хлопки кнута. Это подгоняли быков, впряженных в жатку.
По дороге, громыхая порожними бидонами, проехала повозка.
– Послушай, парень! – обратился к вознице Андрейка. – Будь другом, подскажи, где тут уточек к обеду добыть, а?
– Вы чё, ребята? – удивился тот. – В наших местах уток нема. Вы маленько не туда притопали. Ошиблись насчет уточек верст на десять…
Делать было нечего – сели завтракать.
Освободившуюся из-под молока бутылку поставили на землю. Метнули на орла-решку. Выпало Павлику. Отойдя шагов на двадцать, он выстрелил – и от бутылки осталось только донышко. И тут же невдалеке взметнулась и погасла, как пламя свечи стайка птиц.
– Ложись! – всполошился Андрейка. – Дай ружье…
Скрываясь за скирдами, поползли. И вскоре увидели стаю. То были голуби, верно, из тех, которые гнездятся на колокольнях, кормятся около человека и его не страшатся. Андрейка выстрелил. На земле осталось четыре или пять птиц. Они судорожно били крыльями. Одна из них, волоча перебитое крыло, слепо ковыляла кругами.
– Собирай! – прошептал Андрейка, а сам кинулся вслед за стаей.
– Стой! – взмолился Павлик. Подбежал, вцепился в ружье. – Хватит!
– Отойди! – Андрейка резко крутанул ружьем, угрожающе повел глазами. – Замолкни, плакса-вакса, сопли-слюни, распустил Павлуша нюни!
Павлик зажал ладонями уши и побежал по золотистой колючей стерне, куда глаза глядят.
Когда вернулся домой, за столом пил чай милиционер. Тетка Груня, черная с лица, кинулась навстречу:
– Павлушенька, Христа ради! Андрюша жив?
– Где ружье? – деловито спросил милиционер.
…Андрейку взяли, как только тот вышел из вагона. Ружье отобрали. Рюкзак, битком набитый трофеями, – тоже. Как вещественное доказательство…
Прошло несколько дней. Об охоте не вспоминали. Будто и не было вовсе ни ружья, ни растерзанных птиц. Но все эти дни Павлика ни на минуту, не покидало предчувствие беды. Все существо его корчилось от боли, однако сделать шаг к тому невидимому рубежу, за которым у них с Андрейкой все могло стать по-прежнему, он не мог. Или не хотел.
После завтрака разъезжались. Молча шли к трамвайной остановке. Андрейка со своим этюдником, Павлик с зажатой в кулаке авоськой, которую тетя Груня неизменно ему навязывала на всякий случай, а он исправно прятал ее до вечера под большой камень.
В то утро они повстречались с Викой.
Вика изменилась. Вместо косичек с бантами-бабочками у нее тугая коса. А глаза – такие разные: то сияют восторгом, то о чем-то игриво вопрошают, то вдруг затлевает в них грусть, и тогда все краски вокруг нее увядают. Вика вышла из тени, и Павлику почудилось, что она в своем легком платьице словно соткана из солнечных лучиков.
– Здравствуйте, мальчики! Куда это вы спозаранок?
– Кто куда… Я за город, на натуру. А вот он ищет себе… – Андрейка криво усмехнулся, – рубаху… косоворотку…
Павлик вспыхнул. Робко взглянул на Вику. По тому, как у нее запечалился взгляд, понял – неловко ей за Андрейку.
Помолчали.
– А знаете что? – проговорила Вика и щеки ее заалели. – Давайте вечером сходим куда-нибудь!
– Куда, к примеру?.. – спросил Андрейка.
– Поехали в Измайловский парк! – оживилась Вика. – Там, говорят, танцы под духовой…
– И что мы будем делать?
– Как что? Танцевать! Я научу…
Андрейка поправил ремень этюдника. Сказал, деланно зевая:
– Поезжайте с Павликом, у него есть время… на лирику…
Вика посмотрела на Павлика и как-то странно притихла. Тот не выдержал, отвернулся, бешено заколотилось сердце.
Пауза затянулась. Андрейка пинал камешки, Павлик сосредоточенно рассматривал водосточную трубу.
– Кстати, Павлик, – нарушила молчание Вика, – как ты думаешь, станет Андрей художником? Настоящим…
Она спросила об этом, должно быть, просто так, чтобы разрядить обстановку. И Павлик был ей за это благодарен. Однако надо было отвечать, шуткой тут не отделаться. И он ушибленно молчал.
– А что скажешь ты? – строго улыбаясь, Вика обратилась к Андрейке.
– Видишь ли, – насмешливо проговорил тот, – мой братец без каких-либо ярко и даже не ярко выраженных задатков дарования. А всякая бездарность завистлива. Вот и он – злится от зависти!
– Нет, уж нет! – перебил, распаляясь, Павлик. – Художник вправе любить или ненавидеть своих героев. У него может испепелиться душа от противоречий. Но в одном он целен: мучения его не напрасны, восторжествует добро. А ты – злой! Злой…
Швырнул авоську в сторону и зашагал прочь.
– Ты не смеешь так говорить! – с болью выкрикнула вслед Вика. – Это неправда! Ты лжешь! Ты бессовестный лгун!
3
А вон и озерко! На следующей станции выходить. Здесь недалеко; они с Андрейкой бегали сюда, бывало, в кино в маленький деревянный клуб. Вон и тропку видать, что огибает озерко и бежит по лугу с бархатной травкой. Идет по тропке женщина с малышом. Карапуз чуть впереди вышагивает важно, как большой, рядом с матерью его ничто не страшит.
А женщина приостановилась и робко взмахнула вслед электричке. Может, вспомнила о ком-то и мысленно послала ему добрый привет. Почему-то проходящие поезда всегда порождают воспоминания. Провожая их, мы всегда испытываем какую-то смутную необъяснимую обеспокоенность.
Женщина стояла и все еще махала рукой, и Павел подумал, что, пожалуй, нигде так остро, как в поезде, не чувствуется безвозвратность только что прожитого мгновения.
Зашипели тормоза… Повеяло с платформы парными испарениями недавнего дождичка, негородской свежестью умытой травы.
Поселка не узнать. Дачи в два этажа, щеголяя формами, уплывают белыми пароходами в глубь поредевшей рощи.
От поляны, на которой со дня, наверное, сотворения мира гоняли мяч, не осталось и следа. Сверкает модными витражами кафе. Толпятся у входа втиснутые в джинсы рослые юнцы; поплевывают сквозь зубы, пощелкивают газовыми зажигалочками.
Из-под древнего вяза, что закрыл своею тенью кафе, глазеют пацаны с выгоревшими вихрами. Галдят, не слушая друг друга, готовые вскочить на свои велосипеды с изогнутыми, как рога горного козла, рулями. Вспорхнут и, как стайка воробьев, умчат неизвестно куда. Вскоре снова здесь; снова, посмеиваясь в сторонку, поглядывают на таких непонятных лиловогубых сверстниц, которые, со значением изогнув мизинчик, воровато насыщают себя соблазнительным дымком.
Павел припомнил, как под вязом торчали из земли два кола, изображавшие футбольные ворота, как и ему не раз доводилось защищать спортивную честь Андрейкиной слободы.
Интересно, каким он стал за эти годы Андрейка, Андрей Егорович Коршунов? И как у них с Викой? В последнюю встречу он производил впечатление человека, у которого в жизни все удалось. Он прочно закрепился на постоянных заказах и, по разговорам, зарабатывал неплохо. Во всяком случае, Вика могла позволить себе не работать.
Правда, в ресторане, куда Павел пригласил их обмыть очередную свою звездочку, Андрей, подвыпив, плакался, что натюрморты для комиссионок и автомобили в разрезе для обложек технических журналов ему осточертели.
– Ты знаешь, – шептал он доверительно, – в задумке у меня капитальное жанровое полотно. И тема, я тебе доложу, и типажи подобраны – закачаешься! Я вижу ее, свою картину… Я ей живу! Дай мне только мастерскую!
В зале было празднично и шумно, но за их столиком незримо витала грусть. Павла после отпуска ждало новое назначение, и он не мог не думать о том, как встретят его на новейшем корабле в качестве командира совершенно незнакомые люди. Андрей много пил и все кому-то жаловался. Вика, казалось, ушла в себя и больше молчала. Но Павел чувствовал что она ловит буквально каждое его слово и, благодарный, хотя и обращался к Андрею, по сути разговаривал с нею.
Уже после кофе, когда официант робко положил на краешек стола счет. Андрей бурно затребовал на посошок коньяку. Павел заказал. В это время оркестр заиграл что-то старинное, и Павел впервые за весь вечер открыто и отважно взглянул на Вику.
Это был их первый танец, и Павел заробел отчаянно. Его не смутила ни тихая нежность ее близкого дыхания, ни чарующий изгиб талии, ни кокетливо выпорхнувшая из-под обреза платья крохотная родинка на груди, о существовании которой он и не подозревал и которая загадочным образом вмиг развеяла обволакивающую их обоих настороженность – его всполошили ее глаза: трепетные, они доверительно струили странную покорность.
Он притронулся губами к ее теплым прохладным пальцам, уютно улегшимся на его потной от волнения ладони, и притих, страшась спугнуть ненужным словом это их сладкое негласное единение.
– Спасибо… – прошептала Вика, прочувствовав, должно быть, его настроение.
А на другой день… Наверное, это должно было когда-то случиться, ведь заноза чаще напоминает о себе не сразу.
Утром Андрей предложил попариться в баньке, побаловаться пивком с воблой, которой из-под полы втридорога снабжали завсегдатаев проворные банщики. Павел согласился. Чтобы в военной форме не выглядеть в бане белой вороной, надел спортивный костюм, видавшую виды шинель путейца, которую дядя Егор надевал разве что в сараюшку за дровами, нахлобучил фуражку с треснувшим козырьком. Андрей же, как был в новом пальто и велюровой шляпе, так и пошел. Мохеровый шарф, которые тогда входили в моду, окончательно делал его похожим на артиста.
Попарились, и все остальное…
В гардеробе румяный здоровяк швырнул шинельку на бортик и кинулся одевать Андрея.
Стоя перед зеркалом и не зная, как лучше надеть нелепо приплюснутую фуражку, Павел добродушно улыбался.
Подошел Андрей. Поправляя шарф, проговорил:
– Дай полтинник. Короче!..
– Не понял… – растерялся Павел.
– Полтинник, говорю, дай! Человек ждет…
Павел обернулся. Поймав настороженный взгляд розовощекого со щеткой в руках, понял, о чем речь. Его обуяла злость. И на румяного, которому с такими кулачищами не пылинки с чужих шляп стряхивать, а впору подковы в цирке разгибать, но больше на брата. Румяный нашел свое счастье – ну и черт с ним, в конце концов! Но Андрей… Замашки барские – и все на дармовщину! Сказал, как отрубил:
– Мелочи не держим!
– Может, рупь? – сделавшись вдруг жалким, с отчаянием пролепетал Андрей.
Павел картинно развел руками и, ликуя, как мальчишка, пропел: «Плакса-вакса-гуталин, испеки на пузе блин!»
Андрей, должно быть, рассказал обо всем Вике. Возможно, представил все не так, как было на самом деле. Только стала Вика молчаливой и печальной.
– Мне нужно с тобой поговорить, Павлик? Об Андрее… – сказала она, случайно, а может, и не случайно встретив его на другой день на кухне, и румянец смущения разлился по ее лицу. Вскинула взгляд, и Павлу сделалось не по себе. «Что мне делать? Что мне делать?» – казалось, кричали ее глаза.
Чем он ей мог помочь? Рассказать о том, как забившись в ржаные снопы, плакал, прощаясь с детскими мечтами? Или о том, что до сих пор не может забыть сотканную из солнечных лучиков девчонку?
4
«Переулок Яснозоревый», – прочитал Павел на табличке. Свернул на поблескивающую лужами тропу. Оставляя на набрякшем песке следы, поравнялся вскоре с веселеньким с виду домом. Над забором степенно покачиваются верхушки георгинов. В глубине сад словно перечеркнут каркасом из протравленных суриком конструкций. «Мастерскую, кажись, задумал… Наконец-то!»
Калитка скрипнула, и на улицу, толкая впереди себя мопед, вышел мальчик в пестрой рубашке.
Павел так и ахнул: надо же – вылитый Андрейка образца сорок первого года! Таким вот тот приехал на Оку в эвакуацию. Даже нос, и тот, как у Андрейки, – облупленный.
– Здравствуй, Никита!
– Здравствуйте… – мальчик несмело глянул и перевел взгляд на поблескивающий золотом кортик, висевший на боку у Павла.
– А ты большой стал… Сколько тебе?
– Скоро двенадцать… А откуда вы меня знаете?
– Я все про тебя знаю… Знаю, например, что твоего отца звать Андреем, а маму Викторией, а сам ты перешел в пятый класс…
– Вот и нет! – обрадовался Никита. – Я пошел в школу в шесть…
– Виноват, ошибся! – улыбаясь, Павел развел руками. – Зато я уверен, учишься на одни четверки и пятерки! Но вот по поведению – преподаватели сомневаются… Верно?
– Ага-а… – удивился Никита.
– Вот видишь… А меня ты узнал? – спросил Павел и в предвкушении ответа заважничал.
Никита с ответом откровенно не спешил.
– Не понял… – насторожился Павел? – Неужели не узнаешь?
Никита по-отцовски независимым взглядом смерил Павла с ног до головы и с сожалением покачал головой.
Павел сконфуженно полез в карман за платком. Дрогнувшим голосом проговорил:
– Ты что, брат, на самом деле ничего не слышал о военном моряке дяде Павле, а?
Никита грустно молчал.
– Отец дома? – спросил Павел.
– Дома. Мастерит… теплицу…
– Мать?
– В город поехала…
– Та-ак… – протянул Павел, стараясь осмыслить происходящее. – Скажи, Никита, твоя фамилия Коршунов?
– А как же! – ответил мальчик.
– Вот и я Коршунов! Представляешь, старик? Коршуновы мы, вот ведь какие пироги! Мы с твоим отцом щи из одной чашки, понял?
– Да-а? – изумился Никита. – Так это ж здорово, дядя Павел! – Вдруг спохватился: – Тогда почему не заходите к нам?
– А потому, брат, и не захожу, что не знаешь обо мне… Будто меня и нет вовсе. Представляешь, всю жизнь считаешь, что ты есть, а на поверку выходит…
– Извините, – смутился Никита. – Я не хотел… Я папу позову!
– Отставить! Лучше проводи-ка меня… к бабушке Груне!
Они медленно шли по переулку. Молчали. Никита понуро катил мопед. Павел, придерживая бренькающий кортик, шагал чуть сзади.
На душе у него было муторно. Он переживал не оттого, что о нем ничего не знает этот вот, в общем-то, симпатичный, мальчишка. Мучил вопрос: почему это стало возможным? Неужели о нем, единственном в родне моряке, далеко не случайно получившем в мирное время боевой орден, никогда не шел разговор в доме Андрея? Спросил о другом.
– Как бабушка, не хворает?
– Вроде, нет…
– Ты часто у ней бываешь?
– Бываю… – неопределенно ответил Никита.
– Точнее!
– Каждую неделю…
– С мотором мог бы и почаще, а?
– Вам бы тоже не захотелось – почаще, – парировал Никита. – К ней просто так заглянешь, а она обязательно блины. Я их терпеть не могу!
– А что ты любишь?
– Картошку… жареную…
– Та-ак… А картошки ты привез ей хоть раз на своем моторе, а? Есть у вас рынок?
Никита не ответил. Только шмыгнул носом. Было заметно, как тает его уверенность, и Павел жалел мальчишку. Тому бы сейчас на мопед и – в поле, где ветер. А вместо этого скучный разговор. И он решил спросить, что попроще.
– Дедушку Егора помнишь?
– Еще бы! – оживился Никита.








