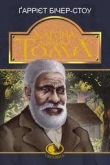Текст книги "Хижина дяди Тома (другой перевод)"
Автор книги: Гарриет Бичер-Стоу
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 28 страниц)
Повернувшись, Сен-Клер вдруг заметил Тома. Он стоял, переминаясь с ноги на ногу, явно испытывая неловкость. Напротив него, небрежно прислонившись к колонне, стоял Адольф и рассматривал его в лорнет с развязностью, которой мог бы позавидовать любой светский франт.
– Ты что это, плут? – сказал Сен-Клер. – Так-то ты относишься к своему товарищу? Мне кажется, милый мой, – добавил он, коснувшись пальцем вышитого жилета Адольфа, – мне кажется, что это мой жилет…
– О, мастер! Он весь был залит вином, и джентльмен с таким положением, как мастер, не стал бы носить его… Он годится только для такого бедного негра, как я.
И Адольф, покачав головой, провел рукой по своим надушенным волосам.
– Ну, ладно, прощаю тебе на этот раз, – улыбнувшись, произнес Сен-Клер. – Сейчас я покажу Тома его госпоже, затем ты отведешь его на кухню, и постарайся не задирать перед ним носа. Имей в виду, что он сто́ит двух таких франтов, как ты.
– Мастер всегда шутит, – сказал с самодовольным смехом Адольф. – Мне очень приятно, что мастер приехал такой веселый.
– Пойдем, Том, – сказал Сен-Клер.
Том вошел в гостиную. Молча любовался он бархатными коврами и всей этой роскошью. Даже во сне он не видел ничего похожего: зеркала, картины, разрисованные потолки, статуи, портреты, – и, подобно царице Савской перед лицом царя Соломона, он замер, не смея даже шагнуть вперед.

– Вот видите, Мари, я купил наконец для вас кучера, – сказал Сен-Клер. – Он столь же воздержан, сколь и черен, и будет возить вас, если прикажете, как на похоронах. Откройте глаза и взгляните… И не говорите больше, что я не думаю о вас, когда путешествую.
Мари, приоткрыв глаза, поглядела на Тома.
– Я уверена, что он пьяница, – протянула она.
– Нет, нет! Мне ручались, что товар благочестивый и трезвый.
– Я очень желала бы, чтобы он вел себя прилично, но мало в это верю.
– Адольф, отведи Тома на кухню, – приказал Сен-Клер. – И не важничай, помни, что я говорил тебе.
Адольф удалился. Том последовал за ним, тяжело ступая.
– Настоящий бегемот! – проговорила Мари.
– Ну, будет, Мари, улыбнитесь! – произнес Сен-Клер, усаживаясь на пуфе около кушетки. – Скажите что-нибудь приятное вашему бедному мужу, вернувшемуся из дальних странствий.
– Вы пробыли в поездке на две недели больше, чем было условлено, – сказала Мари.
– Но ведь я объяснил вам причину.
– Да, в таком коротком и холодном письме.
– Но, дорогая моя, как раз уходила почта, я мог написать только несколько строк или ничего.
– Всегда так, – ответила супруга. – Всегда найдется повод продлить поездку и укоротить письмо.
– Поглядите, – снова начал Сен-Клер, доставая изящный бархатный футляр и раскрывая его. – Это подарок, который я привез вам из Нью-Йорка.
Это был дагерротип[16]16
Дагерротип – первоначальный вид фотографии; изображение получалось путем воздействия световых лучей на металлическую пластинку, покрытую светочувствительным слоем.
[Закрыть], четкий и ясный, как гравюра. На нем была изображена Ева с отцом.
Мари с неудовольствием поглядела на портрет:
– Какая нелепая поза!
– Поза – дело вкуса, но какого вы мнения о сходстве?
– Если вы не считаетесь с моим мнением в одном отношении, вас не должно оно интересовать и в другом, – ответила жена, закрывая футляр.
– Но все же скажите, Мари, – настаивал Сен-Клер, – похоже, по-вашему, или нет? Будьте умницей!
– С вашей стороны, Сен-Клер, очень дурно принуждать меня так долго разговаривать. Вы ведь знаете, что у меня целый день была мигрень, а в доме, с тех пор как вы приехали, такой шум, что я просто умираю!
– Вы подвержены мигреням, мэ-эм? – вмешалась мисс Офелия, поднимаясь из глубокого кресла, в котором она до сих пор спокойно сидела, составляя про себя подробную опись меблировки.
– Я страдаю, как мученица, от этих мигреней, – проговорила миссис Сен-Клер.
– Можжевеловая настойка – великолепное средство против мигреней, – сказала мисс Офелия. – Таково, по крайней мере, мнение Августины, жены Дэкона-Абрама Пирри, лучшей сиделки во всей нашей местности.
– Я прикажу собрать первый же урожай этих ягод, когда они созреют в нашем саду на берегу озера, – сказал Сен-Клер и позвонил. – Сестрица, – добавил он, – вам, наверно, хочется отдохнуть в вашей комнате после такой утомительной дороги? Адольф, – сказал он, обращаясь к вошедшему мулату, – пришлите сюда Мэмми.
Через минуту появилась мулатка, которую Ева так горячо целовала при встрече. Девочка уже успела собственноручно повязать ей голову привезенным в подарок пестрым платком.
– Мэмми, – сказал Сен-Клер, – я поручаю эту леди твоим заботам. Она устала и нуждается в отдыхе. Проводи ее в отведенную для нее комнату и смотри, чтобы ей было удобно.
Мэмми двинулась к дверям. За ней вышла и мисс Офелия.
Глава XVI
Хозяйка Тома и ее взгляды
– Итак, Мари, теперь наступит для вас золотое время. Я привез к вам кузину, практичнейшую из женщин. Она снимет с ваших плеч все хозяйственные заботы и предоставит вам возможность заняться собой и снова стать молодой и прекрасной. Вам больше не будет досаждать необходимость возиться с ключами. Церемонию передачи ключей нужно проделать возможно скорее.
Слова эти были сказаны за завтраком через несколько дней после приезда мисс Офелии.
– Я очень рада ее приезду, – проговорила Мари, томно подпирая голову рукой. – Скоро она убедится, что в наших условиях хозяйка – вот кто настоящая рабыня.
– О, конечно, она в этом убедится, – подтвердил Сен-Клер, – а также убедится и во многом другом.
– Нас упрекают, – сказала Мари, – за то, что мы держим рабов. Как будто мы делаем это для себя! Если б мы заботились о себе, то отпустили бы их всех разом.
Ева глядела на мать своими большими, серьезными глазами. Казалось, ответ матери был ей не вполне понятен.
– Но тогда, мама, почему же ты их держишь? – спросила она просто.
– Право, не знаю… Нам на горе… Они отравляют мне жизнь. Они-то больше всего виновны в моем недомогании… Наши негры самые худшие из всех, какие существуют!
– Мари, вы сегодня поднялись с левой ноги, – шутливо заметил Сен-Клер. – Вы ведь сами знаете, что все это не так. Ну, хотя бы Мэмми, разве она не милейшее создание? Что бы вы делали без нее?
– Мэмми, конечно, отличная служанка, – сказала миссис Сен-Клер, – и все же она, как и все эти цветные, недопустимо эгоистична.
– О, эгоизм – ужасная вещь! – торжественно произнес Сен-Клер.
– Вот хотя бы, например, – продолжала Мари, – разве не эгоистично спать так крепко? Она отлично знает, что, когда повторяются мои припадки, я ежечасно нуждаюсь в мелких услугах. Ну, и что же? Ее ужасно трудно разбудить! Усилия, которые мне пришлось применить этой ночью, виной тому, что я сегодня так слаба.
– А разве она не просидела подле тебя все последние ночи, мама? – робко проговорила Ева.
– Кто это тебе сказал? – с досадой спросила Мари. – Значит, она жаловалась?
– Нет, она не жаловалась. Она только рассказывала, как плохо тебе бывало по ночам.
– Почему же, – спросил Сен-Клер, – вы не велите Розе или Джэн заменить ее на ночь или две? Она бы отдохнула.
– Как вы можете предложить мне нечто подобное, Сен-Клер? Вы, право, не думаете о том, что говорите! Прикосновение чужих рук довело бы меня до судорог! Если бы Мэмми была предана как должно, она легче переносила бы бессонные ночи. Мне рассказывали о людях, у которых такие преданные слуги. Но мне не выпало на долю такого счастья! – И Мари тяжело вздохнула.
Мисс Офелия выслушала эту речь с холодным достоинством, сжав губы, как человек, твердо решивший хорошенько разобраться в обстановке, раньше чем рискнуть высказаться.
– Мэмми, конечно, по-своему добра, – продолжала Мари. – Она кротка и почтительна. Но в глубине души она эгоистка и никогда не перестанет тосковать и просить о возвращении ее мужа. Когда я вышла замуж, я привезла ее сюда. Отец мой оставил себе ее мужа. Ее муж кузнец и был очень нужен моему отцу. Я полагала и говорила им, что, раз им уже не придется жить вместе, они должны считать себя разведенными. Мне следовало быть настойчивее и выдать Мэмми замуж за другого. Я этого не сделала. Я была чересчур добра и слабохарактерна. Я сказала Мэмми, что ей не придется видеться со своим мужем чаще, чем раз или два за всю дальнейшую жизнь, потому что воздух в тех краях, где живет мой отец, вреден для моего здоровья, и я не могу часто ездить туда. Я посоветовала ей выбрать себе кого-нибудь из здешних. Так нет же! Она и слышать об этом не захотела. Мэмми подчас ужасно упряма, но об этом знаю только я одна.
– У нее есть дети? – спросила мисс Офелия.
– Да, двое.
– Ей, наверно, очень тяжела эта разлука.
– Возможно. Но не могла же я привезти их сюда… Это два маленьких нечистоплотных зверька. Я не могла бы терпеть их близко от себя. И затем они отнимали бы у нее все ее время. Я уверена, что Мэмми была всем этим немного огорчена. Она так и не пожелала выбрать себе другого мужа и если б только могла, то хоть завтра вернулась бы к своему прежнему мужу. Да, да, я в этом уверена! Люди теперь так эгоистичны, даже лучшие из них!
– Тяжело и думать об этом, – сухо проговорил Сен-Клер.
Мисс Офелия остановила на нем проницательный взгляд. Она угадывала раздражение, накоплявшееся в нем, видела язвительную улыбку, морщившую его губы.
– Мэмми всегда была моей любимицей, – снова заговорила Мари. – Хотела бы я показать ее гардероб вашим служанкам на Севере: шелк, кисея и настоящий батист! Я не раз целыми днями возилась, делая для нее шляпы, чтобы она могла отправиться на какое-нибудь празднество. С ней всегда очень хорошо обращались и плетью наказывали не больше одного-двух раз за всю ее жизнь. Она ежедневно получала чай или крепкий кофе с белым сахаром…
Ева, все время слушавшая мать со странным сосредоточенным и углубленным выражением, иногда появлявшимся на ее лице, тихонько подошла к ней и обвила руками ее шею.
– В чем дело, Ева? Что тебе надо?
– Мама, – проговорила девочка, – не могла бы я посидеть около тебя ночь? Одну-единственную ночь? Я уверена, что не стала бы тебя расстраивать и не заснула бы… Я так часто не сплю по ночам… лежу и думаю…
– Какие глупости, дитя! Какие глупости! Странное ты существо, право!
– Ты позволишь, мама? Мне кажется… – робко добавила она, – мне кажется, что Мэмми не совсем здорова… Она говорила, что с некоторых пор у нее все время болит голова…
– Да, это одна из выдумок Мэмми! Мэмми такая же, как и все негры: она способна поднять бог весть какой шум, если у нее заболит голова или палец. Не следует им в этом потворствовать. Ни в каком случае! Для меня это стало принципом! – воскликнула она, обращаясь к Офелии. – Если вы только позволите рабам по всякому поводу жаловаться, вы скоро знать не будете, кого из них слушать! Я сама никогда не жалуюсь. Никто не знает, как я страдаю… По-моему, долг каждого человека страдать молча. И я молчу.
Это заявление было столь неожиданным, что в круглых глазах мисс Офелии отразилось безмерное удивление, которое она не в силах была скрыть, тогда как Сен-Клер от души расхохотался.
– Сен-Клер всегда смеется, стоит мне лишь намекнуть на мои страдания, – произнесла Мари голосом умирающей мученицы. – Как бы он когда-нибудь не пожалел об этом!
Мари поднесла платок к глазам.
Наступило тягостное молчание. Сен-Клер поднялся и, взглянув на часы, сказал, что ему необходимо уйти по делу. Ева выбежала за ним. Леди Сен-Клер и Офелия остались за столом одни.
– Сен-Клер всегда такой! – сказала Мари, резким движением спрятав платок, как только бесчувственный супруг, на которого этот платок должен был оказать воздействие, скрылся из глаз. – Он и понятия не имеет, как я страдаю все эти годы. Он был бы прав, если бы я когда-нибудь жаловалась или говорила о себе. Мужчинам надоедают плаксивые, вечно ноющие жены. Но я молчала, я покорилась своей судьбе… Да, покорилась. И Сен-Клеру стало казаться, что я все могу перенести.
Мисс Офелия не могла придумать подходящего ответа. Пока она размышляла, Мари утирала слезы и, казалось, разглаживала перышки, словно голубка после дождя. Тут же она завела с Офелией хозяйственный разговор о посуде, о мебели, о запасах – другими словами, обо всем, что Офелия должна была взять в свои руки. При этом она осыпала ее таким множеством советов и наставлений, что голова менее устойчивая, чем голова мисс Офелии, наверняка бы не выдержала.
– Ну вот, – сказала в заключение Мари, – мне кажется, я вам все объяснила. И как только у меня снова наступит ухудшение, вы будете иметь возможность действовать, не спрашивая меня ни о чем. Но прошу вас, приглядывайте за Евой. За ней нужно следить.
– По-моему, она чудесный ребенок, – ответила мисс Офелия. – Мне за всю мою жизнь не приходилось видеть лучшего.
– Она очень странная… очень странная! – протянула Мари. – У нее так много причуд… Она совсем не похожа на меня. – Мари вздохнула, словно бы подтверждая нечто очень печальное.
«Какое счастье, что не похожа», – подумала в это время Офелия, но из предосторожности не высказала своего мнения вслух.
– Ева всегда любила общество слуг, – продолжала Мари. – Господи, это, конечно, бывает у многих детей. Я сама в детстве в усадьбе отца играла с маленькими негритятами. Но Ева способна становиться на равную ногу со всеми, с кем только имеет дело. Мне до сих пор не удалось ее отучить от этого, так как Сен-Клер потворствует ее капризам. Сен-Клер балует в своем доме всех… кроме собственной жены.
Мисс Офелия по-прежнему хранила молчание.
– С рабами, – заговорила снова Мари, – можно держаться только так: их нужно заставлять чувствовать, что они низшие существа, – это прежде всего, и затем крепко держать в руках.
– Но вы все же допускаете, – неожиданно резко спросила Офелия, – что рабы – это люди и им нужен отдых, когда они устают?
– Разумеется, разумеется. Я хочу, чтобы у них было все, что им по справедливости полагается, все, чего требуют приличия… Мэмми может поспать… не сейчас, так в другое время. Тут нет ничего сложного. Я не видела другой такой сони, как она. Спит сидя, стоя, за работой – где придется. Не беспокойтесь, она не умрет от отсутствия сна! Но, знаете, обращаться с неграми, как с экзотическими растениями или с китайским фарфором, просто смешно! – сказала она, опускаясь на мягкие подушки кушетки и поднося к носу хрустальный флакон с ароматической солью.
– Вот видите, – проговорила она вдруг угасающим голосом, – видите, кузина Офелия, я не часто говорю о себе, у меня нет этой привычки. Я этого не люблю… Да по правде сказать, у меня нет на это сил. Но есть вопросы, в которых мы расходимся с Сен-Клером. Сен-Клер никогда не понимал и не ценил меня. Я думаю, что это связано с состоянием моего здоровья. Мужчины ведь эгоисты. Это свойственно им по природе. Они не понимают женщин…
Мисс Офелия, осторожная, как все жители Новой Англии, больше всего на свете боялась впутываться в чужие семейные дрязги. Она поняла, что ей грозит чересчур откровенное признание. Лицо ее мгновенно приняло непроницаемое выражение. Она вытащила из своей рабочей корзинки чулок длиной чуть не в полтора ярда и энергично заработала спицами. Ее губы сжались так крепко, словно желали выразить: «Вы хотите вызвать меня на разговор? Но вам не удастся впутать меня в ваши дела!» Лицо ее выражало столько же сочувствия, сколько мог бы выразить каменный лев.
Но Мари не обратила на это внимания. Она нашла себе слушателя, ей хотелось говорить, и этого было для нее достаточно. Она еще раз понюхала флакон, черпая в нем силы, и продолжала:
– Вы понимаете… выходя за Сен-Клера, я принесла ему в приданое мои денежные средства и моих рабов. Поэтому я вправе распоряжаться ими так, как считаю нужным. У Сен-Клера – свое состояние и свои рабы. Пусть обращается с ними, как ему заблагорассудится. Но в мои дела пусть не вмешивается! У него по многим вопросам самые дикие взгляды… в особенности на то, как следует обращаться с рабами. Он ведет себя по отношению к ним так, будто они ему дороже меня. Он позволяет им делать все, что им вздумается. Вы и представить себе не можете, он иногда бывает ужасен! Он установил такой порядок, что в этом доме никто не может быть наказан иначе… как лично им или лично мною. Это было сказано в таком тоне, что я не смею нарушить его запрета. Вы сами можете судить, к чему это привело. Он никогда не поднимает руки на слуг, хотя бы они бог ведает что позволяли себе. Что же касается меня… Вы сами понимаете, как жестоко было бы требовать от меня такого напряжения сил. Рабы – это взрослые дети.
– Мне об этом, слава богу, ничего не известно! – сухо заметила Офелия.
– Но вам придется всему этому научиться, если вы останетесь здесь. Вам трудно даже представить себе, каким тяжким испытаниям они ежедневно и ежечасно подвергают хозяек дома. А жаловаться Сен-Клеру бесполезно. Он говорит, что это мы сделали их тем, что́ они есть, и что мы должны с этим мириться. Он говорит, что мы виновны в их пороках и жестоко было бы их наказывать. Он говорит, что мы на их месте были бы не лучше… Как будто нас можно сравнивать с ними!
– Но не думаете ли вы, – резко сказала мисс Офелия, – что бог сотворил их из той же плоти, что и нас?
– Ну, конечно, не думаю! Вы шутите, должно быть? Ведь это низшая раса!
– А не кажется ли вам, – с возрастающим возмущением воскликнула Офелия, – что все же это люди, живые люди?
– Я этого не отрицаю, – зевнув, произнесла Мари. – Об этом ведь никто не спорит. Но сравнивать их души с нашими – об этом, разумеется, и речи быть не может. Сен-Клер, правда, доходит до того, что готов утверждать, будто разлучить Мэмми с ее мужем – это все равно, что разлучить меня с ним. Сколько я ни твержу ему, что тут большая разница, он ее не видит, не признает. Это все равно, как если б сказать, что Мэмми своих грязнушек-ребят любит так, как я люблю Еву. И тем не менее Сен-Клер холодно, настойчиво требовал, чтобы я, такая больная и слабая, отпустила Мэмми и заменила ее другой служанкой… Я редко проявляю свои чувства, но на этот раз я вышла из себя. Да, даже я…
Казалось, мисс Офелия не сдержится и заговорит. Длинные спицы в ее руках задвигались так быстро и гневно, что это должно было обратить на себя внимание собеседницы, если бы та способна была замечать что-либо.
– Теперь вам должно быть ясно, чем вам придется управлять… Дом, в котором нет ни правил, ни порядка, где рабы получают все, что хотят, делают, что хотят. Разве только за исключением тех случаев, когда у меня хватает силы… Иногда я пускаю в ход мой хлыст, плетенный из бычьих жил, но такое напряжение убивает меня. Ах, если б только Сен-Клер поступал, как все!
– А как именно?
– Отправил бы их в исправительный дом для сечения или в любое другое место, где их наказывают кнутом. Другого способа нет. Если бы не мое слабое здоровье, я управляла бы вдвое энергичнее Сен-Клера.
– Как же он поступает? Вы говорили, что он никогда никого не бьет?
– Господи! Мужчины как-то по-особому умеют приказывать. Это им как-то легко дается. И затем… поглядите в глаза Сен-Клеру, в его взгляде есть что-то странное. В этом взгляде, когда он недоволен, как будто сверкает молния. Когда Сен-Клер здесь, никто не осмелится шуметь. Но когда бразды правления будут в ваших руках, вы увидите, что без строгости не обойтись. Они такие скверные, такие лицемерные, такие ленивые!
– Ах, все та же старая песня! – проговорил Сен-Клер, неожиданно входя в комнату. – Как дорого на Страшном суде придется этим несчастным расплачиваться за все, особенно за лень! Это совершенно непростительно, особенно принимая во внимание, что мы, как вы имели возможность убедиться, подаем им в этом отношении самый благой пример, – закончил он, во весь рост растягиваясь на кушетке напротив своей жены.
– Какой вы злой, Сен-Клер!
– Да что вы? А мне представлялось, что я очень любезен, поддерживая вас во всем, что вы говорите! Как я, впрочем, делаю всегда.
– Вы отлично знаете, Сен-Клер, что это вовсе не так!
– Значит, я ошибся. Благодарю за то, что вы меня поправили, дорогая!
– Ах, вы стараетесь нарочно рассердить меня!
– Ну, не надо, Мари. Сегодня очень жарко! Я долго бранился с Адольфом, и это меня ужасно утомило. Разреши мне отдохнуть в свете твоей ласковой улыбки.
– Что у вас произошло с Адольфом?
– Мне пришлось довести до его сознания, что я желал бы сохранить для собственного моего употребления хоть кое-что из моего платья. Затем мне пришлось ограничить чрезмерное потребление им одеколона. Адольф был возмущен, и мне пришлось отечески увещевать его, пока он не успокоился.
– Ах, Сен-Клер! Ведь это недопустимая снисходительность! Когда вы наконец научитесь обращаться с рабами!
– Подумаешь, какая трагедия, если какой-нибудь жалкий раб желает походить на своего господина! Если я так дурно воспитал его, что пределом счастья для него является одеколон, то почему бы не предоставить ему возможность им наслаждаться!
– Но почему вы его не воспитали лучше? – спросила Офелия с оттенком вызова.
– Это чересчур утомительно. О сестрица, сестрица, лень способна погубить больше душ, чем вы способны спасти. Если б не лень, даже я мог бы стать ангелом. Я склонен думать, что лень и есть именно то, что ваш старый доктор Ботерем в Вермонте называл «эссенцией нравственного падения».
– Мне кажется, – сказала Офелия, – что вы все, рабовладельцы, несете страшную ответственность. Я бы ни за какие блага не согласилась взять ее на себя. Вы обязаны воспитывать ваших рабов, обязаны обращаться с ними как с человеческими существами, видеть в них взрослых людей, а не ребят каких-то! Так я считаю.
Долго сдерживаемая горячность мисс Офелии вырвалась наконец наружу.
– Будет вам, будет! – произнес Сен-Клер, вставая. – Разве вы знаете нас?
И, усевшись за рояль, он заиграл что-то веселое.
Сен-Клер был очень музыкален. Игра его поражала четкостью и блеском. Пальцы его легко скользили по клавишам. Он сыграл подряд несколько веселых вещиц, словно человек, желающий поднять собственное настроение. Затем он внезапно прервал игру.
– Признаюсь, сестрица, – весело сказал он, – что слова ваши – чистое золото, и вы выполнили ваш долг. Мое уважение к вам еще возросло. Не сомневаюсь, что вы только что показали нам алмаз истины, драгоценный камень чистейшей воды… Но лучи его сначала ослепили меня, и я не сразу сумел его оценить.
– Что касается меня, – сказала Мари, – то я не разделяю мнения кузины Офелии. Пусть мне покажут хоть кого-нибудь, кто делал бы для своих рабов больше, чем мы! Но все это не впрок! Даже наоборот: они от этого только хуже становятся. А поучать их? Так уж я ли не поучала! Я до хрипоты твердила им, в чем заключается их долг. Всему, всему учила их! Им разрешено даже ходить в церковь, хоть они там ни звука и не понимают. Так что, в сущности, это напрасный труд, как вам легко будет убедиться.
Офелия подумала, что и так слишком много сказала. Она не ответила. Сен-Клер принялся что-то насвистывать.
– Огюстэн, прошу вас не свистеть. У меня заболит голова.
– Я уже перестал. Чем бы я еще мог быть вам приятен?
– Вы могли бы проявить хоть некоторое сочувствие к моим страданиям. Но вы никогда не считались с ними!
– О жестокий ангел!
– Ваш тон раздражает меня!
– Так объясните, как мне разговаривать с вами. Скажите мне – как, и я охотно повинуюсь.
Веселые взрывы смеха, доносившиеся со двора, проникли сквозь тяжелые шелковые шторы. Сен-Клер вышел на веранду, раздвинул занавески и тоже рассмеялся.
– В чем дело? – спросила мисс Офелия.
Том сидел на дворе на низкой дерновой скамейке. Все петли на его куртке были украшены цветами жасмина. Радостная, улыбающаяся Ева собиралась обвить его шею гирляндой из роз. Справившись со своей задачей, она, словно прирученная птичка, забралась на колени старого негра.
– Ах, Том, какой ты сейчас смешной!
Том, как всегда, улыбавшийся своей спокойной и доброй улыбкой, казалось, был так же восхищен, как и его юная хозяйка.
– Как вы можете допускать подобные вещи! – с возмущением проговорила мисс Офелия.
– А что же тут дурного? – спросил Сен-Клер.
– Как вам сказать… не знаю, но меня это просто пугает!
– Вам отлично известно, что ребенок без всякого риска может, если ему вздумается, приласкать большого пса, даже… если он черен. А если это существо мыслящее, рассуждающее, обладающее, как вы недавно подчеркивали, бессмертной душой? Вы дрожите, признайтесь, сестрица! Я хорошо знаю вас, американцев-северян. Нам хвастать особенно нечем, но у нас привычка создает то, что, собственно, должно бы происходить под влиянием нравственного чувства. Привычка преодолевает предрассудки. Это наблюдение вынесено мною из поездок по Северу. Вы, северяне, относитесь к неграм, как к жабам или змеям… а на словах возмущаетесь их тяжким положением. Вы не желаете, чтобы их истязали, но вы не желаете также иметь с ними что-либо общее. Вы хотели бы выслать их всех в Африку, лишь бы не видеть их, не ощущать их присутствия… Зато им вслед вы готовы направить парочку миссионеров, возложив на этих пастырей обязанность обратить их на путь истины. Разве я не прав, кузина?
– Кое-какая правда в ваших словах есть, – промолвила мисс Офелия, немного подумав.

– Что было бы с этими несчастными, – сказал Сен-Клер, опираясь на перила балкона и глядя на Еву, которая носилась по двору, увлекая за собою Тома, – если бы не было детей? Одни лишь маленькие дети проявляют истинный демократизм. Поглядите на Еву: для нее Том – герой. Сказки его кажутся ей изумительными, его песни доставляют ей больше наслаждения, чем любая опера. Его карман, наполненный всякими безделушками, представляется ей кладезем неслыханных сокровищ, а он сам для нее – самый замечательный Том из всех, которые когда-либо существовали… Да, Ева одна из тех прекрасных роз, которые господь уронил на землю на радость сирых и угнетенных.
– Знаете, кузен, – воскликнула мисс Офелия, – слушая вас, можно предположить, что вы религиозны!
– К сожалению, дорогая, вы несколько ошибаетесь.
– Что же заставляет вас так говорить?
– Говорить легче всего, – с улыбкой произнес Сен-Клер. – Шекспир, если не ошибаюсь, вложил в уста одного из своих героев: «Легче мне научить добру двадцать человек, чем быть одним из двадцати, которые последуют моим поучениям». Великолепная штука – разделение труда! Мое дело, кузина, проповедовать, ваше – проводить мои принципы в жизнь.
Как видно из вышеизложенного, Тому нечего было жаловаться на свою теперешнюю жизнь.
Привязанность к нему Еванджелины, признательность, свойственная ее благородному характеру, заставили ее попросить отца приставить к ней Тома для личных услуг. Том получил распоряжение бросать всякое другое дело, как только его потребует мисс Ева. Нетрудно себе представить, что он с радостью подчинился этому приказанию. Работа на конюшне не обременяла Тома. В его подчинении находилось несколько слуг. Он только присматривал за порядком. Мари Сен-Клер заявила, что не потерпит, чтобы от него пахло лошадьми, когда он приближается к ней. Поэтому она потребовала, чтобы на Тома не возлагалось никакой работы, последствия которой могли бы вредно повлиять на ее нервную систему. Она не в состоянии переносить скверного запаха!
Том в своем суконном, тщательно вычищенном черном костюме, в касторовой шляпе на голове, в сверкающих ботфортах, со спокойным, добродушным лицом имел очень внушительный вид. Он жил в красивом доме, и это было ему приятно: он спокойно наслаждался пением птиц, видом цветов и фонтана, красотой двора. Картины, люстры, роскошь гостиной – все это в его глазах превращало этот дом в настоящий дворец Аладдина.
В одно прекрасное воскресное утро Мари Сен-Клер, стоя в нарядном платье на ступеньках веранды и застегивая бриллиантовый браслет на узкой и изящной руке, собиралась в полном блеске – в шелку, кружевах и бриллиантах – отправиться в одну из самых модных церквей, чтобы проявить там свое благочестие. Мари Сен-Клер приняла раз навсегда за правило по воскресеньям быть благочестивой. Стоило посмотреть на нее, такую стройную, нарядную, воздушную и гибкую, окутанную, словно туманом, прозрачной паутиной своей кружевной накидки! Какое очаровательное создание! Ее мысли были, наверно, столь же прекрасны, как и она сама.
Мисс Офелия, стоявшая рядом с ней на крыльце, казалась полной противоположностью своей обворожительной родственницы. Она была костлява, угловата и казалась нескладной. Но она тоже была окружена своей собственной атмосферой, которая ощущалась так же ясно, как и прелесть ее соседки.
– Где Ева? – спросила Мари.
– Она задержалась на лестнице. Ей нужно было что-то сказать Мэмми.
Что же Еве понадобилось сказать Мэмми? Послушайте ее, читатель, и вы поймете многое, чего не дано было понять миссис Сен-Клер.
– Мэмми, дорогая моя, я знаю, что у тебя болит голова, – торопливо говорила девочка.
– Как вы добры, мисс Ева. Последнее время у меня всегда болит голова… Но это пустяки.
– Ты сейчас прогуляешься, и тебе станет легче. – И Ева обхватила ее шею руками. – Вот, Мэмми, возьми мой флакончик с нюхательной солью!
– Да что вы, этот красивый золотой флакончик?! О господи! Нет, мисс, я не смею взять его!

– Но почему? Тебе он нужен, а мне нисколько. Мама всегда употребляет такой флакон, когда у нее болит голова. Возьми его, тебе будет легче! Возьми, пожалуйста, чтобы доставить мне удовольствие!
– Как она говорит, золотко мое! – прошептала Мэмми, в то время как Ева засовывала ей за пазуху флакончик. Затем девочка расцеловала служанку и со всех ног бросилась вниз по лестнице.
– Кто тебя так задержал? – резко спросила мать.
– У Мэмми болит голова, я отдала ей мой флакончик, чтобы она взяла его с собой в церковь, – проговорила Ева.
– Как, золотой флакон? Ты отдала его Мэмми? – воскликнула Мари, топнув ногой. – Когда ты наконец научишься прилично вести себя! Вернись немедленно и возьми его назад.
Девочка, опустив глаза и жалобно скривив губы, направилась к лестнице.
– Не надо, Мари, – сказал подошедший к ней Сен-Клер. – Предоставьте ребенку свободу, пусть делает как хочет.
– Ах, Огюстэн, как же она станет жить, когда вырастет!
– Один бог знает, но путь в рай она найдет, вероятно, легче, чем мы с вами, дорогая!
– Ну как, кузен, вы готовы ехать в церковь? – спросила Офелия, всем корпусом поворачиваясь к Сен-Клеру.
– Я не поеду.
– Я всегда желала, чтобы Огюстэн посещал церковь, – сказала Мари, – но в нем нет ни искорки благочестия. Это весьма печально и совершенно неприлично для человека из общества.
– Знаю, знаю, – с обычной своей иронической улыбкой произнес Сен-Клер, – вы, дамы из общества, ходите в церковь ради показного благочестия. Уж если бы я и пошел, то скорее в храм, который посещает Мэмми. Там хоть не уснешь со скуки.
– Как, к этим воющим методистам?![17]17
Методисты – религиозная секта, возникшая в XVIII в. в Англии. «Воющими» их называли за протяжное, заунывное пение псалмов во время богослужений.
[Закрыть] Фи, какой ужас!
– Да, представьте себе, это мне больше по душе, чем мертвечина, царящая в ваших церквах, дорогая моя. Требовать от мужей, чтобы они ходили туда, – право, жестоко! Ева, тебе очень хочется ехать в церковь? Останься лучше дома, мы с тобой поиграем.