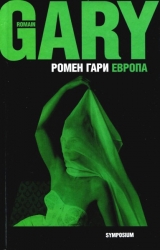
Текст книги "Европа"
Автор книги: Гари Ромен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц)
XIV
Он лежал на спине, уставившись широко раскрытыми глазами в плотный мрак спальни. Не до конца закрытые тяжелые портьеры серого бархата пропускали немного тени – или, может быть, лунного света – и легкие вздохи ветра, долетавшие с озера. В то же время он стоял на террасе и находился в своем хорошо охраняемом кабинете, во дворце Фарнезе, где он укрылся в поисках нескольких минут покоя. Он был также везде, где его не было, в мраморных пейзажах, подобных тем, которые можно обнаружить в самом сердце жеод [27]27
Жеода – пустота в горной породе.
[Закрыть], о которых столь захватывающе рассказывал Роже Каюа. Но где бы он ни находился на самом деле, он неустанно продолжал исследовать у себя в голове всякие повороты событий, чтобы исключить любые сюрпризы, возможность которых не только всегда допустима, но и весьма вероятна; причем самые неожиданные и самые разрушительные – он это знал и готовил себя к этому – могли исходить от него самого или, точнее, от этого двойника, о котором он ничего не знал: тот постоянно ускользал от него и был, вне всякого сомнения, его самым злейшим врагом. И тем не менее в тот самый момент, когда он шел по дороге рядом с Эрикой под полуденным солнцем, устраняющим даже тень угрозы, и чувствовал под рукой незыблемую твердость стены, внушающей такое доверие собственной неоспоримой реальностью и способностью положить конец всякой путанице, точно указав место и время, – в этот самый момент новая вероятность, до сих пор никак себя не обнаруживавшая, возникла, непонятно откуда, в пока еще ночной тишине виллы «Флавия». Темнота, однако, уже начинала рассеиваться, отступая перед первыми позывами зари, – и эта вероятность, быстро обратившаяся в уверенность, поразила его своей беспощадной очевидностью, так как он знал уже, что этот сокрушительный удар врага, который он не смог предусмотреть, отразить было невозможно. Нелепое и суеверное, воистину недостойное цивилизованного человека, предположение, что Эрика никогда не существовала, что она была всего лишь видимостью, которую навязала ему в своем стремлении отомстить легендарная Мальвина фон Лейден, сожженная в XVI веке за колдовство, пытавшаяся с помощью черной магии выдать себя за свою дочь, оказалось всего лишь кратким мгновением испуга, с которым он быстро совладал. Вот что значило слишком часто, полагаясь на собственную эрудицию, посещать прошедшие века, которым вы втайне отдавали предпочтение. И все же было то, что не прервалось, а длилось дальше и в этом смешении мыслей, столь часто сопровождающем лихорадочное, почти бредовое состояние, явилось наконец вполне убедительным и столь же ясным, как пробуждение, так это внезапное чувство отступления Времени, отхлынувшего с головокружительной быстротой, или, вернее, чувство возвращения к реальности.Молодой атташе посольства только что понял, что растущее беспокойство, вызванное отношениями с нежно любимой пассией, о скандальном прошлом которой ему теперь было известно, а также предупреждениями, полученными от его шефов с набережной Д’Орсэ, после того, как дирекции отдела кадров доложили о его намерении жениться на «отъявленной авантюристке», вылилось в конце концов в нервное расстройство, потерю чувства реального и странные видения.
К счастью, Жан Дантес сумел пересилить это временное помутнение рассудка, о котором он даже не подозревал и которое, весьма вероятно, длилось не один день.
Молодой человек глубоко вздохнул, достал платок и вытер взмокший лоб, и тут же обратились в позорное бегство все недавние призраки, в том числе и невероятный Барон – где, интересно, его воображение выискало такого странного персонажа? – который сгинул последним, в буквальном смысле растворившись на глазах, потому что сначала пропала нижняя часть его тела, в то время как торс еще держался какое-то мгновение на чем-то, смутно напоминающем шахматную доску. Потом, прежде чем исчезнуть полностью, он потерял свой правый глаз и левую половину туловища.
Жану Дантесу было двадцать пять, на двенадцать лет меньше, чем его любовнице; впрочем, разве сама она не говорила, что у нее за плечами века, и при этом преспокойно проживала целые эпохи, не оглядываясь на годы? Красноречие ее было неиссякаемо, когда дело касалось XVIII века, который она особенно любила, а ее осведомленность в мельчайших нюансах о нравах этого времени действительно наводила на мысль о жизненном опыте, настолько замечания ее были точны и сведущи. Дантес совсем недавно сделал себе шикарный подарок: «испано-суизу», модели 1927 года, – она обошлась ему не так дорого, как могла бы обойтись «рено-жювакатр» [28]28
Juvaquatre – первая модель малолитражного автомобиля, выпущенная компанией «Рено» в 1937 г., предшественник знаменитой 4CV.
[Закрыть], – и они приехали из Парижа, чтобы провести вместе несколько дней на вилле, немного пострадавшей во время войны и, можно сказать, оставленной разорившимися хозяевами, вилле «Флавия», под Флоренцией. Они гуляли, держась за руки, по дорожке, идущей вдоль старой стены, наполовину изъеденной временем, которая огораживала парк, отделял Биллу, где они поселились, от другого дома, утопавшего в зелени, – виллы «Италия». Мальвина смеялась, подставляя лицо прямым лучам солнца, и отдавалась этому счастью со всей той беззаботностью и с еще большей беспечностью, какие только может дать подобное уединение. Она ничего не знала о конфликте, который мучил ее возлюбленного: ему предстояло сделать выбор между Карьерой, которой он дорожил, потому что видел в ней способ помочь воссозданию Европы, и женщиной, которая была старше его на двенадцать лет и являлась той самой «мадам», как называли это американцы времен оккупации, которая держала самый шикарный бордель в Австрии. О ее репутации, еще до этого заключительного этапа деградации, уже ходили слухи самого аморального толка, в которые сложно было поверить, если вы знали ее лично, и почти невозможно, когда она смотрела на вас такими влюбленными глазами. Любовь, в своих высших проявлениях, обладала даром невинности и распространяла его действие даже на прошлое. Дантес обожал эту женщину, но можно ли было столь эгоистическое чувство обращать в смысл всей своей жизни? Единственный шанс, данный ему его образованием, его призванием, всем тем, что внутри него жило одним желанием: посвятить жизнь тому, что он называл Европой, этот уникальный шанс предоставляла ему дипломатическая служба. Вне ее он мог быть лишь каким-нибудь экспертом по искусству, то есть запереть себя в замкнутом мире эстетических наслаждений, сообщающимся с одними лишь музеями. И самое ужасное в данный момент заключалось в том, что он уже сделал свой выбор, приняв решение: разрыв. И хотя он специально приехал в Италию, чтобы сообщить об этом Мальвине, ему не хватало смелости, и он знал, что уедет, так и не открыв ей правды. Это психическое состояние вполне объясняло все его фантасмагории, которые, как морские волны, без конца то накатывали, то отступали, приходя из ночи среди бела дня, целыми неделями взвинчиваемые бессонницей. Чаще всего в этих каруселях фантасмагорий – и в этом яснее всего проявлялись его неотступные мысли – видел он себя самого: вот его назначают на пост посла в Риме, и потом, после того как ему исполнялось пятьдесят, он встречает дочь Мальвины и переносит на нее всю ту любовь, что испытывал к ее матери. В двадцать пять его амбиции не могли найти более откровенного выражения, чем в этом предчувствии двойного успеха, и следовало признать, что все это выглядело не очень красиво, потому что в этой его прекрасной мечте оказывался третий лишний, о котором он, казалось, и думать забыл: Мальвина. Тогда-то, лежа в темной спальне, как ему показалось, лишь одно мгновение, – но он тут же исправил эту ошибку в логической цепочке своего потревоженного сна, возвратившись к созерцанию себя стоящим на террасе и потом, разумеется, идущим вдоль стены, касаясь рукой старых камней, – тогда-то он и услышал другой голос, отличающийся, несмотря на явное сходство, от голоса матери, голос Эрики, которая заканчивала фразу, и это в очередной раз доказывало, что мир мог пропасть и возродиться в несколько секунд и что Время было просто шарлатаном:
– …платье, которое было на Ma в день вашего первого свидания, у Рёмпельмаера… Слегка пожелтевшее, как страницы поэмы Сен-Жон Перса «Анабасис», которую вы ей подарили четверть века назад и которая до сих пор остается ее настольной книгой…
То был голос такой знакомый, такой любимый, такой спокойный и беззаботный, что не осталось места сомнению, и все вдруг обратилось в ясность и уверенность. Он повернулся к Эрике, обнял и поцеловал ее на глазах у шофера, во взгляде которого читалось неописуемое одобрение.
– До вечера, – сказала она.
Какое-то время он продолжал смотреть ей вслед. Прежде чем скрыться под высоким песочного цвета портиком виллы, она, грациозно обернувшись, что еще раз подчеркнуло невероятное изящество всех ее линий, подняла руку, и Дантес ответил ей, махнув рукой, о чем тут же пожалел, как будто он своим жестом смахнул ее, убрав из поля зрения. Но он знал, что сам управляет ситуацией. Это грациозное и милое прощальное па длилось всего какую-нибудь секунду, и так как ему захотелось вновь пережить этот момент, и чтобы он длился, пока ему не надоест, он просто вернул ее. Она вновь появилась, на том же месте и в той же позе, подняла руку, но на этот раз Дантес смотрел на нее, застывшую в неподвижности мгновения, гораздо дольше, пока наконец не ответил ей, махнув рукой, о чем уже больше не жалел, когда она скрылась, потому что нагляделся вдоволь.
Именно так, полузакрыв глаза и положив руки на подлокотники своего инвалидного кресла, представляла себе Мальвина фон Лейден первую встречу, произошедшую там, на дороге, между ее дочерью и этим злодеем Дантесом, человеком, не имеющим ни чести, ни достоинства. Она так давно и так тщательно все спланировала, с такой влюбленной ненавистью, что в танце этом не осталось места ни малейшей случайности, и она чувствовала себя как какой-нибудь Дягилев, который накануне премьеры «Весны священной» после стольких репетиций был совершенно уверен в успехе. Она слишком хорошо помнила обостренную чувствительность Дантеса, чтобы допускать возможность проигрыша в этой партии, где все ставилось на угрызения совести и чувство вины, которые, должно быть, не только достигли самой глубины, но и пробили дно его сознания, действуя медленно, но неотступно. Этот посол, с таким тонким чувством юмора и изысканными манерами, этот «человек чести и культуры», этот «европеец до кончиков ногтей» – шлейф этих званий тянулся за ним, неизменно украшая его на всех поочередно занимаемых постах, – знал, что он банкрот, и готов был на любые унижения, лишь бы уйти от расплаты, тем более неотвратимой, что он сам же себе ее и назначал. Мальвина тихонько похлопывала ладонью подлокотник, с королевским достоинством улыбаясь своей триумфальной проницательности. Ну, с Богом! Партия началась.

Барон играл вслепую и мог так вести бесчисленное множество партий одновременно: он не видел пределов могуществу воображаемого. Он знал, что победа ему обеспечена, но эта легкость его не радовала, и он гнушался такого практическогоподхода: что действительно имело цену в его глазах, так это красота самой игры. Лишь совершенство, именно вследствие своей недостижимости, было нужнее всего человеку, и потому не было более достойного предмета беспрестанных помыслов и стремлений. Барон был весьма близок к тому, чтобы полагать, что иные сражения, называемые «эпическими», «гомеровскими», в которых разыгрывалась «судьба цивилизации», несли на себе отпечаток безобразия, а значит, ничтожности, ибо не заслуживали даже того, чтобы их выигрывали. Точнее, отсутствие красоты, исходящее из самой сути выбранных средств: груды
трупов, низости и подлости – все это с одинаковым успехом можно было отнести как к Французской революции, так и к Октябрьской, и к Мировой войне 1914 года, которую почему-то считают «выигранной», – превращало победы в поражения, порождая все новые свинства. Вот почему он так высоко оценивал замечательную партию, разыгранную принцем Дадианом из Мингрелии и графом де Кройцем в Санкт-Петербурге в 1891 году, за которой ему довелось наблюдать, и особенно партию Андерсена против Кксерицкого, состоявшуюся в Лондоне в 1851 году, на которой он также присутствовал и которая не могла не запомниться знаменитой «бессмертной жертвой» двух ладей:

Барон стоял за троном своей черной королевы, но Мальвина, должно быть, настолько привыкла к его присутствию или, вернее, к отсутствию, что, вероятно, даже не догадывалась, и Дантес был в этом почти уверен, о той роли, которую тот играл в их жизнях, коими распоряжался и управлял, кои создавал и расстраивал по своему усмотрению где-то на дне бледно-голубого, сверкающего фарфора своих глаз. Чтобы убедиться в этом, нужно было лишь констатировать ту, испытываемую в этот момент послом, невозможность выкарабкаться из этого омута, являвшегося в одно и то же время и сном, и явью, где, на огромной шахматной доске, уже вырисовывались какие-то подозрительные фигуры и где все было террасой, спальней, дорогой, ночью и светом одновременно, невозможность вырваться из этой вязкой жижи, в которой он барахтался, как борец, приклеенный к полу чьей-то властной рукой, и положить конец этой неудавшейся бессоннице, не поддающейся действию снотворного, которая бьет по глазам залпами видений, доводя до полного изнеможения. Впрочем, в тот самый момент, когда Дантес, обливаясь потом, представлял их вдвоем, себя и Эрику, в этой ритуальной встрече, которая должна была состояться несколько часов спустя, и он приписывал то же видение Мальвине, чтобы сразу уступить Барону все господство над местностью, f2-f4, e5:f4, Фe3:f4, с прямой угрозой пешки d3, так вот, в тот самый момент Дантес, определенно в силу того акта измышления, который он только что совершил, начинал, не без облегчения, понимать, что он все еще вполне владеет собой, и поторопился приписать несчастному «Пюци» слишком большую состоятельность, значимость и власть. Истина заключалась в том, что, для того чтобы определить свой страх, ища причину его где-то вне себя, он слишком вольно стал обходиться с этим персонажем, таким неприметно реальным, тихим, немного патетичным, но более всего комичным, каким и был этот бедный Барон, потерянный человек, – находка для других, доверенное лицо, дворецкий и прислуга в зависимости от времени дня. Бедолага совершенно растворился в алкоголе по причине неразделенной любви к Мальвине, из-за которой он разорился сначала материально, а затем и морально, приведя ей нескольких весьма состоятельных любовников. Дантес почувствовал, что сердце его успокоилось. Тогда же замедлила свой бег, а затем и вовсе остановилась безумная карусель полумыслей, полувидений. Какое-то время он оставался с закрытыми глазами, глубоко дышал, ожидая, пока рассеются и исчезнут последние, уже далекие орды ночных набегов. Потом он встал, принял холодный душ, вышел на террасу и закурил сигарету. Силы возвращались к нему вместе с полнотой дня. Все темные трещины в его сознании сглаживались, спаянные светом. То был точный час реальности. Он взглянул на часы и подумал, что уже пора собираться на встречу с Эрикой. Он оделся и приказал шоферу отвезти его в город, прождал там минут двадцать, пропустив несколько чашечек эспрессо и поминутно поглядывая на часы: затем, не спеша и определенно волнуясь, чего не могла скрыть даже его веселая улыбка, направился обратно, в сторону виллы «Италия».
XV
Она взбежала по ступенькам парадной лестницы – роскошного творения Зампьетри – возведенной в XIX веке на месте другой, с более изящными пропорциями, воспоминание о которой осталось в одной лишь гравюре, помещавшейся здесь же, на стене, и влетела в комнату легким ветерком, рассчитывая живостью, стремительностью и торопливой легкостью приветствия рассеять собственное стеснение и немного виноватую грусть, неловкость от того, что она чувствовала себя счастливой, и это нужно было скрывать от матери, обманывая ее самым постыдным образом. Нечто вроде приступа раскаяния стервы… Она упала в плюшевое кресло и рассмеялась. «Боже мой, неужели мой смех всегда такой злой, или я просто хорошо играю эту роль?» – и она добавила, уже вслух:
– Прошло как по маслу.
Ma напоминала картину, выставленную из рамы, не только из-за чрезмерно обильного макияжа – стареющие женщины, когда красятся, забывают, что поры кожи лишь подчеркивают контраст пудры и румян, не давая им слиться на гладкой поверхности, а помада, вовсе не оживляя губ, напротив, превращает лицо в натюрморт, – но также из-за той неподвижности, в которую она была заточена. Лишь ее белый парик маркизы немного подрагивал: легкое непрекращающееся подергивание, которое Эрика второпях сначала приняла за симптом болезни Паркинсона, но это был всего лишь нервный тик. Один только серый дымчатый взгляд – взгляд, унаследованный Эрикой, которая иногда с ноющим сердцем спрашивала себя, не унаследовала ли ока и все остальное, —оставался юным узником в цепях возраста, этого галерного надсмотрщика.
– Ну же, рассказывай…
У них, у обеих, был почти один и тот же голос. «Нет, решительно,я должна перестать задаваться вопросом, до какой степени мы похожи», – подумала Эрика. В приоткрытую дверь, загораживаемую хромированными планками инвалидной коляски, было видно, как отец ставит в большую красную вазу букет черных тюльпанов. Ma вечно не хватало цветов…
– Я, как полагается, спокойно лежала, растянувшись рядом с перевернутым велосипедом, и, естественно, он был неотразим. Такая возвышенная натура. Он создан для того, чтобы подбирать женщин, которые падают.
– Он узнал платье?
Эрика колебалась. Но нужно было лгать, и чтобы ложь проходила, необходимо порой то здесь, то там вставлять слово правды, той, которая в любом искусстве сглаживает перебор в правдоподобности с помощью небольших неувязок…
– Нет.
– Нахал!
«Нет, это невыносимо, – подумала Эрика. – Я скоро загнусь от всего этого». У Ma в глазах стояли слезы.
– Мам, ну послушай, двадцать пять лет прошло, можно же допустить, что это по рассеянности. Он же еще не знает ни что я твоя дочь, ни что ты здесь.
– Он, должно быть, уверен, что я умерла, он не верит в привидения, – сказала Ma. – Но просто сломать жизнь, этого мало: тут еще нужен особый способ…
Эрика подняла глаза на Барона, который смотрел на нее: он слышал последнюю фразу и быстро отвернулся, манерным жестом промокая лоб платком. Мальвина отличалась тем легкомыслием, которое в юных чертовках кажется прелестным, но в шестьдесят три года уже отталкивает вас отвислой челюстью придурковатого цинизма. И все же, можно ли было сказать, что Ma разбила сердце бедному Пюци? Ведь он уже родился таким, разбитым. Его генеалогическое дерево восходило к Великому магистру тевтонского ордена, павшему в том знаменитом сражении, которое подвигло Мицкевича на написание его эпопеи «Конрад Валленрод» и послужило сюжетом для живописного шедевра Матейко «Битва под Грюнвальдом». Под тяжестью всех этих веков, замков, прусских гербов, доспехов и мечей, взваленных на его плечи, само собой разумеется, что бедный Пюци в конце концов развалился. Непонятно еще, каким чудом он избежал педерастии. Жизнь самой Ma столько раз бывала разбита, – последний удар coup de grâceбыл нанесен ей всеми казино Европы, где ей запрещалось отныне играть, – что от этого вынужденного постоянного пребывания в разбитом состоянии появилось наконец какое-то необыкновенное впечатление силы. Единственное, что разлетелось на куски beyond repair,непоправимо, безвозвратно, так это тот мир, то общество, к которому она принадлежала, – Европа. Праздник кончился. Можно было еще пробавляться сутенерством, продажей подделок, поселиться в Париже, выдавая себя за ясновидящую, но все это стало сейчас реалистичным, то есть безобразным. Стиль уже не спасал. Куртизанки превратились в шлюх, авантюристы в мошенников, все стало серым, усредненным. То было время, когда Дон Жуану пришлось бы пустить себе пулю в лоб: женщины больше не «отдавались», а просто цепляли первого попавшегося, не было места «завоеваниям». Грех уже не разоблачался, во всех смыслах слова. Зло еще существовало, но уже порвало все отношения с Бодлером.
Оставались бабочки, сидевшие на желтых и сиреневых цветах кактуса, и, у открытого окна, одна оса, в своем лакейском жилете. Черный парусник, выплывший на середину озера, казалось, оделся в траур по другому паруснику, совсем белому, которого он, должно быть, любил до безумия. Где-то очень далеко кто-то рассмеялся. У Эрики вновь появилось впечатление, что это ее собственный смех разносился по парку. Со времени их приезда она уже много раз слышала его: сходство было пугающим. Все – это проклятое воображение, доставшееся ей от матери. И еще странная, сохранившаяся с детских лет привычка разговаривать с предметами, неживыми вещами, животными и всем, что вызывало у нее тревогу, чтобы заглушить свои страхи. Еще и сегодня она боялась открывать «Алису в Стране чудес» и «Макса и Морица», предпочитая им сказки Беатрис Поттер. Она никогда не отправлялась в дорогу без одной из этих небольших книжек, на страницах которых красовался лягушонок во фраке и цилиндре: Джереми Фишер с неизменной сигарой, удобно устроившийся на листе кувшинки; на самом деле она никогда и не покидала того сказочного мира, в котором мыши ночью пришивали пуговицы к костюмам клиентов портного из Глучестера, который был болен и не мог держать в руках иглу и наперсток. Где-то в другом месте, но тоже совсем рядом, – господин Время, облаченный в сюртук, с песочными часами в руке, мелочный и скаредный бакалейщик, отмеривавший вам годы так, будто расставался со своим золотом, и Смерть, тиканье которой можно было расслышать, но только если у вас хороший слух. Тик-так, тик-так. Половицы, когда по ним ступали на цыпочках, порой издавали странный скрип, и тогда перед замками, залитыми лунным светом, останавливались золоченые кареты, оттуда выходил Дон Жуан и прекрасная юная девушка, которую он совсем недавно совратил. В семье фон Лейденов тоже были сифилитики, какая-то зараза в крови, которая могла бы объяснить… И тогда, когда она работала на «Британских» авиалиниях в Орли, и когда она была манекенщицей и фото-моделью, да и потом, позже, когда Ma по-настоящему заболела, и, чтобы обеспечить ей достойную жизнь в том стиле, который она предпочитала, пришлось стащить драгоценности Лорен в Лондоне, Эрика всегда умела ткнуть реальность большим пальцем и спрятаться за спину Кролика Жанно. Есть сказки, которые живут у нас внутри, и их ничто не может разрушить. Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы с головой уйти в вечный праздник и бросить мать одну. Можно было провести ночь на балу с Калиостро, побыть немного рядом с Фаустом или в какой-нибудь венецианской гондоле, в компании того же распутного кардинала де Берни, но уехать насовсем и раз и навсегда поселиться у себябыло немыслимо, ведь пребывание в психиатрической лечебнице доктора Монно в Швейцарии, где Ma появлялась регулярно, стоило полмиллиона в месяц. Нельзя не сказать, что деньги, со всей их неотъемлемой низостью, грязью и свинством, крепко-накрепко держали вас в этом безысходном «дважды два – четыре».







