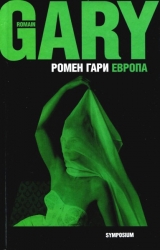
Текст книги "Европа"
Автор книги: Гари Ромен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 24 страниц)
XXXVII
Посол нашарил в кармане трубку; у него было такое ощущение, что кто-то другой сделал это движение, кто-то другой был вместо него, в его одежде из серого твида, в бледном свете неба, который отражали оконные стекла. Вся его последующая жизнь была совершенно никчемной; это была не иллюзия: это был обман. Она оказалась права, права насчет него. Он сделал выдающуюся карьеру, которая никому ничего не принесла: по сути, он продолжал блистать в искусстве беседы. Он страдал не оттого, что солгал, а оттого, что не добился успеха в своем обмане. Он был не из тех, кто делает революцию, но, возможно, из тех, чье существование ее подготавливает. Его сын… Снова оправдания. Он уже и не пытался выдумывать себя, но с той поры, как впервые увидел Эрику, с той поры как она появилась, так похожая на мать – те же глаза, те же черты, та же красота, избежавшая холодного совершенства благодаря бесконечному многообразию выражений, тот же голос, та же походка, с каждым шагом словно что-то предлагающая земле, – он стал мечтать о ней, выдумывать ее со всем талантом, которого ему недостало на то, чтобы создать самого себя. Сколько людей получили от жизни второй шанс? На этот раз он не подчинится законам реальности, ему хватит воображения.
XXXVIII
Бал у леди Мендль состоялся через две недели после разрыва. Около трех часов ночи, когда праздник завершался в утомлении, от которого и лица, и костюмы мнутся и обретают неряшливый вид, так что впору нести их на склад бутафории, когда он, за неимением машины, ждал у гардеробной Луизу де Вильморен, предложившую место в своей, на его плечо легла рука: Мальвина…
– Подвезти вас?
Он не успел даже задуматься и оказался рядом с ней в машине, стесненный настолько, насколько это возможно для человека, чья профессия состоит в том, чтобы никогда таковым не быть. Он не произнес ни слова, молчание в конце концов стало тяжким – тема чудовищно банальная. Она даже не пыталась прийти к нему на помощь. Она гнала чересчур быстро. Фары, не считаясь с правилами, с вызовом слепили глаза. А потом он отчетливо услышал, он был в этом уверен, хотя сильный удар оставил пробел в его памяти, слова, которые она вдруг произнесла детским и пронзительным голосом:
– Вот так!
Он пролежал без сознания несколько часов, и только через десять дней смог прийти к ней в больницу. Его не пустили. Состояние критическое, между жизнью и смертью, говорили врачи. Травма позвоночника… После многократных просьб он все-таки смог проникнуть в комнату, пахнувшую инъекциями. Она узнала его. Когда он вышел, сиделка сказала, что ей в первый раз удалось произнести несколько слов:
– Я возвращаюсь домой… Я зря путешествовала, восемнадцатый век лучший из всех… Может быть, мы встретимся, хотя я не уверена, что у вас хватит способностей…
В коридоре он сказал доктору:
– Нет, она не бредит: просто это женщина, которая по-настоящему умеет лгать… Доведенный до такой степени, обман становится продуктом цивилизации…
Он писал ей, пытался ее увидеть. Ему дали понять, что об этом не может быть и речи.
Если она хотела его наказать, у нее получилось великолепно. Когда она направила машину на грузовик, в этом желании увлечь его за собой в смерть было еще что-то, как будто прощение. Потом она вела себя безжалостно. Она обрекала его на угрызения совести, маленькие и тихие угрызения, чуть ли не с гримасой отвращения. Но теперь у него была Эрика, и все кончилось. Фатум связал все удивительным образом, все было тщательно подготовлено, рассчитано; разрыв в саду Пале-Рояля зависел не от него: так должно было произойти, чтобы он мог встретить Эрику.
Он услышал, как отворилась дверь, и обернулся: возвратился его сын.
– Когда ты перестанешь играть в сумерки богов?
Рука Марка искала выключатель.
– Идет забастовка, ты знаешь?
– Я думал, коммунистический муниципалитет тебя пощадит. Вообще-то они охраняют музеи и пережитки прошлого… А Фирмен, почему он до сих пор не зажег свечи?
– Фирмен, которого, между прочим, зовут Джузеппе, уехал на своем «фиате» – у него же вечерний отгул.
Он с трудом различал в полутьме силуэт Марка.
– Почему ты вернулся?
– Отцы, в принципе, тоже люди…
– Ну и что?
– Не люблю самоубийств.
– Три месяца самоубийства еще никому вреда не приносили. Это не опасней, чем Средиземноморский клуб.
– Ты не вернешься, – сказал Марк.
Кто-то играл на пианино, очень далеко, достаточно далеко, чтобы узнать Шопена. Это единственная музыка, которую удаленность приближает, обостряя чувство ностальгии, разлуки и, может быть, недоступности утраченной Польши…
– Я не намерен просить развод.
– Я говорю не об этом.
Белый свитер с воротником на фоне кресла в стиле Людовика XV…
– Марк, я думаю, для троцкиста ты злоупотребляешь сыновними привилегиями. Права сына я считаю не более законными, чем любые другие…
– Ты когда-нибудь задумывался об избытке культурности в сартровском смысле?
– Да, отношения Сартра с самим собой весьма занятны. Они замыкаются на культуре. Это существенное вложение в нашу вотчину.
– Понимаешь, все очень просто. Как трансформировать Моцарта, Джотто, Малларме в общество? Буржуазия даже не попыталась это сделать: она думала только о наслаждении. Но представители… элиты превратили наслаждение в муки совести… Европа… в конце концов, если это что-нибудь означает, то прежде всего апартеид:культура – с одной стороны, реальная жизнь общества – с другой. Единственный возможный ответ – перманентная революция, та, что делает из культуры реальность, а из новой реальности новую культуру. Все остальное – шиза. Но советский ревизионизм выбрал реальность в отрыве от культуры, а «просвещенная» буржуазия склоняется к обратному, чем дальше, тем больше… Это твой случай. Культура всегда была чем-то отстраненным, с тех пор как перестала быть религией, как христианство или индуизм. Оставив служение Богу, она решила, что больше не служит метафизическому потустороннему миру, но она сама стала потусторонним миром, чистой метафизикой. Разительный пример – «Голоса молчания» Мальро, мистическая апология мира культуры, ее предвидел еще Ницше: буржуазия в поисках новой веры… От первой и до последней страницы «Голосов молчания» слышно одно – молчание реальности… – Дантес скрестил руки на груди. – Что ты, собственно, мне советуешь? Навести справки о центрах перевоспитания еще не потерянных для общества буржуа? Китай меня не соблазняет… Я где-то записал одну «исповедь бактериолога», опубликованную в известной газете «Котидьен дю пепль»: «После того как я прослушал множество произведений классической музыки и несколько раз с наслаждением внимал Девятой симфонии Бетховена, у меня возникли возвышенные иллюзии насчет вселенской любви, буржуазного гуманизма, которому поют хвалу в хоровой части симфонии… Я был заражен». Смешно? Ужасно? Я увидел, как этот листок выпал из журнала агентства «Франс Пресс», там, в посольстве. Это не выдумка, Марк, это голос марксистско-ленинистской «реальности». И реальности Геринга, говорившего: «Когда я слышу слово „культура“, я выхватываю револьвер». Так что все очень просто, как ты и сказал… – Он уже не мог понять, его ли это голос дрожал или музыка Шопена вдали – банальность отчаяния, чувствительность, упивающаяся своей хрупкостью… – Очень просто, и я знаю, чем все закончится: Муссолини тоже был анархистом и переводил Бакунина на итальянский, до того как основал фашистский режим. Я предпочитаю сказать: «У меня больше нет сына…»
– Культура готова на любую жертву, – сказал Марк. – Хитрая тактика. Сын – это слишком реально…
– Прекрати меня судить… Еще одна дурацкая манера – желание детей-революционеров учить своих отцов, родительские права наизнанку… В каком-то смысле это посмертный триумф семьи. Мы победили по всей линии фронта.
– Меня здесь даже нет, – сказал Марк. – Вспомни, ведь это твои мысли. В самом деле, так слишком просто. Из целого мира ты делаешь личное горе. Такое отношение уже израсходовало себя, и в музыке, и в поэзии. Я только хочу сказать тебе, что еще никому не удавалось эмигрировать, изгнать себя в культуру, не предав ее… Сегодня культура – Кобленц для буржуа. Желаю, чтобы тебе удалось, хотя очень в этом сомневаюсь. Мало-помалу ты растворишься в культуре… И останется лишь несколько изысканных сухих листьев между страницами книги…
Дантес чувствовал на себе взгляд старой колдуньи, как будто направленный на него через хрустальный шар. Должно быть, когда Мальвина была молода, красота делала ее похожей на фею, но стоит фее поддаться возрасту, таинственность превращает ее в колдунью. Жизнь не обязана выполнять обещания Джотто и Моцарта и тем самым обрекает этих выдающихся людей на шарлатанство. Он мог повторить слово в слово все, что завтра скажет ему Марк; единственное, что осталось нерешенным, – будет ли он отвечать и даже – встретит или нет; его уверенность была уверенностью посвященных.
– Все воплощения воображаемого упираются в парадокс: искусство создает то, что не может быть сделано…Мы призывали дать власть воображению, а не воображаемому. Последнее – пароль, крик души, признание капиталистической элиты… Никто не может отрицать, что до марксизма-ленинизма воображение скрывалось в воображаемом и не соотносило себя с реальностью: оно использовало реальность лишь в качестве художественного материала для писания стихов и романов, для того, чтобы создавать шедевры, но не делатьих…
Этот спор длился в нем уже так давно, что Дантес не удержался и, улыбаясь, немного полюбовался честностью, с которой он вооружал противника. Во всяком случае, нечего было и говорить о мошенничестве в минуту, когда он почти окончательно решил уйти и не возвращаться. Но фанатизм веры всегда оставлял за собой жертвы, и вполне можно было выйти из реальности, мысленно оставаясь преданным ей. Величайший парадокс культурной революции состоит в том, что она рождена культурой музеев, симфоний и стихотворений, не имеющей возраста: Мао или Маркузе – это все тот же голос Джотто, требующий изменить мир… Дантес чувствовал, как к нему возвращаются все его мужество и уверенность. Культура – это то, что сегодня в облике абстрактной красоты Малларме вступает в борьбу с трущобами, то, что с помощью Рембрандта, Вермеера, Сервантеса представляет тем, кто ни в чем не нуждается, положение голодающих народов третьего мира несовместимым с творчеством Рембрандта, Вермеера, Сервантеса… Культура – это влияние произведений искусства на общественное развитие, которого она требует и которого добивается: она заставляет бальзаковских социальных монстров уйти из общества, подобно тому как Мадонны эпохи Возрождения утрачивают Бога, не переставая быть объектом поклонения. Культура – это борьба против того, что делает искусство предметом роскоши, а красоту далекой и провоцирующей; это рождение этики из эстетики… Культура приближает искусство, атакуя те факты социальной действительности, которые еще не достойны шедевров…
«Ту вазу, где цветок ты сберегала нежный…» [50]50
Цитата из стихотворения Сюлли-Прюдома (1839–1907) «Разбитая ваза» в переводе А. Апухтина.
[Закрыть]
Он повернулся к тени.
Что? Что ты сказал?
«Ту вазу, где цветок ты сберегала нежный, ударом веера толкнула ты небрежно…» Знаешь это? «Не тронь ее: она разбита…» До завтра.
Дантес пожал плечами, только этого не хватало: из сада доносились трели соловья. Хрупкая прелесть Шопена, изысканная банальность соловья, пурпурное благоухание опечаленных роз, шапочки облаков – какая-то ирония насытила воздух вокруг него китчем. Нужно писать нового «Вертера» – для социальной элиты, избравшей самоубийство от избытка аристократической тонкости чувств, которая долее не может мириться с грубой пищей. В мечтах возникал рубленый бифштекс под соусом тартар, лакомство утонченного вкуса, – поэтому нет ничего более естественного, чем связь сталинизма с великими абстракционистами и поэтами зауми.
XXXIX
Он вышел на террасу и с удивлением отметил, что в этот увязший в неподвижности час, когда все как будто пользовалось отсутствием Времени, чтобы продлиться, вечерние тени были слабее, чем ему виделось изнутри. Старый мастер ушел, беззаботные мгновения с важностью детей, которые играют во взрослых, притворялись неповоротливыми минутами и тяжеловесными часами. Свет все не переставал угасать. В небе метались ласточки; он повернулся к балюстраде. Шмель врезался в щеку; стихающий стрекот цикад; божьи коровки. Ночь принялась громоздить темные руины под кипарисами и в гуще цветочных клумб, где желтые, красные и белые пятка расплывались в близорукости, смешавшей краски и формы; душные запахи; воздух заряжался испарениями земли; изобилие бормочущих, похрустывающих существ, чье невидимое падение иногда смущало ясную гладь озера; с другой стороны, за островком Санта-Тереза, в неизвестной массе, где уже не были различимы ни кипарисы, ни зелень, – лишь препятствие взгляду, струился легкий ветер, оставляя за собой мимолетное волнение, серебристое трепетание. Слева, перед большой спокойной лестницей, над сумрачными батальонами растительной пехоты, словно пораженными неподвижностью в разгар атаки, вздымалась белая колоннада виллы «Италия», увенчанная легкой треугольной кровлей – геометрия, заимствованная неоклассическим Западом скорее у собственной природы, чем у Акрополя: купола и сферы Востока для нее – все равно что циркуль и счетная линейка для метафизики. Тут были аллеи, статуи и розы; роскошные кусты сирени напоминали пышных вакханок Рубенса; розам искусно придали дикий вид, их запущенность следовала тонкому расчету и точному рисунку; вся эта изысканная одичалость сводилась на нет их манерным ароматом – будуара, любовных записок и признаний вполголоса; молчаливые прилежные осы и мелькающие изумрудные мушки издавали тихое гудение. Дантес ждал, когда Время снова заведет стрелки и придаст разрозненным мгновениям последовательное движение муравьиной колонны; сумерки разрослись в медленно рассеивающейся неподвижности, они как будто окутали сад сетью сновидений, и в ней бились пойманные бабочки-секунды. Время потеряло память. Тогда он увидел, что парк, вода и небо не только не потемнели, но озарились, что свет возвращался, с пренебрежительной улыбкой отметая законы, капризно непослушный, и что само солнце уступало этой вольности, как влюбленный, который, чтобы понравиться, соглашается поучаствовать в детских играх. Небо, уснувшие воды, темный и неясный берег напротив объединились в розово-желтом согласии, и в этой неопределенности, в этой путанице, соучастником которой сделалось солнце, оно превратилось из Цезаря в Арлекина. Тогда он понял, приходя в себя вместе с возвращением света, что ночь уже прошла и этот длительный полумрак был долгим полусном; ход Времени не прерывал церемонию; старый монарх не покидал Эскуриала и не позволил завязать себе глаза, чтобы поиграть в жмурки с днем и ночью.
Он не заметил, как она пришла. Когда он услышал ее смех, влившийся в первые песни рассвета, и обернулся, она стояла у подножия лестницы, одетая в черный пеньюар, словно позаимствованный у ночи. В руках у нее был поднос с фруктами. Кофе, хлеб, в отливах серебра и сверкании хрусталя, осы, которые бросили розы, едва почуяли сахар.
– Вы, наверное, голодный? Один, без прислуги…
– Мне так жаль, так жаль… Я не смог прийти… Я задержался…
– Из-за чего? Из-за кого?
Он провел рукой по лицу, на котором отразились бессонница и усталость.
– Не знаю. Во всяком случае, не помню, чтобы я спал. Вероятно, это был такой коварный сон, когда снится, что не спишь…
– Возможно, вы нашли ключ к тайне… Однажды кто-нибудь действительно проснется, и мир перестанет существовать. Идите сюда. Завтрак подан. Я не могу к вам подняться: терраса видна из комнаты мамы, а она не расстается с биноклем… За вами наблюдают. Помните: мы еще не встретились…
Он спустился.
– Как вы красивы в одежде придворного! И лестница самого что ни на есть семнадцатого века вам потрясающе идет…
Он с легким беспокойством взглянул на свой твидовый костюм… Она смеялась.
– Нет-нет, не пугайтесь, у меня не припадок…
– Прошу вас.
– Но в семнадцатом веке одевались совсем по-другому. Мама говорила, что когда вы с ней жили здесь… в медовый месяц, то ради развлечения носили платье той эпохи… Вам следовало бы взять напрокат гардероб «Пикколо-театро», он сейчас в Перудже – там фестиваль Гольдони, – из уважения к этому месту… Неужели вы не замечаете, как сурово смотрят на вас стены? Вы в своем твиде все равно что газовый завод на площади Сан-Марко. Я очень рада, что вы не пришли вчера вечером.
– О, вы меня успокоили…
– Я ждала вас. А потом, поскольку вы задерживались, я сама вас привела.
– В одежде придворного?
– …Именно так. Это была незабываемая ночь. Вы оказались на высоте моего воображения. Вы отсутствовали… божественно. Спасибо.
– Вот вам и утешение. Теперь, когда меня сравнили с моим двойником из семнадцатого века, я чувствую себя потяжелевшим на сотню тонн. Такой неловкий, такой несомненно присутствующий, неуместный, надоедливый…
– Не волнуйтесь. Я прекрасно вас выдумываю, даже когда вы здесь. Гёте говорил, что это и есть любовь: когда можно быть рядом с кем-то и одновременно его воображать. Если увидеть человека таким, каков он есть, можно, конечно, продолжать любить его, но только потому, что он напоминает вам того, другого, настоящего, которого вы не перестаете выдумывать…
Дантес смотрел на лестницу – там никого не было. У подножия, куда он мысленно вызвал Эрику, лежал гравий – тысячи зрителей с микроскопическими головками, которых этот немолодой человек, поддавшийся разгулу химер, вероятно, поверг в изумление. Взгляд Эрики из-под спутанных темных волос поднимался к нему так напряженно, что он задался вопросом, вполне естественным при утомлении, таком благоприятном для галлюцинаций, откуда искусство порой заимствует свои лучшие творения, – а существует ли он сам, его воображение, или только снится ей? Может быть, и не было никого, ни его, ни Эрики, одна лишь тоска и потребность в любви неизвестного мечтателя, голос чужого одиночества, и все, что в нем ощущало себя живым и свободным, было лишь чьим-то сном. Инструменты невидимого оркестра без дирижера, в котором несуществующие пальцы перебирают струны пустоты; нечто, мнившее себя садом, некто, мнивший себя человеком; не заря, не сумерки, не ночь, но неопределенное состояние, ждущее разрешения, а остальное – крошки другого бытия, бледные отражения совсем другой любви; не лебеди на озере, не гудение насекомых, не небо, по которому стекает жидкая эмаль розово-голубой зари, не вилла-музей, где никто не живет, – да, что-то другое, в другом месте, а здесь – земля, собирающая далекие отзвуки подлинного языка, блуждающие отголоски любви, из которых мы создаем свою скромную культуру… Под взглядом, который его вылеплял, он наконец-то почувствовал, что становится собой, таким, каким самостоятельно не мог сделаться ни он, ни кто-либо еще, как бы хорошо себя ни знал. И вот, приснившийся, выдуманный, прожитый, счастливый тем, что создан вместе с парком, в котором стрекотали цикады, он выходил из этого наброска, по большей части состоявшего из одиночества, где каждый мужчина и каждая женщина пребывают до тех пор, пока не обменяются своими несбыточными мечтами. Потом, через миллионы лет, когда все будет первично, когда ничто никому ничего не скажет, когда все будет идти впустую, перед простым выбором мечтать или умереть человек обратится к несуществующему и населит его своими мечтами. Тогда возникнет несколько цивилизаций вроде Европы, и сейчас, под создающим его взглядом, хотя, может быть, это он его и выдумал, под взглядом любви Дантес отдавал себя встававшей вокруг него другой заре, не связанной более с ничтожными кратковременными играми солнца с землей, но явившейся подлинным сотворением мира, где все освещалось смыслом и где все вечные вопросы теряли ядовитый привкус небытия.
– Дорогая Эрика, не смотрите на меня так, или я поверю в себя слишком всерьез.
– Каково это – чувствовать себя предметом страстной любви?
– Скажите мне, Эрика, каково это – чувствовать себя предметом страстной любви?
– Сначала вы…
– Такое впечатление, что позируешь для чужого портрета. Теперь вы.
– Немного грустно от мысли, что я пока только мечтаю…
Она положила голову на колени Ма. Сумерки, на цыпочках, в сереющем свете, прокрались в большую гостиную, обшитую деревянными панелями, которые местами отходили от стен и, по подозрениям, прятали фрески Тьеполо. Ма ласково гладила ее волосы своими длинными пальцами в тяжелых перстнях-талисманах; пальцы были такие тонкие и костлявые, что казались безжалостными. Когда Эрика вот так клала ей голову на колени, чтобы заполнить пустоту, которую навсегда оставил старый кот Хитрюга, Ма знала: она просит разрешения помечтать – и помогала, лаская ее руками, на которые были надеты два кольца, одно подарил Нострадамус, а другое – существо, чьи двадцать три имени ей не было позволено разглашать. Она владела целой коллекцией магических колец, отштампованных в Ганновере, и продавала их своим клиентам по ценам, умеренность которых могли оценить только любители вечности. Она запускала пальцы в волосы Эрики и бормотала чуть-чуть хриплым, чуть-чуть мужским голосом с отзвуками высоких залов замка и суровых феодальных времен:
– Мечтай, дитя мое, мечтай. Это дарит жизнь.
Барон, выпрямившись, сидел позади них перед свечой – коммунисты отключили электричество – и в этой тройке шарлатанов, которых ни одна полиция реального мира еще не сумела лишить их мечтаний, Барон, несомненно, наиболее последовательно старался избегать всякого контакта с вещным миром и не потерять ни грамма достоинства в признании своего плачевно человеческого естества. Он переворачивал страницы книги, все до одной девственно чистые, возможно, выражая тем самым свою веру в какой-нибудь будущий шедевр, который все осветит бессмертной ложью. Правая бровь слегка поднята, фарфорово-голубой глаз мерцает отсутствием взгляда, направленного, вероятно, к сокровищам души, – казалось, Барон исподволь стряпает новые цивилизации, с видом избранности, необходимым для успеха каждого великого мошенника. Если при таком сообщнике Ма еще не стала миллионершей, то по той причине, что все выгодные дела уже разобрали, а мир становился все менее и менее честным, что делало жизнь разбойников исключительно сложной.
– Думаю, у меня очень неплохо получилось – в вечернем сумраке, среди зеркал и оптических иллюзий, – сказала Эрика. – Это очень красиво. Мне хочется начать сначала…







