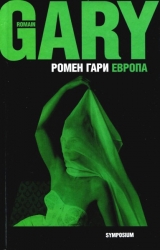
Текст книги "Европа"
Автор книги: Гари Ромен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 24 страниц)
XXX
Дантес, повернувшись к озеру и глядя на парусники, своими черными пятнами нарушавшие спокойную безмятежность пастелей неба и воды, думал, что последняя волна XVIII века умерла у ног Мальвины фон Лейден, оставив на камнях «Опасные связи», как некий залог продолжения. Но от этих утонченных и извращенных игр, которые для салонов и праздности были тем же, чем «Истории, рассказанные на ночь» для нашей добропорядочной провинции, от этого собрания рассуждений, проклинающих укромные и часто посещаемые преисподнии, остался один лишь стиль, музыка которого завораживала больше, чем все эти па-де-труа порока и оскорбленной добродетели, которые вызывали озноб, но могли разве что заставить улыбнуться Освенцим. Трактат по обольщению и любовному плену, который вдохновлял Мальвину в ее стремлении уничтожить Дантеса, давно утратил свой дух злых чар и оставлял теперь лишь впечатление хорошей литературы.
Посол ждал свою жену и сына, предупредивших о своем приезде телеграммой. Они торопились из Парижа, разумеется, «спасать» его, и, разумеется, спасать от него самого. Ибо часы, которые он проводил в мечтах об Эрике, наполненные этим вкусом нежности, – «облокотясь на перила балкона, с которого видна дорога, ведущая от Луары к берегам Италии, стоит в тени оливковых ветвей, держа в руке цветок фиалки, который завтра уже увянет» – таили в себе, и он это знал, некую опасность, сокрытую в их упоительном потоке, стремящемся к неизведанным лиманам. И все же он улыбался, полной грудью вдыхая счастье. Тугие паруса, ветер с моря, нос корабля, начало бесконечности, безграничные пространства, неспешная длительность, неподвижный дрейф, эйфория, отдающаяся в висках стрекотанием кузнечиков и бреющими зигзагами стрекоз, первых вестников грозы, очарование всей этой медлительности и тяжеловесности, общего права, слившихся в одну ослепляющую невидимость, переполненную ярким светом… Наконец торжествовало то, что не могло больше внутри его томиться ожиданием счастья, наконец ликовала душа, освобождаясь от условностей, условий, забот о карьере, семейных уз и всего того, что еще пытается прошептать вам разум, когда голос его почти уже иссяк.
Выходя с террасы, он вздрогнул от неожиданности, заметив свою жену и сына: он не видел, как они вошли. Они говорили негромким шепотом, как в комнате больного, стоя под одной из тех шпалер XVII века на мифологический сюжет, которые ему вовсе не нравились и, в сущности, ценились из одной лишь своей редкости. Заботливое понимание без тени упрека, из опасения проявить нескромность, и слегка лишь отмеченное грустью, то понимание, которое проявляла жена с самого начала его связи с Эрикой, раздражало самой своей сестринской снисходительностью. Должно быть, у него за спиной они говорили о «кризисе зрелого возраста», обо «всех тяжких», в которые пускаются порой мужчины, разменявшие шестой десяток, когда какой-нибудь «юной авантюристке» удается подцепить их на крючок. Оступаются и падают: «Бедный Жан, он такой уязвимый!» В последний раз, когда он виделся с женой в Париже, он слышал, как она прошептала, таким тоном, каким, бывало, говорила его мать, когда у него была температура: «Бедный мой, несчастный…»
Посол поцеловал руку жены, не проронив ни слова, достал сигарету из серебряного портсигара, сын помог ему закурить. Дантес вдохнул дым и улыбнулся:
– Что ж, здравствуйте. Ты не похож на меня, малыш. Тебе здорово повезло.
У этого парня двадцати трех лет были плечи атлета, и Дантес, глядя на него, подумал, что наследственность не такая уж сволочь, какой ее принято считать. Крепко сбитый, всегда в первых рядах среди тех, кого на улицах Парижа нередко обдают слезоточивым газом, Марк просидел в средней школе на четыре года больше положенного, чтобы как следует научиться ненавидеть то, чему его учили.
– Спасибо, что приехал навестить меня, Марк. В прошлый раз ты так откровенно дал понять, что ненавидишь музеи… я уже думал, что между нами все кончено…
– Я никогда ни в чем тебя не обвинял, ты знаешь. Это ваши теоретики, не наши, привыкли все объяснять ненавистью к отцу… К этой компании «Взаимное подозрение, Отец и Сын» мы не имеем никакого отношения…
Дантес пытался согнать с лица то насмешливое выражение, в котором сын так часто его упрекал: для Марка юмор был неотделим от терпимости, которая в конце концов все проглатывала, этакий ловкий прием «трансцендентной» иронии, позволявшей легче все стерпеть. В общем, юмор оказывался оправданием пассивности. В основе его лежало принятие всего: искусство обезоруживать реальность, ополчившуюся на такую малость, как его персона, с большим запасом остроумия, остающимся, однако, неприкосновенным. Или вот еще что – Марк был неистощим в рассуждениях на эту тему – юмор, по его мнению, был одним из способов отдалиться, что позволяло буржуазной элите уживаться с любой недопустимой ситуацией в обществе. Стремление устроиться поудобнее, иными словами, просто устроиться.
– Если раньше отец говорил сыну: «Я хотел бы, чтобы ты был счастлив», то было просто замечание личного порядка. Сегодня же это значит: изменить цивилизацию… Боже мой, Господи… Все становится так сложно.
Юноша смотрел на него своими темными глазами, в которых все явственнее проявлялась симпатия, возникавшая, однако, из того, что больше всего раздражало Дантеса, – из понимания…
– Думаю, ты все же заслуживаешь большего, чем пустые мечты…
– Милый Марк, когда представляешь Францию де Голля, поневоле вынужден представлять мечту.
– Если ты так хорошо это осознаешь, отчего же не оставить сны и не проснуться? – Он переглянулся с матерью и, кажется, смутился. – Да я не затем приехал сюда из Парижа, чтобы говорить обо всем этом. Я так, по-приятельски.
– Мать послала тебе сигнал SOS?
Руки жены терзали носовой платок.
– Ну что ты, Жан, – вступила она, – нельзя сдаваться. Ты так легко поддаешься этой… этому всему, да еще так охотно. Подумай о своей карьере…
– О, да, с такими аргументами…
Дантесу удалось наконец увидеть в глазах своего сына то выражение, в котором так сильно нуждается серьезность, – иронию…
– Я прекрасно понимаю, на набережной д’Орсэ поговаривают о безумии. Весьма вероятно, что это будет стоить мне поста. Я пытаюсь спасти одну молодую женщину. Она привязалась ко мне. Я даже думаю, что я для нее единственная ниточка, которая связывает ее с реальностью. Я несколько раз говорил с ее врачом. Он убежден, что еще можно не дать ей упасть… поддержав с другой стороны. В психических заболеваниях есть латентные периоды, некие… помутнения, которые не должны обязательно вести к полному… помешательству. На этот счет кока мало что известно, одно мы знаем наверняка: сила воли самого больного может сыграть в этом огромную роль… во всех смыслах слова. Вся школа психиатрии говорит о значимости выбора, о добровольном уходе от реальности…
Он заметил, что жена его плачет, и это было необычно для человека, получившего хорошее воспитание. Когда Мария Антуанетта, отправляясь к месту казни, собиралась уже взойти на повозку, графиня де Ланж, сопровождавшая ее в этот последний путь, не выдержала и разрыдалась. Королева тогда произнесла: «Перестаньте, прошу вас. А то сейчас соберется толпа…», оправдывая тем самым революцию. Аристократия, которая могла бы помочь Европе увидеть свет, как когда-то Греция дала миру демократию, в сущности, так никогда и не поняла и даже не задумывалась о том, что может послужить чему бы то ни было. Марк казался страшно раздосадованным, и, честно говоря, странно было, что он так далеко зашел в изъявлении своих сыновних чувств. Что же до остального, то с озера накатывал легкий бриз, слышался запах сирени, старой мебели, весьма благоприятного обиталища для призраков. Чудесные пейзажи с руинами Гюбера Робера на створках ширмы, паркет, за которым так хорошо ухаживали, что поверхность его напоминала янтарный пруд: вот-вот появятся лебеди… В воздухе, признаться, чувствовалось некое смущение, след стыда, потому что, несмотря ни на что, Дантесу не удавалось пока избежать ясности в отношениях с самим собой, и это будоражило химеры. Он нисколько не обманывал себя насчет собственного расстройства и знал, что Эрика нуждалась в нем гораздо меньше, чем он в ней.
– Я не могу оставить тебя здесь одного, в таком состоянии, – сказала его жена.
– Ничего. За мной тут очень хорошо ухаживают. Два человека прислуги, шофер. Можно сказать, это мой первый настоящий отпуск..
– И все же все время находиться одному в этом громадном доме, парке…
Дантес улыбнулся. Конечно, прислуга не в счет. Его жена тоже была очень высокого происхождения. Он вдруг поймал себя на том, что вовсе без негодования, но даже с некоторой нежностью думает о повозках кровавого Террора…
– Нет, честное слово, – сказал Марк, – мне больше по душе была твоя первая блажь: Европа… В ней хоть и не больше реальности, но по крайней мере это можно было как-то аргументировать. Теперь же…
Удивительно, до какой степени эта просторная гостиная XVIII века, с цветными обоями, гризайлями и зеркалами, отголосками чьего-то приглушенного смеха, нежного шепота вееров, клавесинами и канделябрами, обладала необъяснимой властью превращать реально существующих людей, например его жену, его сына и его самого, во что-то бесплотное, эфемерное, возможно потому, что в этом окружении старины, где все напоминало о непрерывности и долговечности, они, все трое, чувствовали себя случайными гостями, которые долго здесь не задержатся… Забавно было бы вернуться сюда в костюмах той эпохи, в париках и жабо, с непременными расшаркиваниями и жеманством… Никакая идеология не обходится без философского камня. Всегда остается это стремление еще больше приблизиться к невидимому, еще больше раствориться в вечности, рассредоточиться до такой степени, чтобы больше не страдать от невозможного. Марк бы сказал на это: элита, которая уже не верит в то, что играет, и мечтает наконец уйти со сцены…
Он подошел к жене и хотел взять ее за руку.
– Прошу тебя, – отпрянула она. – Я прекрасно знаю, что это твоя любимая манера отделаться от кого-нибудь…
– Надо же, – удивился Дантес. – Стало быть, я не слишком хорошо себя знаю…
– И на сколько все это может затянуться? – спросил Марк.
– Ее врач считает…
– Я имею в виду не это мифологическое создание, я говорю о тебе. Что особенно меня интересует, так это, какую роль во всем этом играет собственная воля, а какую – не поддающееся контролю душевное расстройство? Идет ли здесь речь о сознательном саморазрушении, или же, как ты это утверждаешь, это просто отдых… от законности, как у вас принято говорить, то есть от продуманных решений? Собираешься ли ты потом вернуться, или же хочешь отказаться от всех земных благ и навсегда удалиться в свой ашрам?
– В департаменте мне дали отпуск на три месяца, отдых, предусмотренный законом. И я совершенно не понимаю, с чего вдруг такая забота обо мне. Насколько я знаю, сейчас нет никакого кризиса в отношениях между Францией и Италией, который бы требовал моего присутствия. Шармель прекрасно справляется со своими обязанностями… Что же тогда?
– Жан, ты отдаешь себе отчет, что ты… на грани? Ты знаешь Рим… Люди говорят…
Впервые Дантес встревожился. И действовал здесь не инстинкт самосохранения, но его чувство долга. Прежде всего это означало: не приносить страданий. Он чувствовал себя ответственным за расстроенное, скорбное выражение лица жены. Она была на несколько лет моложе его, и все, что в их союзе было замешано на разуме и лишено страсти, при том, что жизнь ее с самого рождения плавно перетекала из одного спокойного состояния в другое, все это помогало ей выглядеть гораздо моложе своих лет. Надвигающееся пятидесятилетие никак еще не объявило о своем приближении. Ее считали одной из самых элегантных представительниц бомонда в Париже, что всегда является подтверждением беззаботной жизни. Может быть, она и любила его, но так, как делала все: скромно и сдержанно. Поначалу он даже немного страдал от избытка ее изысканности, от которой она не могла отделаться даже в его объятиях, доходило до того, что и в постели возникали эти бесконечные вопросы благопристойности. Он был пленен ее красотой и, конечно, не мог не относиться к ней с тем безграничным почтением, с каким мужчины относятся к женщинам, когда они облекают холодность в манящие покровы тайны. На этом столь хорошо сохранившемся лице – говорили, что она избегает слишком живых выражений, гримас и даже улыбок, чтобы не нарушать спокойствие собственных черт и не вызывать тем самым лишних движений, приводящих к появлению морщин, – явственно проступили сейчас следы возраста. Правда стояла на пороге: унижение и беспокойство открыли ей дверь. Перестать любить женщину с течением времени заключало в себе нечто недостойное, пошлое и грубое. Дантес знал, что маленький римский мирок полнился слухами о его «увлечении». Посол Франции всегда был на виду, так что его связь на стороне никак не могла не привлечь внимания всех этих княгинь и графинь, праздность которых и их жадность до сплетен ни в чем не уступали слабостям наложниц в каком-нибудь гареме. Жену его, должно быть, принимали с особенным участием, которое оказывается супругам, теряющим свои позиции с приближением старости. Таким образом, расставание с мужем или любовником «из-за возраста», помимо вполне естественного огорчения, создавало еще и проблему потери рыночной стоимости. Конечно, можно лишь презирать подобные критерии светского рынка, однако легко утешаться суждениями общего толка, когда речь идет о страдании других. Какое значение имеет, что страдание вызвано надуманными причинами, если само оно настоящее? Дантес обернулся к сыну.
– Скорей бы революция, – сказал он.
– Ну, спасибо. Твой юмор, знаешь…
– Мне кажется, мы все уже высказали друг другу по этому поводу еще в Риме…
– Фирмен, – сказал Марк, – отвезите месье и мадам…
Дантес не видел сына вот уже два года… Каким он стал?…
Рама была слегка наклонена вовнутрь помещения, что придавало окну вид сломанного крыла. На обоях проступали какие-то странные призраки строений, в которых можно было угадать будущие дворцы, подобно беззвучным симфониям, парящим над партитурами, в то время как музыканты давно уже оставили свои места в оркестровой яме. Эпюры в стройном согласии контуров, намеченных голубым пунктиром, меридианы и параллели какого-то княжеского замка, которым помешало воплотиться в жизнь упразднение Старого режима, и они так и остались висеть в невесомости геометрическими нимбами. В раме фиолетового бархата Джулиус, правитель Берингема, направил стрелку своего компаса одним концом на Счастье, другим – на Смерть: репродукция аллегорической картины Ван Вейгта, из Рейксмюзеума в Амстердаме.
– Я ни в чем тебя не упрекаю, – услышал он голос жены, – ни в чем. Сейчас нам, наверное, уже невозможно снова жить вместе… Ты возвел между нами слишком высокую стену своих фантазий. Я же никогда не чувствовала себя на высоте твоего воображения. Просто я хотела бы, чтобы ты в конце концов понял, что эта несчастная девушка… Словом, она немного не от мира сего, она изначально создана для других измерений… Видишь ли, я попыталась кое-что разузнать, естественно, как можно осторожнее, не беспокойся… Печальный случай психического расстройства. В ней столько же настоящего, реального, как, скажем, в этих пунктирных рисунках на стенах, в этих призрачных замках, которые так и не увидели дневного света…
– Очень странно, – сказал Дантес. – Примитивные народы считали тех, кого мы принимаем за сумасшедших, святыми; наша же цивилизация вовсе отказывала им в человеческом облике и вообще в существовании… К ним относятся хуже, чем к прокаженным.
– Я совсем не это хотела сказать…
– А что же тогда? Что меня влечет невозможное? Допустим. Я отвечу тебе, позаимствовав мудрости у голландца Хейзинги, который писал в своей «Осени средневековья»: «Если бы человечество довольствовалось одной лишь реальностью, никогда бы не появилась цивилизация…». Что, по-вашему, вызвало такой шквал порицания «всех этих фантазий» и «буйного воображения» на недавнем Съезде советских писателей? Страх перед изменениями. Мечта – это враг всего, что существует сейчас, и творец будущего… Все, что стало реальностью, что было воздвигнуто, все было взято из мира воображаемого…
– Я всегда знал, что ты будешь великим дипломатом, па: в искусстве незаметно скрываться из виду тебе нет равных. Как насчет Лондона и Вашингтона? Как представитель бурлящей Франции, страны видимостей и пенящегося шампанского умов – лучших признаков не наблюдалось со времен Вольтера, – ты произведешь там настоящий фурор… кто может сравниться с прекрасными буржуазными страусами, когда они прячут голову в туманностях идеалистов! Вы всегда возносились тем выше, чем хуже обстояли дела чуть ниже, на уровне социальной реальности. Европа? Почему бы и нет? Она никогда не существовала, да никогда и не будет существовать: так что от нее можно ждать чего угодно… Мелкие княжества восемнадцатого, просвещенного века, чудовищный индивидуализм Европы в «Плеядах» Гобино, да… Тогда в самом деле была Европа, принадлежавшая избранным. Но народ при этой Европе видел одно лишь дерьмо, невежество и развернувшиеся триколором полосы траншей…
– Могу я что-нибудь сделать для вас? – спросил Дантес. – Я дал моему адвокату надлежащие распоряжения – тебе ведь теперь не до того, настоящие проблемы…
Но он знал, что они не перестанут рвать его на куски. Не успел он уехать из Рима, и вот, пожалуйста, уже жалеет об этом. В сущности, все, чего от него требовали, это бросить Эрику ради Карьеры, как он однажды сделал уже, бросив ее мать.
Он подошел к столу и перечитал еще раз телеграмму: жена и сын сообщали о своем приезде на следующий день, в среду. Они должны были приехать на машине. Оставалось пустить все на самотек. Там видно будет. Не нужно больше об этом думать. Все эти прогоны только изматывали его.
XXXI
Он налил себе немного портвейна и, со стаканом в руке, в первый раз со времени своего приезда, прошелся по большим залам виллы «Флавия». В большинстве своем они были пусты, все, кроме библиотеки и зеркальной гостиной, отделанной и меблированной еще при коммунистах на благотворительные взносы нескольких богатых флорентийских семей. Обе виллы должны были в скором будущем стать музеями, но пока мэрия предоставляла их в распоряжение тех, кто мог хорошо заплатить: реставрация и содержание стоили недешево.
Четверть века назад, почти в эти самые дни, он приезжал сюда провести три недели с Мальвиной. Вилла тогда была в плачевном состоянии, полностью заброшена. Похабные рисунки на стенах, следы испражнений и отметины от пуль напоминали о побывавшей на вилле солдатне, которая во время войны стояла здесь лагерем и, пользуясь случаем, постаралась отомстить за свое поражение и за презрение к себе самой, оскверняя все то, что напоминало о вершинах цивилизации. Бедность Италии в послевоенные годы предоставила ему возможность снять эту виллу на свои средства атташе посольства. Мальвина, по ее собственному утверждению, прекрасно помнила, как провела здесь ночь в 1620 году, когда у нее сломалась карета, на этом пути из Пармы во Флоренцию, где ждал ее поэт Сцевола.
Оки поставили здесь диван, принесли только самое необходимое и выходили только за продуктами. Остальное время они проводили, запершись на два оборота, в этой неясной и как будто даже ядовитой атмосфере, скрывавшей в себе все помутнения рассудка, связанные с областью тайных игр и пустынных садов, спрятанных за высокими стенами, столь много повидавших на своем веку, и лихорадочного шепота влюбленных, и напряженного молчания. Мальвина решила во время их пребывания на вилле одеваться в такие платья, которые не могли не привлечь призраков. Во Флоренции они взяли напрокат театральные костюмы Борджиа и Медичи, а также фраки XVIII века, дабы оказать честь графине де Луре, которая описала эти места в своих путевых заметках. В этих костюмах, в этой обстановке, которая как нельзя лучше подходила Мальвине, она, казалось, помолодела на несколько столетий. В то время ей было уже, должно быть, лет сорок, но она решила выглядеть на двадцать. С Дантесом, который, удивленный, склонялся к этому сияющему юностью лицу, она говорила, странно улыбаясь с мечтательно-насмешливым видом, о каком-то любовном напитке, которым ее одарил один друг, граф де Сен-Жермен, и о других, еще более темных силах, которыми она была наделена при некой инициации, – раскрывать их настоящую природу постороннему человеку она не имела права, – и которые позволяли ей перемещаться из одной эпохи в другую и переживать еще раз те жизни, в которых она уже побывала. По ее словам, она никогда не отказывала себе в удовольствии прихватывать то здесь, то там все, что было самого лучшего: день, час, мгновение, выбирая ту или иную эпоху по тому, какая муха ее укусит, словом, как ей заблагорассудится, не забывая, разумеется, предварительно испросить разрешения у кого следует. Дантес смеялся, ему нравилась та дерзость, с которой эта очаровательная авантюристка пускалась в свои маленькие игры, в которые начинала уже верить сама; он также угадывал за этими внешними капризами и фантазиями скрытую ностальгию. Мальвина говорила, что испытывает что-то вроде угрызений совести, потому что использует свою силу лишь для того, чтобы удовлетворить собственную страсть к путешествиям. Так что она уже серьезно начинала задумываться над тем, чтобы сделаться ясновидящей, и поэтому, хотя и ненавидела это пошлое название, которое так ясно свидетельствовало об общем упадке и заброшенности словаря, следовало смириться с этой вывеской, если она хотела помочь другим приподнять завесу над будущим. О том, чтобы подписаться собственным именем и, таким образом, разоблачить себя, не могло быть и речи.
– Никогда еще не слышал, чтобы кто-нибудь лгал так же искренне, как вы, – говорил Дантес, осыпая поцелуями этот лоб, под которым роилось столько химер.
– В двадцать пять вы вообще мало что видели.
– Я видел вас, и я вижу вас, этого достаточно, чтобы сравняться годами с самой мечтой…
Иногда она почти умоляла его, с той горячностью, в которой таяли все эти ее сверхъестественные силы, которыми она так гордилась:
– Вы ведь любите меня, правда? И где вы только пристрастились к этому искусству, которому я научилась, увязнув в том, что обычно называют развратом?
Он теперь знал все о ее прошлом, но вынужден был признать, что между сладострастием и воспитанной сдержанностью, между красотой и нечистоплотностью существовала связь, которую невозможно было порвать, не разрушив вместе с тем все то, что в цивилизации создавалось и развивалось на основе удовольствия. Распутство подвергало испытанию породившую его свободу, проверяло то доверие, которое она должна была иметь к себе самой, нравственность оскорблялась лишь тогда, когда ей не хватало уверенности, излишества, – цена, которую приходилось платить умеренности, чтобы оставаться верной себе и самой не превратиться в избыток строгости. В самой природе безрассудства чувствовалась некая ностальгия по высшему разуму. В этом состояло отношение праздника дураков к священным истинам, над которыми он глумился, подчеркивая тем самым всю их милосердную, просветленную, суверенную власть.
Во всех тех грехах, которым Мальвина предавалась в молодости, Дантес находил то, что, от Античности до Византии, от Афродиты до португальской монахини [46]46
Имеется в виду главная героиня романа Дидро «Монахиня».
[Закрыть], было, со всеми своими жизненными соками и корнями, уходящими в перегной, неотделимо от высших проявлений цивилизации. Шедевры умирают только тогда, когда они не могут рождаться, а для этого достаточно всего лишь общества, дрожащего перед этими испытаниями, которым подвергает его самим своим существованием свобода. Камни Флоренции продолжали звучать благодаря чувствам и неге сладострастия, а вовсе не проповедям Савонаролы [47]47
Джироламо Савонарола (1452–1498) – настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции; обличал папство, призывал церковь к аскетизму, осуждал гуманистическую культуру (организовывал сожжение произведений искусства).
[Закрыть]. Как же ему было примирить дипломатическую карьеру с этим неутолимым желанием постоянного присутствия Мальвины? Он уже не мог обходиться без нее и хотел, чтобы они поженились.
– Но ведь вам нужно получить разрешение, чтобы жениться на иностранке, так?.. А у меня, что называется, репутация, по всей Европе…
– Я подам в отставку.
– Когда вам будет сорок, я уже буду старухой.
– Что ж с того, попросите у вашего друга Сен-Жермена очередной флакончик его чудесного эликсира…
– Я серьезно…
– Вполне.
Уже по возвращении их в Париж, куда его назначили ответственным по связям со странами Европы, конфликт принял новый оборот, принуждая Дантеса избрать наконец свой путь в жизни. Вопрос стоял уже не о пренебрежении «светом» и «высшим» обществом, речь шла о его собственном достоинстве. Он готов был покинуть навсегда Министерство иностранных дел и изменить всю свою жизнь. Но если он готов был идти на жертвы, это не значит, что он готов был уступать. Принять все и поддаться чувственности, как если бы она была его единственным настоящим призванием, не могло быть выбором: то была капитуляция. Для человека, который считал себя европейцем, принимая во внимание все то, что это для него значило, в том, что касается долга, ответственности и чести, все принести в жертву гедонизму или даже любви – значило предать то, что он называл Европой, и хотя никто лучше него не знал, что эта его Европа являлась единицей чистого воображения, он все равно старался быть на уровне, следуя правилам жизни, которым он вовсе не собирался изменять. Выбрать любовь, наслаждение и даже личное счастье, какой бы ни была его цена по шкале уважения окружающих, – значило, в конце концов, не что иное, как упадничество… Ибо на этот раз речь шла уже не только о Мальвине.
Сначала он отказался верить в то, что она могла иметь в то же время других любовников, кроме него. «Можете проверить», – бросил ему с презрением начальник службы персонала во время их краткой встречи, после которой Дантесу было отказано в разрешении на брак. Он проверил: это было несложно. Она находилась на содержании у одного банкира из Дюссельдорфа, и, что было уж совсем недоступно пониманию, но что объясняли тем, что ее шантажировали фактом какой-то неясной сделки, заключенной в прошлом, Мальвина являлась также любовницей какого-то более чем сомнительного типа, целителя, психоаналитика без образования, астролога и известного в обществе мошенника в одном лице по имени Джулио Амадео Нитрати.
От всего этого Дантес впал в такую растерянность, что на протяжении многих дней вообще был не в состоянии что-либо чувствовать.Прикоснись к его руке каленым железом, он и то не отреагировал бы. Он продолжал машинально двигаться, присутствовал на собраниях, записывал замечания: отлаженный механизм продолжал функционировать, но то были действия автомата.







