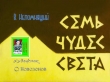Текст книги "Мизери"
Автор книги: Галина Докса
Жанры:
Прочая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
IMPERATIVE (5)
(повелительное наклонение)
Последовало еще три звонка. Света, искренне сокрушаясь, последовательно разочаровала одну, другую и третью претендентку. У одной не совпал цвет, другая потеряла не перчатку, но кожаную детскую рукавицу, третья…
Третьим позвонил учитель физкультуры. Света сразу узнала его, несмотря на то что он говорил с ней «не своим», противно–писклявым голосом. Учитель правильно указал цвет и угадал, с какой руки потеряна перчатка. Они посмеялись. Было замечательно спокойно и необременительно разговаривать о перчатке. Света так и сказала:
– Вы мне почаще звоните, Сережа. С вами так приятно беседовать по телефону!
После такого комплимента учитель физкультуры смешался, поскучнел и скомкал разговор. Даже стало немножко обидно. Она бы еще поболтала.
И тем не менее день прошел удачно. В понедельник ей нечего будет стыдиться. Она не сидела часы напролет в кресле, уставясь на свое отражение в зеркале, как просидела неделю зимних каникул. Она переделала множество дел и поймала по телевизору две неплохие передачи: одну о растущей преступности, а другую об американской школе. Завтра будет о чем поговорить в учительской.
Перед сном, настроенная дружески ко всему миру, в котором была она, конечно же, вовсе не так одинока, как представляется бессонной ночью не очень молодой незамужней бездетной женщине, Света приняла последнюю таблетку и вытащила из шкафа коробку с письмами. Жажда деятельности еще жила в ней, требуя пищи, и, рассчитав, что часа, отмеренного наркотиком, хватит для наведения порядка в домашнем архиве (дело, откладывавшееся в долгий ящик многие годы), она присела с коробкой на постель.
Писем было много. Они выгибали картонные стенки и вспучивали измятую крышку, прихваченную шпагатом. Света открыла коробку. С мягким шорохом волны письма хлестнули через края коробки, залили колени и соскользнули на пол. Света высыпала оставшиеся. Ах, как много! Не верилось, что такая уйма бумаги умещалась в маленькой коробке из–под обуви. Сомневаясь уже, что успеет, Света уселась на полу возле груды писем и засучила рукава.
Большая часть писем начиналась словами «Привет, Мышка!» и «Дорогая доченька!». Для того чтобы различить обращения, не требовалось вынимать листки из конвертов. Прежде Света часто перечитывала письма и, как выяснялось сейчас, прочитав, забывала вложить их обратно в конверт. Но и вкладывая, она могла перепутать конверты или даже одеть одно письмо в два конверта. Прочтя двадцать раз кряду: «Дорогая доченька!» – на листке, вынутом из конверта с московским штемпелем, Света поняла, что в этой мешанине ей не разобраться до утра. Она принялась складывать письма и тут с удовольствием аккуратистки, обнаружившей посреди возмутительного хаоса оазис порядка, наткнулась на увесистую пачку голубых конвертов, обвязанную красным шелковым шнурком.
Это был шнурок от маминого халата. Она сразу узнала. А почерк… Света отдернула руку. Она узнала и почерк. Это были письма Игоря: единственные письма, которые никогда не перечитывались ею.
Она закрыла глаза, но веки показались ей прозрачными. Или это смысл опять стал уходить от нее куда–то к потолку, в угол, обвязанный паутиной? Как это она не заметила при уборке! Безобразие… И паук шевелится вроде… К письму… В этом году она не получила от Аси поздравления с Новым годом, да и сама, кажется, не писала… Или писала?
«Не помню. Ничего не помню».
* * *
Она заснула сидя на полу, уронив голову в колени. Утром проснулась раньше ворон, наспех, без разбора, запихала письма в коробку, перевязала ее крест–накрест и убрала подальше от глаз. Кажется, она опять все помнила. А чего не помнила она, то могла вспомнить в любой момент. Воспоминания, как незваные гости, приходят сами собой. Только не надо их бояться, и тогда они окажутся кстати: весьма кстати и вовсе не в тягость. Более того, они способны развлекать и даже приносить пользу, не так ли?
Так. Завтракая, Света вспомнила об алмазе. Спускаясь в лифте, вспомнила, что первым уроком у нее восьмой. Вытащив из почтового ящика открытку от Аси – что не поздравила ее с Новым годом. Хлопнув дверью парадной – о старухе с первого этажа. Увидев женщину в норковой шубке – что опять забыла выложить алмаз из сумки, а кстати, и об учителе физкультуры («милый»). Прочтя в ожидании трамвая: «Привет, Мышка!» – что Павлику, старшему, уже восемнадцать…
В трамвае, машинально уступив место беременной пассажирке, Света вспомнила, что у нее–то все в порядке (и от этого чуть испортилось настроение) и сразу вслед – что не восьмой, а седьмой у нее первым уроком (настроение улучшилось). С большим удовольствием она вспомнила о Вонючке и – уже на подходе к гимназии – о Дэвиде Смите, оказавшемся тем «первым встречным», о котором она по старой, выработанной в детстве суеверной привычке всегда загадывала заранее: Он или Она? Король или Королева?
Впрочем, тут налицо были оба. Подойдя поближе, Света успела к финалу уличной сценки, весьма позабавившей ее. Дэвид Смит стоял, согнувшись вдвое, и выслушивал брань разъяренной старушонки, пытающейся вырвать у него из рук сумку, до отказа набитую провизией. Поняв, что без нее тут не обойдутся, Света бросилась на выручку.
Дэвид не сразу узнал ее, а, узнав, спросил на своем чудном «канадском» английском (старушонка при первых звуках иностранной речи ретировалась, подхватив сумку):
– Но почему она не хотела, чтобы я ей помог? Она приняла меня за вора?
– Да, Дэвид. Мне трудно вам объяснить…
– Я понимаю, – сказал Дэвид по–русски. – Россия!
– Россия! – радостно подтвердила Света и в поощрение этой редкой понятливости рассказала старинный анекдот, посвященный событию хрестоматийному – возвращению некоего русского на родину…
«Русский путешественник вернулся домой после многолетней жизни на чужбине. Он вышел на платформу, неся в обеих руках по чемодану…»
Дальше нужно было показывать. Света не была хорошей актрисой – Дэвид улыбнулся лишь из вежливости. Не уверенная, что молодому учителю, избалованному культивируемой на Западе чистотой патриотических чувств, вполне доступен юмор ситуации вокзальной кражи, она пустилась в объяснения, попутно отвечая на вопросы, касающиеся методических тонкостей преподавания ее предмета. Вопросам не было конца. Этот Смит за выходные дни проштудировал учебник. Он и в русском успел поднабраться, этот Смит… Да и анекдот он понял, оказывается, а не смеялся потому, что примерно такой же ходит у них, только…
«Англичанин, француз и чистокровный янки приехали в Монреаль. Француз попросил англичанина посторожить его чемодан, пока он сходит за газетой. Англичанин перепоручил это американцу…»
Вот кто был актером! Даже если бы он рассказал свой анекдот по–французски, Света бы все равно смеялась. Сейчас же она просто помирала со смеху. Рассказчик, довольный успехом, скромно поклонился.
Разговаривая, они подошли к кабинету Инги. Света завела туда Дэвида и побежала к себе. Надо было успеть до начала урока поделить детей. Времени не оставалось, и с детьми Света поступила, как с письмами вчерашней ночью: выгнала всех в коридор и, на глазок определив по журналу, какая буква делит список пополам, велела обладателям фамилий «на букву «А, Б, В»… и до «П»… нет, до «О» отправляться к мистеру Смиту. Таким образом, обе группы обновились на добрую половину при соблюдении, в общем, почти полной объективности. И Светин любимец Письман оставался при ней. И Тищенко…
– Света, ты куда! – остановила она девочку, вдруг рванувшуюся по коридору прочь от класса. – Ты, может быть, Дищенко, а не Тищенко?
Света Тищенко вошла и заняла место у окна. Остальные уже расселись, кто куда, недовольно ропща. Операция по разделению групп разрушила много сложившихся пар. Света не обратила на ропот никакого внимания. Пора было начинать урок и становиться Светланой Петровной. Поначалу она завидовала самой себе, но скоро привыкла.
* * *
Вечером ей был всего один звонок. Алмаз, наконец–то извлеченный из сумки, покоился в пустой железной пудренице. Пудреница стояла на подзеркальнике. Кроме алмаза, в пудренице находились: серебряная цепочка, мельхиоровое кольцо и брошка с глазурью. Света редко надевала свои «драгоценности». Они как–то всегда душили ее. «Не доросла», – ласково говорила мама, когда Света, поносив недельку скромное золотое колечко, подаренное к круглой дате (шестнадцать, двадцать, тридцать… стоп!.. лет), сдавала его «на вечное хранение». Мама заворачивала кольцо в холстинку узлом прятала в шкаф на полку с постельным бельем. Света пошла проверить узелок. Все было цело: три девичьих перстенька с круглыми камушками (красный, зеленый и желтый, все вместе – игрушечный светофор), материно обручальное, купленное через несколько лет после войны кольцо (всю жизнь мама проносила его на левой руке, а сняла за неделю до смерти, Свете в руку, напомнив, чему наставляла всю жизнь: «Такая–то проба, не отдавай в переделку, разбавят») и порванная золотая цепочка. Мама не разрешила «и притронуться» к золоту, когда начались вдруг «тяжелые времена». Красная цена узелочку была теперь…
Света не знала цен, но, открыв пудреницу, которую продолжала держать в руке, увидев, как тяжело и отстраненно светится алмаз, она, как бы обидевшись от имени мамы за свой узелок, не стала, как собиралась, развязывать его, чтобы добавить к трем цветным четвертый, бесцветный камушек. Она предпочла оставить его в пудренице в плебейском соседстве украшений «на каждый день».
«В конце концов, я ему каратов не считала, – подумала Света. – Бабушка надвое сказала, между прочим, насчет его каратов…»
И тут зазвонил телефон. Света вздрогнула и отставила пудреницу. «Не алмаз, – еще раз сказала она себе, расслышав, как обыкновенно прошебаршал камень по железному донцу. – Как это, оказывается, скучно – ваши сказки Шехерезады! Ну, что ж…»
Она откашлялась и взяла трубку:
– Да.
– Добрый вечер, – с заминкой произнес тяжелый, прохладный и вместе с тем тающий (лед в руках!) голос. – Я прочла объявление…
– Да–да, слушаю вас! Какого цвета?..
– Ах нет, не беспокойтесь… Я несколько не о том…
Голос, потеплев, вдруг показался Свете знакомым (вода в горсти, и что–то на ощупь тугое бьется о ладони). Она даже разволновалась и подхватила с подзеркальника чужую перчатку, готовясь выслушать описание узора и сравнить его с тем, что было у нее перед глазами: треугольники и квадраты маленьких дырочек вьются медленной змейкой по краю раструба, у шва болтается хвостиком хлыстик, а большой палец надорван. Однако женщина, извинившись, повела речь не о перчатке. Голос, смутно знакомый, излучал любезность. Интонации его ласкали ухо. Смысл произносимых им слов доходил до сознания не враз (вода утекала сквозь пальцы), но, переспросив, Света уловила его. Незнакомка голосом, тающим от любезности (тугое, вертлявое дернулось и замерло, схлопнутое), предлагала ей работу в преуспевающей фирме на выгодных условиях и просила в случае Светиного согласия позвонить по такому–то телефону между десятью и пятью часами в ближайшие…
Нет! Не дни и даже не недели, а – месяцы, и, выслушав это последнее условие, завершавшее странный, но несомненно деловой разговор, Света положила трубку на рычаг движением таким осторожным, как будто боялась спугнуть телефонный аппарат, который, как затаившийся зверь, только прикидывался неодушевленным предметом, тогда как на самом деле вот уже несколько дней (с тех пор как завязалась и развилась алмазная история) был в чем–то гораздо живее своей хозяйки.
Света почесала в затылке. Так, должно быть, недоумевал когда–то старик, вытянувший из морской пучины золотую соблазнительницу рыбку. О перчатке (а тем более об алмазе) в разговоре не упоминалось. Объяснения Золотой Рыбкой причин ее интереса к Светиной персоне не вполне удовлетворяли Свету. Не отходя от телефона, лениво рассматривая собственное уродливое отражение в круглой глазированной крышке пудреницы (которую опять держала в руках), Света вслух, дурашливым полушепотом пародии и сплетни вспоминала свои только что отзвучавшие реплики:
«А почему – я?»
«А кто вам сказал, что я ищу место?»
«А вы уверены, что не ошиблись номером?»
«Но я не могу вот так, сразу… У меня ответственная работа…»
«Учительница».
«Сколько?»…
«Сколько, я не расслышала?»
«Шестичасовой?..» «Компьютером не владею…» «Языком владею…» «Я не сказала «да»…» «Я подумаю…»
И последний, такой невинный, но отчего–то прекративший этот долгий разговор вопрос:
«Простите, а как вас зовут?»
Ну, точно хвост мелькнул в волнах и скрылся! Не успела Света попрощаться, как собеседница ее, назвав себя, исчезла в прибое гудков. Свете оставалось теперь только «призадуматься»: так что же все–таки произошло с ней – на самом деле?
Сначала, испугавшись звонка (весь январь она вздрагивала от каждого звонка, периодически отключая телефон), Света решила было, что это Игорь через вторые–третьи руки продолжает свою призрачную миссию спасителя. Но подводное царство «рыбки» располагалось чересчур далеко от Игоревых золотых иноземных кущ. Светина Рыбка была абсолютно русской, и Фирма ее имела профиль чисто русский. Какой – Света так и не решилась уточнить, поскольку во время разговора у нее выработалось твердое убеждение в том, что Рыбка и сама не осмеливается определить его поточнее. Будто бы из суеверия, будто бы названный и очерченный, мог он вдруг растаять по мановению волшебной палочки (той же, что вызвала его к жизни), представительница загадочной фирмы обходила – оплывала – Светины наивные и, по–видимому, забавлявшие ее вопросы.
«Торговля? Производство? Может быть, аудит?..»
(Произнося экзотическое слово, Света аукнула, запнувшись. Послышался сдержанный смешок: это булькнула Рыбка, выпуская из жабр кислород.)
«Самым интересным тут, – думала Света, записывая сказочный телефон на прошлогодней трамвайной карточке (ярко–синей, цвета морских глубин), – является совпадение наших с ней имен. Я уж не говорю о фамилиях. Светлана Петровна Ковалева, очень приятно! Если бы не моя закаленная нервная система и не легкое смещение фамильного корня в сторону братской украинской почвы, я бы, грешным делом, заподозрила, что у меня начинается раздвоение личности и что я сама себе позвонила с предложением записаться наконец миллионером. А то, говорят, деньги кончаются и есть риск опоздать. Ведь все по записи, Светлана Петровна! По–прежнему все по записи. Так и запишем. Что же касается вашей романтической истории о внезапно вспыхнувшей симпатии ко мне как автору неизъяснимо трогательного объявления, то позвольте мне усомниться в вас. Самую чуточку и в пределах приличия. Не более чем позволено в хорошем обществе, то есть не более чем сомневаюсь я в себе самой, Светлана вы Петровна, дорогая!»
Остаток вечера и часть ночи, бессонной, но легкой и короткой, несмотря на полнолуние, сминающее шторы и веки, Света провела над разрешением взволновавшей ее ум загадки. Она точно перелистала за ночь с десяток сто раз читанных и столько же раз забытых детективов. Это было скучное, но полезное занятие. К утру она была вознаграждена за терпение быстрым, глубоким сном и… сразу по пробуждении, на втором или третьем звонке… слава богу, будильника, не телефона! – ошеломляющим по совершеннейшим его простоте и очевидности открытием. Вчера в восемь вечера ей позвонила и говорила с ней не Золотая Рыбка, а – и это так же просто, как перевернуть страницу! как снять перчатку! – Норковая Шубка!
Норковая Шубка, и никто другой! Последние сомнения улетучиваются (уплывают!), стоит лишь вспомнить ее прощальные слова. Таинственная (ах, уже не таинственная!) незнакомка (то есть вполне знакомая) сказала: «До скорого свидания». Только слепой не усмотрел бы тут намека на то, что, возможно, они опять встретятся завтрашним утром (уже сегодняшним!) на трамвайной остановке, и Свете, если ей при этом еще будет интересно, ничто не помешает вывести Шубку на чистую воду. То есть Рыбку.
В это утро Света шла к остановке нога за ногу, а завидев трамвай, нарочно еще замедлила шаг. «Кому надо, дождется», – подумала она чужими, где–то вычитанными словами. Однако на остановке никого не было. «Починили «мерседес»”, – так объяснила себе Света отсутствие попутчицы. Другое объяснение не приходило ей в голову или, может быть, придя, не задерживалось там. Светина способность мыслить аналитически истощилась прошедшей ночью. Между тем настроение ее продолжало оставаться на том же, что и вчера, приятно–высоком градусе. Даже пятнадцать минут топтания на остановке бессильны были испортить его.
Трамвай пришел одновагонным. У метро его брали штурмом. Света, взяв на колени чужого ребенка (встать и уступить место она не могла при данной плотности колыхавшейся над ней толпы), скоротала дорогу в мыслях о быстротечности и невесомости времени, в котором жила она несколько поневоле, но если отвлечься от своего, а ребенок, всхрапнув, притихнет наконец, уткнувшись лбом в стекло, то жила не столь уж долго, чтобы жаловаться на перемены, которые для времени суть не что иное, как рефлекторные перемены позы для онемевшего тела: вынужденные сокращения мускулов рук, ног, шеи, а также лицевых, самых упрямых, мускулов.
Она не заметила, как опустел трамвай. Было уже светло. Оттепель, державшаяся неделю, сдалась, и великолепные мощные сосульки свисали с карнизов, угрожая безопасности пешеходов. Тротуары были залиты льдом. Дворники не успели или не пожелали сколоть его. Солнце невидимкой бродило за легкими тучами. Мороз набирал силу. Хотелось жить. Остро и опасливо хотелось жить в этом блещущем мире, не уточняя: «А долго ли?», не спросясь: «Кем?»
Света увидела Сережу и побежала ему наперерез, приветственно размахивая руками. Он поджидал ее, наклонив голову к плечу.
– Как дела? – поинтересовался Сережа, улыбнувшись в ответ на ее: «Вот хорошо, что я вас встретила!»
– Что с алмазом?
– Вы себе не представляете, Сереженька! Тут такие дела… Не знаю, что и делать. Вот хоть вы мне посоветуйте…
– Я – запросто! – сказал учитель физкультуры. – Все что угодно. Только спросите.
* * *
– Так вы думаете, вас заманивают в ловушку? – продолжил Сережа разговор, не законченный утром. – Вам с маком или с повидлом?..
Булочки в школьной столовой пекли вкусные, в отличие от всего прочего, чем, невзирая на качество, от души лакомилась Света, оголодавшая за неделю полного безденежья.
– Гуляем, Светлана Петровна! – хмуро веселился учитель физкультуры, покачиваясь на стуле.
Им только что выдали зарплату. Сережа опять платил за ее обед. Она согласилась, сердясь, только потому, что иначе он отказывался принимать от нее десятку в уплату недавнего долга. «Если так пойдет дальше, придется, увы, отменить обеды в столовой. Да, жаль – очень вкусно», – посетовала Света и выбрала булочку с маком.
– Я не думаю, а подозреваю. Зачем я ей сдалась: слишком интеллигентная и не слишком молодая?
(Учитель изобразил упрек всем выражением лица и энергичным движением кисти.)
– …В общем, не юная. Кстати, она ничего не сказала про возрастной ценз. Даже не спросила о возрасте. Правда, у меня детский голос… Вы заметили?
– Не сказал бы.
– Ну, хоть – интеллигентный?
– Есть немножко. А объявление вы написали без ошибок? Ах, да, я же читал…
– ???
– Полюбопытствовал вчера. Очень милое объявление. Сразу видно, что составлено честным человеком… Между прочим, его уже сорвали. У метро теперь следят за этим.
– При чем тут честность! Сорвали? И на моей остановке двух дней не провисело…
– Будете подклеивать?
– Но теперь–то… Вы не поняли, что ли, Сережа? Теперь–то зачем? Все, по–моему, ясно. Она клюнула.
– М–да–а. Воображение у вас, Светлана Петровна… Вам так не терпится избавиться от богатства, что у простого человека душа радуется глядеть.
С этими словами учитель поднялся, извинился и покинул Свету, оставшуюся доедать булочку с маком. Света немножко обиделась на него. Ей показалось, что он не верит ни одному ее слову. «Тоже и он мог позвонить другим голосом. Подучить сестру или любовницу. Есть у него любовница? Если есть, так скоро бросит его. Если только он не бросит нашу с ним глохнущую ниву народного образования. Еще пять таких совместных обедов, еще каких–нибудь десять булочек с маком, и от его зарплаты ничего не останется. Теперь что касается честности…»
………………….
– А что касается честности, – подмигнул учитель физкультуры, столкнувшись со Светой на площадке между вторым и третьим этажами (он гнал первоклассников вверх по лестнице прыжками на одной ножке, сам продвигаясь тем же манером – ловко и упруго, призывно отвернув голову назад к детям), – прижмитесь к стеночке, Светлана Петровна, заденут! По поводу честности я тоже давно ломаю голову… – Он почесал плешивую крепкую голову и снова подмигнул, но уже не Свете, а историку Самуилу Ароновичу, спускавшемуся в учительскую и тоже вынужденному «прижаться к стеночке», уступая дорогу армаде попарно скачущих, запыхавшихся детей, – и прихожу к выводу, что честность скоро должна опять подняться в цене. Вы согласны, Самуил Аронович?
– Без сомнения! – подтвердил историк. – Честные грамотные люди всегда были нужны России. А нынче тем паче!
Учитель физкультуры хлопнул в ладоши. Дети встали на обе ноги и помчались вверх короткой змейкой. Последний мальчик был без пары, он зазевался и отстал, продолжая прыгать на одной ножке. Света рассмеялась, глядя на него: «оторвавшийся хвостик». Мальчик поднял голову, перешел на бег, снял руку с перил и исчез из виду.
– Самуил Аронович, – попросила Светлана Петровна, – можно, я посижу у вас на уроке? У меня окно.
– Буду рад, Светочка, буду рад! Но поторопимся – звонят!
* * *
Случайно или намеренно, навсегда или на время, вынужденно или своей охотой, но с утра вторника второй недели третьей четверти учебного года Шубка пропала. Нельзя сказать, чтобы Света пожалела о ней: жалеть было не о чем, вернее, не о ком, но, повинуясь инерции своих мыслей, она нет–нет да и вспоминала о бывшей попутчице, имевшей в ее воображении хорошие шансы вступить во владение алмазом.
Алмаз покоился в круглом саркофаге на подзеркальнике. По утрам Света не забывала проверять его материальность или, обращаясь к иным категориям, подкреплять его материальность ежеутренней процедурой осмотра, не будь которой, он (как категория) немедленно провалился бы из мира предметной реальности в не менее реальный, но ощутимо менее предметный мир воспоминаний. Поначалу Света делала это неохотно, через силу (как бы выполняя данное кому–то обещание), но вскоре утренний досмотр пудреницы вошел у нее в привычку и, можно сказать, обратился в ритуал, приятный, как всякое богатое внутренним значением действие, своей до автоматизма доведенной четкостью.
Правой рукой подкрашивая губы в полумраке прихожей, левой Света откидывала крышку пудреницы, нащупывала свой камень и вслепую пересчитывала его маленькие теплые грани. Потом, спрятав помаду в сумку, она вынимала его почти невидимым и подставляла под слабый лучик электрического света, проникавший из ванной. Она крутила это прозрачное зернышко между пальцами и катала его на ладони. Она подкидывала и ловила этот блестящий шарик. Она, если он падал и закатывался под трюмо, выметала его веником вместе с чистым, вероятно от древности, мусором (вроде крапинок конфетти, ровесниц ее юности) и снова крутила у глаз, удивляясь, что к нему совсем не пристает пыль. Она отдаляла и приближала его. Она примеряла его на безымянный палец и пробовала на зуб. Наконец, она рисовала им на зеркале загадочные вензели и расходящиеся спирали. Она нарочно не прилагала большой силы, царапая стекло, как будто надеялась, что он сплохует хотя бы на этот раз и тем посеет в ее душе сомнение в своем существовании.
Но алмаз существовал. Насквозь просвечивая, дробя луч и скрещивая его осколки, падая на пол с тихим, но твердым стуком или беззвучно полосуя стекло, он заявлял о своей природе тем настойчивее, чем дольше забавлялась им его новая странная хозяйка. Столь странная, что, в десятый или даже в двадцатый раз выдохнув восхищенное «ах!», она с неизменной плебейской небрежностью роняла камень на дно дешевой, грубо раскрашенной пудреницы, вместо того чтобы поскорее подыскать достойный его несокрушимых, до нуля истонченных ребер бархат, настоящий бархат, а не этот голый и холодный, поддельный бархат тьмы, где суждено было ему отныне проводить долгие часы в ожидании утра.
«Полно! – воскликнула Света однажды утром. – Да драгоценный ли?»
Прошло четыре недели с тех пор, как он попал к ней в руки. То ли от долгого соседства со скромными, демократичными украшениями, вместе с ним отбывавшими срок в темной пудренице, то ли оттого, что Света привыкла к нему, а может быть, просто прибыло дня, и в первый раз за туманную зиму она собиралась на работу не в желтых искусственных, а в серебряных живых сумерках утра, но камушек глядел на нее с выражением простым и дружелюбным и просился из щепоти обратно в пудреницу – туда, к брошке, цепочке и мельхиоровому колечку с сердоликом.
«Нет! – возмутилась Света. – Надо как–то с ним решать. Еще немного, и мы начнем разговаривать, как в сказке Андерсена. Что–нибудь такое: алмаз влюбился в сердолик и сам захотел быть сердоликом. И вышел из него не сердолик и не алмаз, а… Настоящий хризопраз из семейства хризолитов!»
Стукнув крышкой пудреницы, щелкнув замком, хлопнув дверью парадной, Света побежала к остановке, думая о том, что теперь, когда ей прибавили зарплату, она, пока опять не раскрутилась инфляция, немножко стихшая в начале года, может позволить себе пользоваться метро. Во всяком случае, она может посмотреть, что из этого выйдет. Уж очень надоел ей трамвай. На линии шли ремонтные работы. Трамваи пускали только в утреннее и вечернее время, а днем закрывали линию. Окрестные старухи, прежде совершавшие свои разъезды без участия Светы, повадились сопровождать ее плотным эскортом каждое утро будней. Ей приходилось всю дорогу стоять.
Поразмыслив, Света решительно, работая плечами и локтями, пробила себе ход во встречной толпе, заливающей вагон, и выскочила из трамвая – он уж тронулся – через неплотно закрытую дверь.
* * *
Был уже февраль – сухой и бесснежный, не зимний и не весенний, а какой–то увечный (по короткости своей, всегда изумлявшей Свету, пережившую нескончаемый январь). Ночи стояли ясные, морозные; после январского ненастья Свете радостно было глядеть на звезды, как на рассыпанные по небу светлые камушки, выкатившиеся из опрокинутой шкатулки. К началу февраля Луна, истаяв до тонкого, но крепкого, будто кованого, ломтика света, уже не заливала комнату приливными волнами; яркий колышек февральской Венеры, вокруг которого гулял на привязи ручной месяц, приветливо качался, позванивая, когда Света, проснувшись перед ночью, выходила во двор подышать воздухом. Для отвода глаз она брала с собой пустое мусорное ведро. Самой Светы почти не было видно, а ведро белело в темноте, как большая тусклая Луна – Луна–бродяга, Луна–неудачница, сбежавшая на Землю после ссоры с родней и теперь шатающаяся по двору кругами в тоске по наследству, из глупой гордости не прихваченному с небес.
В феврале Света обманула бессонницу. Придя с работы, она ужинала хлебом и сыром и сразу ложилась в постель. Сон слетал быстрый, легкий – целебный сон. Стоило голове коснуться подушки, сами собой закрывались глаза, и под веками возникал длинный, наклонный вдаль коридор, а по нему катился и, казалось, никогда не докатится: ведь конца у коридора не было, но каким–то чудом докатывался одинокий шар, обрывавшийся беззвучно в невидимую за далью бездну.
Проснувшись, Света пила чай со сладким сухарем, немножко сидела над тетрадями, пропуская две ошибки из трех, и, чувствуя, что бодрости ее не убавилось, принималась за чтение. Как хорошо читалось ей по ночам! В точности так, как читалось в детстве: на скоростях, «с ветерком», со стремительным хрустом переворачиваемых страниц, сопровождаемым хрустом сухарей или дешевых черствых конфет, «со смаком», со вкусом тающего за щекой куска, с жадностью и без разбору, наперегонки с ночными, украденными часами! Так же, как в детстве, сыпались в книгу сладкие крошки и склевывались машинально указательным пальцем; и средний палец, всегда наготове, точно так же торопился перелистнуть – перестелить! – самобранную скатерть для нового пиршества.
О, как сладко, как бессовестно расточительно читалось ей в феврале!
И книгу выбирала себе Света на тот, тридцатилетней выдержки, вкус. Так, заев «Следопыта» килограммом «ванильных», в ту же ночь ополовинила она над «Маугли» коробку «лимонных», чтобы на следующую ночь в один присест слопать с соевой плиткой «Русалочку». Детские книги, в особенности же «Сказки» Андерсена, распухли от пролитых над ними слез. Листы их, пересыпанные крошками, уже давно приобрели хрупкость фарфора, а сейчас, казалось, готовы были раскрошиться под Светиными пальцами, как цветы маленькой Иды, не пережившие бальной ночи, с почетом похороненные наутро в ее крошечном садике.
Под утро, опустив книжку на пол, Света погружалась на часок в другой, взрослый, сон. Он был тяжел, и она уставала от него, и звон старого охрипшего будильника звучал ей спасительной музыкой. Да, он был чрезвычайно приятен, этот жестяной, симпатичный звон! Слушая его, Света улыбалась спокойной улыбкой человека, уверенного, что вставать утром необходимо, и, более того, знающего, зачем нужно вставать каждое утро. Все обыденные, повторяющиеся ежеутренне действия, вроде умывания, чистки зубов, варки яйца всмятку, закалывания волос, подкрашивания губ и проверки алмаза, в феврале приобрели в Светиных глазах какой–то особенный смысл. Этот особенный, добавочный смысл придавал утреннему ритуалу особую устойчивость, а приятное однообразие сменяющих друг друга утр делало легкой каждую Светину мысль и быстрым каждое движение. Словно бы Светина жизнь, бывшая долго неловкой, неуклюжей ученицей в танцевальной школе для начинающих, дурнушкой без пары в кругу вальсирующих (помнится, все кружилась посередине зала, чуть приподняв пустое объятие), поймала вдруг четкий, повелительный ритм и ощутила на талии руку, невидимую для всех, но как удивились они, когда, не поломав строя, она вошла–таки в их круг и затанцевала в этом новом, февральском ритме, разворачивающем ее, послушную и чуткую, то вправо, то влево, то к утру, то к ночи, по широкому кругу начавшегося года, под разбитой четвертинкой лунного диска, под холодным лучащимся солнцем, под сводами подземного зала метро, куда добиралась она пешком, экономя на трамвае, забыв в одно из счастливых своих утр, что «свиная кожа остается», когда «позолота вся сотрется», только в сказках, а в действительности, заполнившей лунной пылью трещины и ямы тротуаров, обувь ее… Обувь…