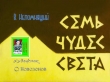Текст книги "Мизери"
Автор книги: Галина Докса
Жанры:
Прочая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
RUSSIAN PRESENT, PAST (3)
(РУССКОЕ НАСТОЯЩЕЕ, ПРОШЕДШЕЕ)
Вокруг чего крутится общий разговор на большой перемене в учительской?
Разговор в учительской, как в любом исключительно женском обществе, вертится вокруг магазинов. И как в любом русском, по преимуществу, обществе (молодой учитель из Канады, только сегодня поступивший в распоряжение школьной администрации, ни слова не понимает по–русски и по этой причине не принимает участия в беседе за чашкой чая; отпив глоток из общественного стакана, он ставит стакан на жостовский поднос и отходит к окну), как во всякой русской компании, числом поболее трех, в этой – учительской, женской – имеется пара–тройка пессимистов, из них один умеренный, а другой (другая) – махровый, и один–два оптимиста, говорящих редко, но метко, то есть с риском навлечь на себя потоки едких насмешек, ибо ничто так не раздражает общество раздраженных и озлобленных русских, как проявление, пусть в самой невинной форме, пресловутого «телячьего» и тем самым обреченного на убой оптимизма. Насчитывается, как везде, и несколько наблюдателей, не участвующих в беседе, но имеющих, что сказать, что и выскажут они в другом месте, более подходящем для их высказываний, нежели учительская гимназии, куда забежала Света на минутку – взять журнал…
Однако пришлось задержаться: директор вызвала ее к себе «побеседовать».
Пока Света медленно и неохотно идет, лавируя между креслами, к кабинету директора (примерно догадываясь, о чем ее будут просить, точнее, чего от нее собираются потребовать), она слышит полный оптимизма, бодрый старческий голос, который напоминает собравшимся, как страшно все было в эвакуации на Волге, и потом в Ленинграде до послевоенной отмены карточек, и в начале тридцатых… – и что же?
«Все пережили, перемоглись, товарищи», – говорит учительница труда, как видно, смущаясь, потому что она новенькая и чуть не самая старшая из присутствующих.
Нет, старше всех здесь историк Самуил Аронович – он сидит в углу за тетрадями, и он не в счет, как и молодой канадец, расположившийся на широком подоконнике.
Света закрывает дверь и садится к директорскому столу. Сейчас ей предложат классное руководство в седьмом «А», и предложат так, что она не сможет отказаться. Даже должна будет поблагодарить. Да, конечно, это просто формальность. Конечно, забот, по существу, никаких. Пионерская организация распалась. Сборы, «уроки мужества», «красные следопыты», тимуровская работа – ничего этого больше не надо. Что надо? Поговорите с Тамарой Федоровной. У нее большой опыт, она ведет седьмой «Б», очень, кстати, трудный класс («Одни блатные», – расшифровывает Света, ловя паузу, куда сможет она вставить свое «хорошо»)… Дисциплина, классный час раз в неделю, успеваемость… Родительские собрания и…
– Минимальная ответственность, Светлана Петровна! Ну как?..
– …
– Отлично! Я думаю, дети обрадуются. Они к вам, без лести скажу, очень неплохо относятся. Каким у вас уроком седьмой «А»? Ага… Я сегодня же зайду, представлю вас. А по поводу перегрузок вы не волнуйтесь. Вопрос с заменой Инги и Таечки решился сам собой. Вы уже видели этого канадского стажера? Детям несказанно повезло. Им в наших условиях так не хватает разговорной практики! Я уверена, вы с ним сработаетесь. Поможете немножко поначалу, учебник растолкуете… Какая миленькая кофточка на вас… Турция?
– Не знаю, – извиняется Света и выходит.
На душе у нее премерзко. Она ненавидит себя, директора, седьмой «А» в полном составе, не исключая Письмана, преподавательский коллектив, собравшийся на большой перемене в учительской, и лопоухого стажера из Канады, которому она обязана растолковать учебник (учебники!), – всех ненавидит она, но более всех себя, никчемную и трусливую, беспомощную и сдавшуюся, вечно обиженную, вечно извиняющуюся, битую…
«Как эта дурочка, ведущая домоводство… Девочка–старушка… Вон сидит, губы дрожат… Эк на нее набросились с трех сторон! Сейчас расстреляют по полной пятьдесят четвертой за распространение воспоминаний, порочащих… Как, однако, им не жаль бабулю… Как будто бабуля виновата, что рано родилась и поздно поумнела… Ишь, Валерия разошлась, пенсией попрекает, а самой до пенсии… Сколько Валерии до пенсии? А черт ее знает… И все же как мне надоело…»
– Валерия Викторовна! – примирительно вступает в разговор беременная Таечка. – Ну что нам считаться доходами! Всем трудно…
– Всем? – взвивается Валерия, бросая обескураженную атакой учительницу труда и поворачиваясь к Таисии.
– Я имею в виду – нам всем, учительской братии, – заранее сдавшись, поправляется Таечка, и Света усмехается, отметив, как нелепо звучит это – «братия» – в их монастырско–сестринской «обители».
– Вы–то хоть можете подрабатывать уроками… – немножко стихает Валерия, шумно откусывая бублик с маком и запивая его кефиром.
«Ага, а сама кефирчик пьет, а он ведь сейчас золотой», – зло подмечает Света, но вовремя вспоминает, что у несчастной Валерии больной желудок и что она работает из последнего, а в старые времена давно б ушла на инвалидность.
– Английский–то нынче в цене… – продолжает ворчать Валерия.
– Да когда мне? – махнув рукой у живота, перебивает ее Таечка и подзывает жестом учителя из Канады, который мнется от неловкости, не понимая, что происходит: возможно, коммунистическое собрание и вокруг коммунисты, но ему говорили, и он читал, что коммунисты в подполье, так почему они кричат, эти русские женщины, одна другой красивее, а особенно беременная… это он ее должен заменить с понедельника? Как интересно…
Сказав канадцу пару слов по–английски, Тая покидает учительскую. Юноша подходит к Свете, кланяется и начинает разговор, отдельный от общего, опять возобновившегося с подачи умеренной пессимистки, учительницы информатики, муж которой, кажется, неплохо зарабатывает.
«Да, программист по договору, работает без выходных, но зато отпуск они провели в Испании, и, скажу вам по совести, Ирочка, что–то в этом есть: не пить, не есть, но две недели – в Испании, а? Как это по–русски!» – ловит Света шепот Валерии, адресованный уху учительницы биологии, и переключается на английский.
У канадца отвратительное произношение. Света не понимает ни слова. Ей стыдно. Она беспомощно оглядывается. Самуил Аронович, оторвавшись от тетрадей, сочувственно смотрит на нее.
– По–моему, Светочка, – вполголоса говорит историк, – юноша просит позволения поприсутствовать на вашем уроке. У него такая яркая жестикуляция, что понятно без слов.
«Милый, милый Самуил Аронович!» – думает Света и чуть не плачет от умиления. Что–то творится в ней с самого утра. Ее бросает из одной крайности в другую. Чувства ее, несомненно, поддельные, не ее, не по ее прихоти испытываемые чувства, сражаются в ней, вооружившись дубинами, падают и уступают место следующим, столь же недолговечным, столь же обреченным исчезновению, как и предшественники их, слепо вертящие дубинками, разящие пустоту, бестолковые, обессиленные…
«Милый, люблю, милый, люб–лю… Люблю Самуила Ароновича! – громко кричит Света, разгоняя всех. – Люблю одного Самуила Ароновича, и никого больше».
– Самуил Аронович, – шепчет Света, наклоняясь к нему, – можно мне посидеть у вас на уроке? У меня окно…
– Ну разумеется, буду рад! Вы желанный гость на моих уроках. Кстати, сегодня у меня в десятом интересная лекция – реформы царствования Александра Второго. Весьма любопытно и весьма – вы согласны? – актуально.
Света согласна с историком. Ей не в первый раз, а в эту минуту со всей несомненностью представилось, что реформы Александра Второго имеют ко всему происходящему с ней самое прямое касательство. И от этой великолепной, обезоруживающе ясной догадки настроение ее, колебавшееся у нуля зловредной неверной шкалы, подскакивает вверх, зашкаливает и выталкивает наружу слабую улыбку, которая достается Дэвиду Смиту, двадцатилетнему мальчику из Торонто, прилетевшему в Петербург вчерашним вечером, но уже успевшему отправить открытку Бэкки Смит, сестре, студентке колледжа: «Россия – прекрасная страна. Русские женщины очень красивы».
* * *
Самуил Аронович преподает историю в школе с сорок седьмого года. На его памяти сменилось пять директоров и три поколения учителей. Сколько учебных программ сменилось на его памяти, он не считал, так как всегда старался учить не по программе, а «чтоб дети не скучали». И дети не скучали на его уроках даже в тех случаях, когда сам учитель скучал, растолковывая им основы исторического материализма и обществоведения – странной науки с хорошим русским названием. Предмет этот изучался в старших классах вплоть до конца восьмидесятых, и именно поэтому Самуил Аронович всю жизнь (исключая последние годы) предпочитал вести свой предмет в младших и средних: он не любил период новейшей истории человечества, да и новая история с ее буржуазными революциями и колониальными захватами страшила его многообразием примеров, долженствующих продемонстрировать всесилие методов исторического материализма, каковые методы были самым слабым местом своеобразной педагогической системы учителя.
Администрация, надо отдать ей должное, шла навстречу ветерану школы, и он мог с гордостью назвать несколько имен своих учеников, заслуживших в разные годы ученые степени в области советской исторической науки, периферийного ее раздела, исследующего закономерности развития ранних добуржуазных формаций общества.
Как никто умел Самуил Аронович описать быт и нравы народов средневековой Германии, Англии, Франции и Италии. Никто, кроме него, не мог бы рассказом о подвиге Жанны д’Арк очаровать двенадцатилетних пионеров, живших в самой счастливой на свете, немного слишком счастливой и отчасти скучноватой державе, столь глубоко, что целый год, помнится, дети двух его шестых классов играли во дворе не в «вышибалы» и «Али – Баба, поди сюда!», а в Столетнюю войну.
Неподражаем был Самуил Аронович, повествующий о неравной борьбе ученых–гуманистов с папской инквизицией, борьбе, закончившейся полной победой разума, как и должно быть, дети.
«Ибо разум всегда побеждает в итоге», – любил повторять Самуил Аронович, заканчивая урок, весело поглядывая на учеников поверх очков в роговой оправе, которые носил он не оттого, что плохо видел (зрение стало подводить его лишь после семидесяти, и он вставил тогда оптические стекла в старую оправу), а чтобы скрыть протез, заменявший ему правый глаз, потерянный на войне.
Он успел повоевать, однако никогда не вспоминал о фронтовой поре, как никогда не вспоминал о пяти годах – с сорок девятого по пятьдесят четвертый, – проведенных в лагере, откуда вернулся в эту школу, чтобы преподавать в ней историю сорок следующих лет.
За сорок лет работы Самуил Аронович не взял ни одного больничного. Он пережил пять директоров и три поколения педагогов. Тридцать пять лет он преподавал историю в младших классах. В последние годы, удивляясь сам себе, сначала робко, потом, когда школу преобразовали в гимназию и предписали предметникам–гуманитариям проявлять самостоятельность в толковании учебного материала (что под этим подразумевалось, оставалось тайной для всех), сначала робко, взяв для пробы один выпускной класс, потом смелее, охотнее, и, наконец, войдя в полную силу и как бы сбросив с плеч двадцать пять веков ранней истории, он отдал младшие классы молоденькой учительнице (бывшей своей ученице) и повел курс Новой и Новейшей Русской Истории, курс, по которому не существовало учебников, изданных в современной орфографии, курс, который создавал он на ходу, в страшной спешке, не считаясь ни с уровнем своих учеников, ни с уровнем своих представлений, ни даже с опытом своим – ненужным, мешающим, как сознавал он теперь, на закате жизни, но чувствуя прилив такой молодости, как будто… Будто века, текшие в нем вместе со старой его еврейской кровью – от пустыни египетской – по камням разрушенного Иерусалима – по дорогам Испании, Фландрии, Германии, Польши, России, – будто века эти, струившиеся с мерным рокотом по расширенным жилам его, смешались, сорвались и понеслись, гремя на перекатах, к некой цели, невидимой ему, но радостно близкой, отчаянно возможной наконец, и ему казалось минутами (он пугался, но брал себя в руки и продолжал говорить, справляясь с конспектом), как сейчас, когда тихо вошла в класс, чуть опоздав, эта милая учительница английского, он был минутами уверен, что только он, он только из всех историков нового и новейшего времен точно знает, о чем нужно думать сейчас и о чем говорить, помня о близкой смерти, не считаясь с уровнем, не сомневаясь, не отступая.
Самуил Аронович был влюблен в русскую историю с юности. Только теперь, на склоне лет, ему отдавали ее во владение, и он бледнел от волнения, начиная урок, как в двадцать лет на балу в провинциальном университете, когда шел он пригласить Лиду на вальс, а высокий капитан в новенькой форме опередил его, но Лида отказала, дождалась его… Дождалась…
Дождалась.
Света прокралась вдоль стенки и села на заднюю парту рядом с усатеньким, длинноволосым юношей. Под волосами юноша прятал наушники плейера. Слабый ритмичный писк не мешал слушать. Света улыбнулась учителю, прервавшему рассказ и посмотревшему на нее так любовно, что она невольно прижала руки к груди и, привстав, поклонилась. Откашлявшись, учитель продолжил лекцию:
– Александр Второй получил прекрасное воспитание. Наставником его был известнейший поэт России, автор поэмы «Светлана», друг Пушкина, незаконный сын пленной турчанки и богатого русского помещика, гуманист по взглядам и патриот по духу Василий Андреевич Жуковский.
* * *
– Большое спасибо, Самуил Аронович! – поблагодарила Света учителя, задержавшись в кабинете после звонка. – Я завидую вашим ученикам. Нас так не учили…
– Время, Светлана Петровна, время! Спасибо времени…
Света вздыхает. Ей не хочется уходить из кабинета истории, где она чувствует себя школьницей–отличницей, любимицей этого умного старика, «интересующимсяребенком», на любой вопрос которого он готов дать ответ, не покривив душой. За порогом его кабинета Свету ждет взрослая жизнь, английский, урок в седьмом «А», канадский стажер и все прочее, неотвязное и неразрешимое, тоже носящее имя «времени», но не того, какому приносит благодарность Самуил Аронович, а такого, о каком нельзя думать дольше, чем требует того житейская необходимость, о каком некого спросить, какое невозможно знать лучше, чем на тройку с минусом…
Не то в кабинете истории, откуда не уйти Свете, и она мнется на пороге, прощаясь:
– Но можно мне задать вопрос?
– Ради бога.
– Правильно ли я поняла: роль царя в крестьянской реформе не так уж велика? Вы назвали столько имен… Реформа готовилась годы. Он лишь не мешал или разрешал.
– Иногда, Светочка, разрешить – значит совершить. На нем лежала ответственность. Эта реформа была для России настоящей революцией. Первой революцией. Бескровной. В общем, я полагаю с должным основанием, то была первая в мире бескровная революция сверху. И если б Россия пошла по пути… Но мы забегаем вперед. Я не готов говорить на затронутую вами тему.
– Вы думаете, если бы не взрыв на канале?..
– Не они, так другие. Не люди, так природа. Я фаталист, Светлана Петровна. Но Александра Второго мне лично очень жаль. Этот монарх мне симпатичен.
– И мне, – говорит Света.
Ей до слез жаль Александра Второго, лежащего на мартовском снегу в луже крови, в двух шагах от убитого мальчишки, к которому подошел он, выйдя из экипажа после неудачного взрыва первой бомбы, и тут последний в цепи, запасной… как его звали?.. приблизился, и метнул с высоты поднятых рук вторую под ноги себе и царю, и упал без крика, и так же беззвучно упал Александр… ему оторвало ногу… он жил несколько часов…
«Как странно, что Голливуд до сих пор не сделал фильм на этот потрясающий сюжет», – переключается Света, завидев Дэвида Смита, топчущегося в нерешительности у дверей ее класса. Дети носятся по коридору, задевая его.
– Входите, – говорит Света по–английски и распахивает дверь. – Добро пожаловать.
* * *
Дэвид Смит, стажер, любит детей. Он старший сын в большой семье и с детства привык к роли воспитателя. Он умеет заставить слушать себя, ничуть не повышая голоса. Ему легко быть учителем. Так легко, что, закончив летом учительский колледж, он не остался в Канаде, а решил начать свою профессиональную карьеру в какой–нибудьтрудной стране. Дэвид Смит считает (и так учил его отец): в начале пути человек должен проверить свою силу; человеку должно быть трудно в начале, и чем труднее, тем лучше для него. Первый доллар ты заработаешь в поту, после второго сменишь рубашку, остальные придут к тебе сами.
Ему предлагали Китай, и он хотел в Китай, но задержали похороны (осенью умер отец), группа уехала без него, и тогда он выбрал Россию. Россия легче Китая, считает Дэвид Смит, но, в общем, он доволен выбором: здесь непросто; русский язык плохо дается ему (в самолете он полистал самоучитель, но русские буквы–перевертыши не запоминались, что твои иероглифы); он совершенно одинок, не знает, как спросить дорогу, а в общежитии университета, куда его поселили, в кухне ползают по стенкам тараканы и за стеной его комнаты громкая музыка играла вчера до половины ночи. Есть также трудности, связанные со сменой временного пояса. Дэвид Смит доволен. Он смотрит весело на русскую учительницу английского языка, очень чисто и очень медленно объясняющую ему тему своего урока, и составляет мысленно текст письма, которое отошлет сегодня домой. Учительница выглядит грустной и усталой. Дэвид Смит хочет сказать ей, что она может идти отдыхать, что он сам проведет урок и что он понял тему достаточно хорошо, но отец учил его не торопиться заявлять себя с первых шагов, и Дэвид Смит внимательно выслушивает учительницу, кивая. Конечно, он прочтет ее учебник. Он прочтет его за одну ночь. Все равно музыка не даст ему спать. На следующей неделе его поселят на частной квартире. Хорошо бы жить в старой части Петербурга подальше от гимназии! Дэвид любит ходить пешком. Петербург хоть и грязный, но очень красивый город. По совести, Дэвид Смит, стажер, никогда не видел такого красивого города. Он, Дэвид Смит, в первый раз в Европе…
Звенит звонок. Русские дети входят, не поздоровавшись, и рассаживаются по трое за партой. Одна только парта у окна почти свободна. Там сидит маленькая девочка с толстой косой через плечо. Учительница представляет Дэвида Смита по–английски и по–русски, извиняется перед ним на будущее в том, что она проведет урок в основном пользуясь русским языком, поскольку дети не владеют разговорным английским, и указывает на место рядом с маленькой девочкой.
По классу пробегает шепот. В этом шепоте Дэвиду Смиту слышится одобрение. Он знает, что понравился детям. Иначе быть не могло, ведь Дэвид Смит любит детей.
– Hello14, – кивает Дэвид девочке и садится боком, потому что его длинные ноги не помещаются под партой.
Начинается урок.
* * *
Света обегает взглядом свой класс. Во взгляде ее тоска. Половину детей она знает по именам, другую ей предстоит узнать. Она уже решила, что отдаст знакомую половину канадцу, а Ингиных, в том числе Свету Тищенко, оставит себе.
Света Тищенко уставилась в окно с выражением лица, которое пугает Светлану Петровну. Но, кажется, все нормально, все спокойно, только не надо переживать из–за мелочей, в конце концов, у ребенка может быть несварение. Школьные обеды отвратительны. Сегодня опять давали тушеную кислую капусту со вчерашними сосисками…
«Да, Ингину группу придется взять себе, иначе какое же классное руководство… надо задержать их после уроков… директор обещала зайти…»
Света никак не может начать урок.
«Ну, что там у меня? Повторение пройденного…»
Она ловит послушный, знакомый взгляд Письмана и ныряет в урок, как в холодную воду. В ледяную воду: кожа мигом покрывается пупырышками.
– Достаньте тетради. Пять минут словарный диктант. Слева пишем английское слово, посредине транскрипция, справа перевод. Слава, следи за почерком! Не пытайся соединять буквы, все равно ничего не получится. Я порчу глаза, разбирая твои каракули!
Света диктует:
– Museum, palace, library…15
Дети пишут, заглядывая друг другу в тетради. Дэвид Смит листает учебник. Вот он оторвался от учебника. Повертел головой. Потянул носом воздух…
Светлана Петровна зябко передернула плечами и закрыла глаза.
– Закончили, дети! Быстро сдаем тетради. Ничего, кто сколько успел. Света Тищенко, Слава, Марина, соберите тетради!
Зеленые тетради вспархивают с парт и склеиваются в стопочки. Стопочки ложатся на учительский стол.
– Постой! – говорит учительница Свете, больно схватив ее за плечо. – Останься здесь, сейчас будешь отвечать.
Девочка встает у доски, заложив руки в карманы длинной кофты. Светлана Петровна приоткрывает окно. На дворе оттепель. С крыши на карниз стекает веселая струйка и звенит, разбиваясь о жесть. Голубь, поднимаясь снизу, блещет крыльями на солнце. Света с трудом заставляет себя отвернуться от окна.
Девочка ждет, пошевеливая руками в глубоких карманах. От нее пахнет, пахнет, пахнет. Света молчит. Она ненавидит этого ребенка. Она ненавидит ребенка, стоящего перед ней, как никогда никого в жизни: «Господи!»
Она смотрит на девочку, и ей кажется, что взгляд ее пристален и строг, но взгляд умоляющ всего лишь, и она опускает его, мучаясь, и голосом, сдавленным тошнотой, спрашивает:
– Ты готова к диалогу?
– Да.
– Кого ты выбираешь себе в собеседники?
– Вас.
– Нет, ты должна выбрать из класса.
Света Тищенко молчит, смотрит в потолок.
– Кто хочет быть собеседником? – громко обращается Света к классу по–русски, потом по–английски: – Поднимите руки!
Класс недвижим. Света ведет пальцем по списку. Она бледна как полотно. Палец присох к букве «Б» и не двигается дальше. Еще минута – и она потеряет сознание.
Дэвид Смит поднимается с места и предлагает себя в собеседники. Он выглядит очень довольным. Он давно хотел вмешаться, но из вежливости медлил.
– Отлично! – восклицает Света. – Как удачно! И тема специально для вас – красоты Петербурга.
«Дотерпеть несколько секунд».
– Тищенко, начинай! – бросает Света девочке по–русски, а потом юноше – по–английски: – Я ненадолго выйду. Постарайтесь говорить помедленнее. Наши дети…
Не договорив, она выходит из класса.
«Что же это такое?» – тупо повторяет Света, глядя на свое отражение в зеркале уборной. В тусклом зеркале не различить морщин на лице, но она знает каждую, а вот эта, залегшая между бровей, видна и в сумерках: метка сосредоточенной угрюмой заботы, складка недоумения, трещина страха…
«Что же это такое?» – отбивается Света от мыслей, толкающихся в ней, как толпа пассажиров на выходе из вагона, толпа, закрутившая ее, не желающую выходить, цепляющуюся за спинки сидений, как за руки живых сильных людей, которые любят ее и знают, что нужно ей, без чего не прожить ей на свете: только остаться, пусть одной, пусть больше не будет остановок, остаться и ехать в этом трамвае – вечность, до смерти, вечность…
«Смерть, – усмехается Света, прищурившись на отражение в зеркале. – Настоящая смерть, и странно, но – очень, очень мила».
Она возвращается. Приближаясь по коридору к двери класса, она слышит раскаты детского смеха и перекрывающий их высокий, металлического оттенка, немножко искусственный, но удивительно приятный хохот канадского учителя. Она надевает улыбку и открывает дверь.
Дети смеются. Учитель стоит посредине класса и помахивает в воздухе высоко поднятой рукой. В руке его, выставленный на всеобщее обозрение, болтается красный мешочек величиной с детскую ладонь.
Учитель оглядывается на вошедшую Свету, протягивает ей мешочек и машет левой рукой в сторону Светы Тищенко, которая все стоит у доски и со скучающим видом смотрит в окно. Затем он слегка сдавливает мешочек и… Раздается странный, булькающий звук…
Детский смех взлетает под потолок…
Запах…
«Не надо!»
Света принимает злую игрушку из рук учителя и, повертев, прячет в ящик своего стола. Из всех присутствующих в классе лишь она и ее маленькая тезка не смеются, но этого достаточно для того, чтобы смех запнулся, упал и затих, закатившись в угол.
– Вы закончили диалог? – спрашивает Света девочку по–английски.
– О’кей, о’кей! – отвечает за нее учитель. – Очень карашо.
– Вы хотите сказать, девочка заслуживает высшего балла?
– Да, – подтверждает Дэвид Смит, слегка покраснев.
На самом деле диалог не успел развиться за время отсутствия учительницы. Но Дэвид Смит понимает, как должна быть рассержена она на ребенка, чья шалость… Эти русские, слышал Дэвид, так чопорны! Он сочувствует провинившейся девочке и, поняв без перевода учительское: «Останься после урока», крепко хлопает ее по плечу и подмигивает ей, как только удается встретиться с ней глазами. Но русская девочка есть русская девочка, поэтому Дэвид Смит не удивлен, что ему не подмигивают в ответ.
Света продолжает урок.
За пять минут до звонка появляется директор и объявляет детям, что с сегодняшнего дня Светлана Петровна становится их классным руководителем. Светлана Петровна переводит для стажера. Он поздравляет ее жестом.
«Похоже, он станет тут своим человеком», – думает Светлана Петровна, не испытывая ревности. Ей все равно. Так все равно, что предстоящий разговор со Светой Тищенко, на который долго не могла она решиться, ничуть не волнует ее.
«Ведь надо же с кем–то разговаривать, – объясняет себе Света очередной скачок в настроении. – Нельзя же дни напролет разговаривать самой с собой. Так и старушку убить недолго…»
Ухмыльнувшись своей литературной шутке, Света отпускает класс. Директор уводит Дэвида Смита. Дверь закрывается, топот и смех в коридоре стихают. Света усаживается на свое учительское место и минуты две отдыхает, не думая ни о чем. Вонючка сидит на задней парте, ковыряет в носу, ждет.
* * *
Светлана Петровна выдвигает ящик стола и долго смотрит на красный мешочек, брезгуя дотронуться до него. «Made in USA»16, – читает она вслух полустертую надпись.
– Откуда это у тебя? – строго спрашивает учительница и задвигает ящик. – Зачем ты носишь это в школу? Зачем настраиваешь ребят против себя? Неужели тебе самой не противно?
Маленькая Света молчит и не выглядит ни испуганной, ни смущенной.
– Отдайте, пожалуйста, – равнодушно просит она. – Я больше не буду.
– Понятно, что больше не будешь! А что ты принесешь завтра? Портативный унитаз? Давай, всем будет интересно взглянуть.
– Отдайте, я больше не буду, – со скукой, явно не слушая учительницу, тянет девочка.
– Игрушку я отдам твоим родителям. В понедельник после шести жду тебя здесь вместе с…
Светлана Петровна заглядывает в конец журнала, где записаны данные о родителях учеников. Она знает по своему недолгому опыту, как часто в графе «отец» бывает проставлено «нет», а по поводу мешочка и всего остального лучше было бы разговаривать не с матерью, а с отцом странного ребенка. Но тут все в порядке: мать художница, отец…
– Жду тебя с папой. Кем работает папа? Мне не разобрать…
– Мой папа – правозащитник! – вдруг оживившись и блеснув глазами, говорит девочка и прибавляет ехидно: – Он не может прийти.
– Что? – Светлана Петровна не поняла. – Он юрист? Очень занят?
– Он диссидент, – с какой–то недетской запальчивостью заявляет Света. – Он живет в Америке. Он…
– Ясно, – обрывает ее учительница. – Это… – Красный мешочек, мелькнув над столом, снова исчезает в ящике. – Это папин подарок?
Девочка молчит. Светлана Петровна видит: она обижена, что ей не дали договорить. Несомненно, девчушка любит отца и гордится отцом, приславшим или привезшим ей глупую безделку, вонь в пластиковой оболочке, «аленький цветочек» из заглохшего заморского сада развлечений. Обида эта возникла как брешь в прочной стене равнодушия, которой окружена Света Тищенко, странный ребенок с недетской повадкой, с недетским презрением смотрящий в упор на Светлану Петровну, Свету…
И Света облегченно вздыхает, встретив этот взгляд, полный презрения и обиды, потому что чувство болезненной жалости, которое ныло в ней, как больной зуб, вмиг исчезает и заменяется живым, сильным и неожиданно веселым чувством интереса к маленькой суровой воительнице с химической гранатой в кармане. Света прощает маленькой Свете минуты испуга и беспомощности, пережитые ею, случайно попавшей в зону атаки, – против кого? зачем? – и честно выдерживает примирительную паузу, висящую во взгляде ребенка; выдерживает и сам взгляд, который наконец опускается перед ней, скользит лениво вдоль парты… через проход… по подоконнику… и наконец устремляется за окно. Свете любопытно и весело. Она радуется и немножко волнуется. Ей непременно хочется разговорить девочку. Непременно сегодня, сейчас, пока ей – пока им, им обеим – не стало все равно, пока не наступил вечер, одинокий, долгий, мертвый, мертвый, как ее лицо, каким увидела она его полчаса назад в полумраке уборной, в мутном зеркале, искривленном паутиной трещин.
– Так и быть, – хитро улыбаясь, говорит учительница. – Я отдам тебе эту штуку, но ты должна объяснить мне, почему ты так не любишь своих одноклассников и… – Светлана Петровна подходит к Свете и садится на соседнюю парту, – и почему ты так не уважаешь учителей. А когда вернется папа…
– Он не вернется.
Света забирает у учительницы мешочек и прячет его в ранец.
– Почему? – не задумываясь, все с тем же выражением хитрой веселости в голосе спрашивает учительница.
– Потому что тут все дерьмо, – нехотя и вместе с тем с вызовом бросает Света. – Будто вы не знаете.
– Я не знаю, – честно удивляется большая Света. – Объясни, пожалуйста.
Светлане Петровне и в голову не приходит сделать замечание по поводу употребленного Светой грубого слова. Разговор, кажется, идет на равных. «Вот и отлично», – думает Света. «Ну и пусть!» – думает маленькая Света.
– Все! – повторяет девочка, глядя в окно. – Все, все, все!
* * *
– Это тебе папа сказал?
Света как–то нехорошо раздражена этим папой–правозащитником, до которого минуту назад ей не было никакого дела.
– Я сама знаю.
– Но что же ты знаешь? Скажи мне, будь добра!
– Все знают.
– Кто – все? Правозащитники? Кстати, чьи права защищает твой папа в Америке? Или он сменил профессию?
– Там никого не нужно защищать. Там правильные законы.
– А тут неправильные?
– Тут вообще никаких нет. А скоро будет еще хуже.
– Поэтому все должны немедля собрать чемоданы и лететь в Америку?
«А готовясь к отлету, скуки ради и в назидание потомкам подпустить, сколько сумеешь, вони из импортного пакетика, – мысленно добавляет Светлана Петровна и заговорщицки взглядывает на девочку. – Но как я рада, что тут у нас с тобой, ребенок, совершенно банальный, ординарный объект для спора! И никакой мистики! Никакой тебе детской психопатии и гастропатологии. Так продолжим?»