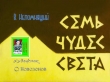Текст книги "Мизери"
Автор книги: Галина Докса
Жанры:
Прочая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
INFINITIVE – INFINITE MODAL FORM
(НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ ФОРМА —
БЕСКОНЕЧНОЕ ДОЛЖЕНСТВОВАНИЕ)
– Память – то, чем нельзя поделиться.
* * *
Когда Света опять пришла на канал, она вспомнила о девочке и поняла, что боится встретить ее. Но Верочка с бабушкой не появлялись, и Света возобновила свои музыкальные бега вдоль ограды. Бегать было гораздо скучнее, чем прежде, но Света заставила себя пробегать до обеда и после обеда вернулась и бегала, а потом ходила до самого вечера, поглядывая на противоположную сторону улицы и мешая прохожим, которых вечером много шло по набережной. И еще два дня Света бегала и ходила, барабаня палками, поглядывая на прохожих, пока наконец не увидела Верочку с бабушкой. На этот раз собаки с ними не было. Они приближались к Свете по противоположной стороне улицы. Верочка часто–часто взмахивала руками и вертела головкой, и издали казалось, что она оживленно жестикулирует, рассказывая бабушке занимательную историю. Света подхватила палки и побежала прочь от Верочки, громко стуча. Добежав до моста, она зло, со всей силы стукнула палкой по каменной тумбе, так, что палка сломалась. Света бросила палку, развернулась и помчалась обратно, навстречу Верочке, которая весело смотрела ей прямо в лицо и махала рукой, узнавая. Приблизившись, Света перешла на шаг и поздоровалась первая.
– Здравствуй! – сказала Верочка. – А мы были на даче. Ты тоже была на даче?
– Нет, – ответила Света. – Я тут была. А где Волк?
– Он остался на даче. Ему там лучше.
Когда Верочка говорила, руки у нее двигались медленнее, и она всегда улыбалась. «Наверное, чтобы не дрожало лицо», – догадалась Света и тоже стала улыбаться.
– Вы куда? – спросила она, как старая подружка.
– Просто гуляем, – радостно ответила Верочка. Бабушка молчала и смотрела в сторону. – До церкви и обратно. Хочешь с нами?
– Хочу, – сказала Света через силу, и они пошли втроем, разговаривая.
– У тебя есть кукла? – спросила Верочка и, потянувшись к сумке, болтавшейся в руках у бабушки, сказала: – Дай!
Бабушка молча вытащила немецкую куклу – новую, больше, чем у Светы, – и подала ее, но не внучке, а Свете, и Света сразу поняла, что Верочка не удержит куклу, и перехватила ее так, чтобы она повернулась лицом к Верочке. Поговорили о куклах. Света сбегала за своей и, пока бежала, ужасно радовалась, что кукла у нее старая, испорченная, гораздо хуже и некрасивее Верочкиной.
Болтая, они дошли до церкви. Вокруг церкви был маленький садик. Тут Верочкина бабушка посмотрела на Свету и в первый раз заговорила. «Побудьте тут, – строго, глядя не на внучку, а на Свету (и Света все понимала), сказала она. – Не шалите. От скамейки ни на шаг не отходите. Я вернусь через пятнадцать минут». – И бабушка пошла в церковь.
Она вернулась ровно через пятнадцать минут и застала девочек спорящими. Споря, Верочка чуть не плакала, а Света беспомощно смотрела на бабушку.
– Бабушка! – взмолилась Верочка. – Почему она не хочет?
– Что, Верочка?
– Я ей предлагаю меняться куклами, а Света не хочет!
Света молчала и краснела.
– Верочка, наверное, Света любит свою куклу. Не приставай.
– Но как ты не понимаешь! – Верочка горячилась, и от этого, как ни странно, дергающиеся, раздражающие движения ее рук делались более плавными и осмысленными.
– Как вы не понимаете! Ее Вера совершенно на нее не похожа, а моя Соня – вылитая ее копия. Смотри: глаза карие, волосы русые, прямые… А ее Вера светлая, как я, и глаза голубые… Все равно как если бы их подкинули в детстве, перепутали…
Верочка очень горячилась, сравнивая кукол, и старалась, демонстрируя сходство, точно указывать скрюченным пальчиком то на глаза, то на волосы, то на себя, то на Свету, но это удавалось ей плохо. Света чуть не плакала, но крепилась. Бабушка тихонько дернула Свету за руку и умоляюще взглянула на нее.
– Действительно, – сказала она, соглашаясь, – большое сходство. Конечно, надо меняться, Света.
Так Света с Верочкой поменялись куклами и подружились. С того дня они стали видеться каждый день. Дети быстро привыкают к странностям друг друга. Через несколько дней болезнь Верочки уже не казалась Свете такой ужасной. Она просто не замечала мелькания Верочкиных рук, как не замечаем мы мелькания весеннего солнечного света, вырывающегося из–за быстро бегущих по небу облаков. Играть в куклы Верочка совсем не умела, ей было трудно раздевать и одевать куклу, но Свете самой давно уж надоело играть в дочки–матери, и она с удовольствием согласилась с подружкой, что интереснее всего «говорить». А говорить с Верочкой в самом деле было очень интересно.
Они гуляли вдоль канала и разговаривали. Верочку не увозили на дачу, потому что она ходила «на процедуры». Верочка вечером занималась математикой. Она не училась в школе, но с ней занимался папа.
– А у меня нет папы, – не преминула вставить Света, которой хотелось, разговаривая с бедной Верочкой, выглядеть несчастнее и жальче, чем была она в жизни.
(Так, кроме папы, у Светы не было: телевизора, собаки, своей комнаты и красивой синтетической резинки на волосы, но о резинке лучше было промолчать, потому что Верочка тут же подарила Свете резинку, и отказаться нельзя было и думать, так как бабушка стояла рядом, пожимая Светину руку.)
– Твой папа умер? – сочувственно заглядывая в глаза, спросила Верочка.
– Погиб на войне, – небрежно, но довольно строго ответила Света, и бабушка с удивлением взглянула на нее, сразу отведя взгляд.
Света с Верочкой «играли» очень хорошо. Скоро бабушка сочла возможным оставлять их ненадолго одних, заходя в магазин. В отсутствие бабушки Верочка говорила еще веселее, хотя быть более веселой, чем была эта больная Верочка, казалось немыслимым. Она еще громче смеялась и еще плавнее двигала руками, когда оставалась одна со Светой.
О болезни ее девочки никогда не разговаривали. Ее как будто не существовало. Только однажды, когда Света в отсутствие бабушки, забывшись, подобрала с земли палку и машинально провела ею по прутьям оградки, Верочка замолчала и совсем другим голосом спросила:
– Как тебе больше нравится: бегом или медленно?
– Это ерунда, – быстро ответила Света и бросила палку. – Ничего интересного!
– Хочу попробовать, – тихо сказала Верочка и наклонилась за палкой, но взять не смогла.
Тут, на счастье, подоспела бабушка, и Верочка стала опять невозможно веселой.
В следующую бабушкину отлучку Верочка уговорила Свету дать ей попробовать поиграть с палкой. Света вложила палку ей в руку, но палка не держалась, выпадала из судорожно сжимающейся кисти. Тогда Света сжала Верочкин кулак сама вокруг палки и так, не отпуская, пошла с Верочкой вдоль решетки набережной: сначала медленно, нога за ногу, потом побыстрее.
– Попробуем бегом, – попросила Верочка, – а то у меня выходит какой–то похоронный марш.
Попробовали бегом. Бежать рядом с Верочкой, держа ее рвущуюся в стороны руку и тяжелую палку, было очень трудно, но Света согласна была бегать до вечера, потому что… Потому что вдруг, только они обогнули, замедлив бег, пятую на их пути гранитную тумбу ограды и палка, глухо прошуршав, застучала равномерно по прутьям новой железной октавы, Света почувствовала, как Верочкина рука, до того вырывающаяся, непослушная, замерла и вытянулась правильной дугой, так что Света инстинктивно на мгновение разжала пальцы, но палка не выпала, отпущенная, а продолжала это очень длинное мгновение бить по прутьям решетки. Приблизилась шестая тумба, и Света крепко сжала руку, не давая палке упасть. Верочка тяжело дышала. Они перешли на шаг.
– Лучше бегать по решетке церковного сада, – сказала Верочка, испытующе глядя на Свету.
Света не была уверена, что Верочка почувствовала то же своей непослушной рукой, о чем не могла теперь не думать она.
– Там я могла бы бежать долго, – сказала Верочка.
Они договорились, что завтра попросят бабушку пойти гулять в сад.
Всю ночь Света не спала и мечтала, как она вылечит Верочку, как станет врачом и вылечит всех таких больных, и Верочка даже сможет стать балериной, ведь она очень хорошенькая…
Света ничего не рассказывала маме о новой дружбе, как будто Верочка и ее бабушка, все случившееся и все, что должно случиться, находилось не тут, не в Ленинграде, неподалеку от их двора, а за тридевять земель, на необитаемом острове, где не было никого, кроме них. Все то происходило не в обыкновенной жизни, где главной была мама, пакующая посуду в коробки и гнавшая Свету днем во двор, чтоб не мешала, а в новой – едва обитаемой, чувствовала та новая Света, которую – она знала в точности – выбрали старшей, и от этого сердце сжималось в страхе и надежде и хотелось плакать.
Назавтра они отправились в садик при церкви. Бабушка пошла в церковь, а Света с Верочкой приблизились к ограде, овалом огибающей садик, и схватились вдвоем за палку. Теперь это был ровный, хорошо оструганный обломок швабренной ручки, который нашла Света на помойке и отмыла утром щеткой. Он еще не просох и холодил пальцы.
– На старт, внимание, марш! – скомандовала Света, и они побежали.
Прутья церковной ограды располагались свободнее, чем в решетке на набережной, поэтому бежать приходилось быстрее. Даже Света запыхалась, а Верочка хватала ртом воздух, но остановиться не хотела. Обежав полкруга, они обе поняли, что можно убрать Светину руку, и Света отпустила Верочку, продолжая бежать рядом и держа наготове руку, чтобы подхватить палку, если она выпадет. Но Верочка держала палку крепко, ровно; звук выходил у нее дробный, глубокий – и она добежала так до ворот ограды, а у ворот остановилась, выронила палку и жалобно посмотрела на Свету, подобравшую палку с земли. Губы и лицо у Верочки мелко дрожали, она вся вспотела, а руки ее снова принялись исполнять свой запутанный танец: бесконечный, неизлечимый, как говорил Верочкин взгляд, ищущий Светиного.
– У меня получилось, – грустно сказала Верочка. – Но только если бежать очень быстро. Я не могу бежать долго. Я задыхаюсь.
– Нет, можешь! – нарочно грубо и сурово сказала Света. – Будешь тренироваться. Ты же видишь!..
Света не договорила. Бабушка вышла из церкви и с подозрением посмотрела на них.
– Что с вами? – спросила бабушка. – Как будто поссорились?..
И Верочка стала тренироваться. Каждое утро ходили они к церкви, и Верочка научилась обманывать бабушку, чтобы подольше оставаться вдвоем со Светой. То она посылала бабушку за мороженым, то за куклой, капризно хныча, а Света отворачивалась, стыдясь бабушки. То говорила Верочка, что ей холодно, и просила принести кофту. От церкви до их дома было неблизко. Бабушка возвращалась не скоро и заставала Свету и Верочку прогуливающимися парочкой у ограды, с палкой в руках. Руки у Верочки ходили ходуном, но на лице сияла довольная улыбка, и бабушка благодарила Бога, что он послал им такую милую девочку, как Света, и как жаль, что они скоро должны переехать, но город – один, и пора уж позвать Свету в гости, вот – в воскресенье, когда наши вернутся с дачи…
К концу августа Верочка бегала быстрее Светы. На бегу она могла держать руки в полной неподвижности, если в каждой находилось по палке. Переходя на шаг, Верочка роняла палки, и руки возвращались к болезненной пляске, но, пока она бежала, не отрывая глаз от палок, палок от решетки, ее почти было не отличить от обыкновенной девчонки, такой же, как Света, которая бежала рядом по внутреннему кругу.
Да, Верочка бежала так похоже, что какая–то тетка, подойдя с улицы, стала ругать ее громко за то, что она балуется, «где люди молятся». Тогда Света перехватила у нее палки, и они пошли шагом.
– Завтра попробуешь без палок, – шепотом сказала Света, завидев возвращавшуюся бабушку.
– Без палок не смогу, – задыхаясь, прошептала Верочка и помахала бабушке рукой, а потом поправила косу и сунула руку в карман, но рука вырвалась, рванулась к Свете, схватилась за рукав Светиного платья, оторвалась, вернулась, царапнула Свету по шее, упала…
Света смотрела на приближавшуюся бабушку. Бабушка бежала к ним, обхватив голову руками, и кричала:
– Верочка! Верочка!
Света взглянула на Верочку. Та вся тряслась и била левой рукой по ограде. Губы ее были синего цвета. Вокруг рта расползалась треугольная тень. Верочка дернула руками раз, другой, сжала пальцы, как будто хотела обхватить ими палку – палки, – и упала тихо на траву, прямо к Светиным ногам, тоже дрожавшим.
…Лица врачей «скорой помощи» были каменными, как тумбы ограды. Они забрали неподвижную Верочку и бабушку, а Свету оставили. Света не знала, что ей теперь делать. В том, что Верочка умерла, она не могла сомневаться. О том, что она убила Верочку, думать было нельзя. Света рванулась было за «скорой», потом сказала: «Мама!», потом подобрала палки и пошла на набережную. Там она стала ходить туда–сюда, не выпуская палок, глядя на ворота Верочкиного дома, откуда, как она знала, никогда больше не выйдет Верочка. Она ходила до темноты и ходила бы всю ночь, если бы мать, рассерженная и испуганная, не нашла ее в полночь на набережной и не увела бы обратно в обыкновенный, счастливый и непомнящий мир, где предстояло Свете прожить всю жизнь и ни разу не попробовать поверить в то, что, может быть, все же Верочка не умерла?..
В воскресенье Света с мамой переехали на новую квартиру в северных новостройках Ленинграда. Света ни разу больше не навестила их старый двор. От детства остались ей мама да Верочкина кукла в белом кружевном платье, с русыми длинными волосами и коричневыми глазами. Да еще нелюбовь к черным большим собакам. Долго потом, издалека завидев черного лохматого пса, Света сворачивала с пути и шла в обход, не желая встречаться с прошлым. И этот страх прошлого остался в ней навсегда.
* * *
Света проснулась от вороньего гвалта. Пасмурное утро просачивалось сквозь шторы и растекалось по комнате. Просыпаясь в темноте, Света знала, что должна вскочить, позавтракать и бежать на трамвай. Темнота означала будни. Разбуженная воронами перед рассветом, в утренних комнатных сумерках Света могла долго оставаться в постели. Свет возвещал о субботе. Наступали выходные дни, и… «…И прожить их следует так, чтобы в понедельник не было мучительно горько… Ну, и так далее…»
Света рывком вытащила себя из–под одеяла и побрела на кухню, где на плите в открытой кастрюле пылилась обветренная, спресованная гречневая каша. «Не пропадать же добру», – сказала Света, принимаясь за кашу. Но, даже разогретая, каша не пролезала в горло, и Света вынесла ее на помойку вместе с мусором, накопившимся за две недели.
«Я не убирала квартиру с прошлого года, – констатировала Света, возвращаясь с ведром. – Очень жаль, что некому оценить мою бородатую остроту».
Позавтракав жареным хлебом, Света поставила себе «для настроения» пластинку с голосом Эдит Пиаф и взяла в руки веник. Но голос Пиаф – надтреснутый, истеричный – надрывал душу, и Света бросила веник, выключила проигрыватель и стала думать. Думать было очень трудно.
«Думать трудно», – подумала Света о гречневой каше, за которую, наверное, в эту минуту дрались вороны во дворе: так усилился их хор, что мысль о каше, воспоминание об этой мерзкой склеившейся каше долго нельзя было отогнать, а, возможно, думать о каше приходилось из–за чувства голода, которое, сама того не понимая, испытывала Света; но каша не одна на свете, клин не сошелся на каше, и можно бы подумать о другой еде, например…
«Например, вспомнить тот обед в ресторане и мой замечательный тогда аппетит. Например, это…»
* * *
– Выбирай, – сказал Игорь и протянул ей меню.
– Лучше ты. У меня глаза разбегаются.
Игорь заказал цыпленка под черносливом для нее и котлету по–киевски для себя. И бутылку красного вина, советского. «Из старых времен», – попробовала пошутить Света, но осеклась. Игорь был хмур и непонятен ей. Однако она пришла сюда праздновать и собиралась получить этот праздник во что бы то ни стало, пусть бы даже он стал ей поперек горла. Света подозвала официантку, попросила принести вазу и украсила ресторанный столик букетом, подаренным Игорем. Это были огромные белые хризантемы, неподвижные и тяжелые, будто гипсовые. «Будто на могилу», – стукнуло сердце, но уже несли цыпленка, котлету, вино, и Света приготовилась есть и нахваливать. «Все съем, до распоследней косточки, – сказала она себе, подцепляя вилкой размякшую черную ягоду. – Разжую, проглочу, скорлупки не оставлю!» Играла тихая музыка. Пары, отделенные одна от другой тонкими перегородками, сближали–отдаляли головы. Тройки, четверки и шестерки шумели в стороне за разновеликими столиками, расставленными по нечеткой, но плотной спирали. Над покачивающимися головами сидящих текучим рисунком стлался сигаретный дым. Света с преувеличенной жадностью грызла цыпленка. Игорь быстро покончил с котлетой и сидел молча, вертя в руке кусок хлеба, внимательно всматриваясь в него, как будто на нем была записана важная информация, требующая немедленной расшифровки. Света положила недоеденного цыпленка на тарелку, облизнула губы и наклонилась к Игорю:
– Здесь уютно.
– Черных многовато.
– Кавказцев?
Она изобразила легкий испуг, но Игорь был не расположен подыгрывать ей. Он молча подлил ей вина и принялся крошить хлеб на скатерти, сначала разделяя ломоть на крупные куски, потом на лохмотья помельче и каждую более мелкую крошку превращая в десять мельчайших. Он мог – Света знала – провести за этим занятием целый вечер.
– Что ты сам не выпьешь?
– Я за рулем.
– Боже мой, от вас ли слышу? А помнишь…
Света стала вспоминать вслух – торопливо и очень ненатурально, как если бы она была уверена, что Игорь не может помнить того, о чем она рассказывала. Но, заискивающе заглядывая ему в глаза и вставляя через слово «помнишь?», она знала, что он все же обязан помнить то, что помнила она, обязан – по существующему между ними тайному соглашению, срок действия которого истекал именно сегодня, вот–вот. Он обязан был слушать и как бы вспоминать или хотя бы кивать ей. Хоть раз он должен был кивнуть ей, оторвавшись от крошек, густым слоем засыпавших скатерть!
Она замолчала, отодвинула тарелку, перегнулась через стол и сильно дунула, тут же засмеявшись. Крошки разлетелись. Игорь украдкой посмотрел на часы. Но время было раннее, и Света попросила официанта принести ей коньяка. И мороженого. Она любила именно коньяк с мороженым. Она сама когда–то придумала этот букет, горько–сладкий, вяжущий в жару и согревающий в холод, если есть мороженое запивая его по ложечке коньяком в дешевой мороженице на три столика; дверь раскрыта на улицу, очередь, зима; ключи от чужой квартиры поднесут к метро через пятнадцать минут; снег заметает порог; сладкий холод тает на языке, свернутом чашечкой, хранящей последнюю каплю горячей горечи; тепло везде: в рукавах полушубка, в карманах, за шарфом у шеи, в ладонях–лодочках, в…
– Помнишь?
Игорь кивнул и взял еще коньяка. В зале сквозило. Света мерзла в открытом платье. Надо было послать его за платком, но она не могла. Она поняла, и больше не было сил сомневаться: у нее нет права послать его за платком. Тогда Света сощурила глаза, не спеша доела мороженое, допила коньяк, молча чокнувшись с вазой, пенившейся хризантемами, и начала тот единственный разговор, каждое слово которого помнилось ей теперь, по прошествии четырех месяцев, как будто он повторялся ежевечерне все сто с лишним дней этих месяцев и каждый такой вечер не вносил поправок в отчетливый, выверенный ритм его реплик, его пауз, и смешков, и легкой дроби пальцев по краю стола, и стука собираемой посуды, и звона разбивающейся об пол чашки, полной кофе, и…
Он был неизменяем, неподправляем и безукоризнен; он помнил себя сам, от слова до слова: вопрос и ответ – вопрос и ответ – вопрос–ответ–вопрос, вопрос, вопрос…
Молчание. Хлопок дверцы автомобиля…
Молчание…
– Ты поднимешься?
– Нет. Я позвоню.
* * *
«Забыть» означает «не помнить». «Не помнить» – значит «молчать». Молчать почти невозможно. Невозможность молчания подразумевает непрерывность памяти.
* * *
И опять она подумала о каше, выброшенной на помойку. Каша не давала ей покоя. «А! – догадалась Света и пересела из кресла у окна в кресло напротив маминой кровати. – Это уколы разбуженной совести. Как только я сразу не поняла! Нехорошо выбрасывать пищу на помойку. Вообще–то, стоит задуматься над данной ситуацией, и если б мне не было так лень (а мне это еще более лень, чем убирать квартиру), то… Но подумать можно: отчего ж не подумать?»
И Света стала думать о том, что ее бедность или ее так называемая «нищета», о которой вчера пел грустные народные песни хор соединенных голосов в учительской, по большому–то счету никакая не нищета, раз три или четыре взрослые порции доброкачественной диетической гречи пошли на корм воронью. И что бы ни говорила Валерия, у которой, кстати, тоже нет детей, но не в детях дело… На что бы ни гневалась несчастная Валерия, но Света, выбросившая кашу на помойку, тем самым попадает в лагерь Прасковьи Степановны и Самуила Ароновича (нет, так нехорошо, по–балаганному выходит: «лагерь Самуила Ароновича» – упаси Господи!), в мамин, стало быть, лагерь. Нищета? Бедность и – как следствие – нищета, то есть голод, холод и страх? Но подождите! Такая ли нищета пугала маму незадолго до смерти? О таком ли голоде помнила мама, уговаривая Свету пойти и купить «на всю зарплату» гречневой крупы и спрятать в кладовке? Света от отчаяния пошла тогда и купила двадцатикилограммовый мешок крупы, зато теперь она могла жить на этой крупе хоть до следующей осени – много ли Свете надо? Нищета это или бедность – то, что ее не пугает, но как бы гипотетически устраивает крупяная жизнь? А вот это: нищета или… То, что, купив летом краску для волос, она почти решилась остричься – велика потеря! – так дорога была краска? Тогда ее удержало… (Нет, не туда, не о том…) А мама, с тех пор как Света начала ее помнить, всегда была седая. И Свету предупреждала: «Если ты в меня, начнешь рано седеть. Привыкай красить волосы. В ваше время стареют позже». Наше время. Мое время. Что еще?
Бедность, нищета.
Света вытащила семейный альбом и стала листать его от конца к началу, от южных, пляжных, грубо–цветных, одиноких своих портретов до изжелта–серых и четких, как офорты фамильных фотографий, немногочисленных – их хватило на две страницы, – а две страницы были отданы маминой юности, и дальше шла Света: крошечная, маленькая, подросшая, выросшая, классом, группой, коллективом… на экскурсии в горах Кавказа, Крыма… а кто это стоит третьим справа во втором ряду, отвернувшись от объектива?.. Узнав, Света переступила босыми ногами по холодному полу, захлопнула альбом и присела на стул у шкафа. Заметив, как шевелятся замерзшие пальцы ног, она остановила их взглядом и долго не отрывала его. Ногти на ногах блестели лаком. «Вот еще лишняя трата», – подумала Света в связи с бедностью, настоящей и будущей. Мысли о бедности и нищете были приятны, привычны и необременительны. Света умела о многом думать легко – так пианист, отдыхая после тяжелого концерта, играет для домашних детские пьесы Чайковского: наигрывает одной рукой, а в другой держит большое яблоко, но забывает о нем и откладывает в сторону, увлекшись пассажем. Света часто гордилась перед собой этой способностью с приятностью думать о неприятном, хотя случалось и наоборот…
«Пора отвыкать красить ногти. Вычеркиваю из списка расходов. На чем я остановилась? Бедность ли то, что я не могу позволить себе провести отпуск на море? Раньше могла, а нынче – увы… Но меня вряд ли когда потянет к морю, вряд ли когда… А мама, та вообще ни разу не была на море. Сколько ни уговаривала я ее, так ни разу и не съездила в Крым, а могла бы дешево съездить по профсоюзной путевке. А взять, например, бабушку, мамину маму? Бабушка не то что не могла или не хотела отдохнуть на море, она просто не знала, что такое море и что с ним можно делать…»
Света заглянула в альбом, на первую страницу. Бабушка сидела с сестрами рядком, а за спиной сестер стояло пятеро братьев, совершенно одинаково плечистых и угрюмых. Сестер было шесть. Пятеро – в цветастых платках и с косами через плечо, и одна – Светина бабушка – в городском платье, стриженая, с гребенкой в подвитых волосах. Год, наверное, двадцать пятый… Уголок с датой оторван… «Крепкая» крестьянская семья. Сыновья молоды, смогли уцелеть в гражданскую. Залюбуешься, какая семья! А где родители? Так, вот и родители: мать–старушка и отец–молодец. Старовер. Но ручаться нельзя. Эту подробность Светина мама помнила смутно, а хорошо помнила она то, как сытно и вкусно было в деревне, куда ее отправляли «на откорм» в двадцатые годы. Не то что в городе. В двадцатые… Нет, наверное, в двадцать пятом бабушка, подавшаяся в город за женихом–односельчанином, гармонистом и «красным командиром», что на зависть деревенской молодежи и к осуждению отца–матери умел только «лясы точить да девок лечить», эта беспечная бабушка, умершая от чахотки за год до наступления коллективизации, после которого, очевидно, деревенские радости Светиной маме были заказаны навсегда (но приближались, подманивали – комсомольские) – скорее всего, бабушка, прижившаяся в городе, уже знала о прелестях курортной жизни понаслышке, но вот эти ее одинаково щекастые, задумчиво–испуганные сестры – вовсе не бедные, благодарение Господу – уж точно рассмеялись бы в лицо парню, предложи он им заместо новой шали к Пасхе «поехать на море»…
Света спрятала альбом, затруднившись выбрать для себя какой–нибудь более или менее надежный критерий бедности. «Критерий… Хм… Порог… Скорее, притолока… Дверной проем… оконный…»
Она поднялась и подошла к окну. Стая ворон, уменьшаясь, рывками продвигалась вдаль и ввысь.
«Так… каша… с кашей покончено… нищета… Нищета признана недействительной…»
Она наклонилась к венику, но не дотянувшись на вершок, махнула рукой и отправилась на кухню поджарить себе еще хлеба. По дороге она ткнула пальцем в телевизор. В тот момент, когда, пискнув, телевизор ожил и белое пятно света выпучилось на нее красновато–сиреневым глазом, ей, как часто случалось в последнее время, ясно и, как всегда, коротко поднялась – поднялась, как зарница над горизонтом, и погасла – сильная мысль, протянутая дугой от левого плеча неба к правому, – широкая мысль, качнувшая смыслы, полные плещущейся тяжести, – привычная, утомительная, невольная, не ее мысль о том, что не сама она только что обежала за минуту пространство жизни, изжитое матерью ее, бабкой и прадедом; что не она одна в эту секунду остановки на однообразно извилистой тропе ее размышлений – тропке, вытоптанной до белой глины миллионами ног, босых и обутых, – не она только знает эту глину своей землей, как ни мало ее осталось впереди… Не сомневаясь, не удивляясь и не пугаясь, молниеносно и благодарно почувствовала Света, как некто сильный, умелый и любящий сдавил ее руку, разжавшую пальцы, рванувшуюся в сторону, и они пошли рядом, обнявшись почти, почти побежали.
Света разжала руку и посмотрела на черную горбушку, легкую от сухости. Хлеб, оказывается, весь вышел. Света налила в миску воды, размочила сухарь, намяла тюрьки и поела себе тихонько, как беззубая старушка. Лень было одеваться, спускаться по лестнице, толкать тяжелую дверь универсама, говорить: «Будьте добры», или «Мне, пожалуйста, за восемьсот девяносто пять», или «За восемьдесят девять пятьдесят». С облегчением вспомнила Света, что в доме нет ни копеечки, и вернулась в комнату. Телевизор пыхтел, как поспевающий самовар. Лень было повернуть регулятор, и лень было выключить бесплатный телевизор. Подумав еще немножко о дешевизне телевизионного сервиса, об удобстве и относительной дешевизне жизни в отдельной однокомнатной квартире и чуть–чуть, «понарошку», задумавшись (как сорвавшись рукой с подлокотника вниз, в бездонную пропасть) о предстоящей ей одинокой и долгой старости, очень спокойной, Света вздрогнула, опомнилась и крепко сжала в руках веник, собираясь заставить себя начать уборку. Телевизор немо взирал на нее застенчивой рекламой «Тампекс». Света поморщилась. «Только быстрее, – приказала она. – Быстро и недолго. Пока иду до телевизора – пять шагов. Ничего не поправить? Ничего нельзя изменить? Все было, как было, и значило, что значило?.. Ах, каша, ты моя каша… Милая, незабвенная каша…»
* * *
– Как мальчик, Игорь? Он окреп после лета?
Света никогда не называла сына Игоря Игорем или Игорешей, а только – мальчиком. От этого Игорю становилось не по себе, словно его мальчик, любимый, но самый обыкновенный, один из множества мальчиков, живущих в мире, превращался в единственного мальчика, в маленького героя античной мифологии или еще чего–нибудь подобного, чего не могла бы объяснить и сама Света, произносившая «мальчик» с маленькой запинкой на мягком «л», с торопливым шепотком у суффикса и с интонацией легкой назидательности, обращенной к Игорю, отцу мифического мальчика, похожего на него как две капли воды. Света знала о сходстве по фотографиям, которые приносил Игорь прежде на свидания: толстые пачки детских и материнских улыбок; детский убегающий затылок и детский пойманный смех через плечо; черно–белые черты самого Игоря, повторявшие в укрупненной нечеткой копии (снимок делала мать) таинственное очарование подвижных и текучих черт его мальчика, мальчика…
Поумнев, Игорь раскаивался в том, что на ранней поре отцовства не удержался и пустил Свету туда, куда ей было нельзя, ибо с возрастом он усвоил принцип строгой параллельности линий своей жизни, оценил предпочтительность и правоту эвклидова простого пространства; и потому ему делалось не по себе, если Света спрашивала о сыне, как сейчас, когда пространство искривилось, поддавшись мягкому толчку ее вопроса.
– Как ему нравится в школе?
– Не нравится. И кашель вернулся…
– Вы поторопились со школой. Надо было выдержать еще годик. Ну, а что ваши крымские планы?
С охотой говоря о мальчике, Света старалась не упоминать о его матери иначе как во втором лице множественного числа, и русская двусмысленность в употреблении местоимения «вы» (где пряталось обычное женское, обиженное: «она»), напряжение, возникающее в разговоре, споткнувшемся об это холодное «вы» (как при ссоре, сделавшей «ты» невозможным), наскучившая обоим борьба вечного подтекста с переменчивым текстом – вся эта двойная игра интонаций раздражала Игоря той осторожностью и… неумелостью, что ли?.. с которой вела ее Света в последние годы их «внебрачной» связи. Но Света и сама знала за собой этот недостаток умелости, потому «вы» ее вопросов и советов (непрошеных, бескорыстных, настойчивых, как у всякой женщины) скоро отступало на задний план, замирало, сливалось с декорациями времени…