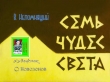Текст книги "Мизери"
Автор книги: Галина Докса
Жанры:
Прочая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
– Не отставайте, Дэвид! – крикнула Света, оглянувшись, и поманила его.
Опять они шли втроем тесной шеренгой, Света посередине, думая то по–русски, то по–английски: «Скоро метро».
Сумерки сгустились. Вот и метро. Шагнув из уютной уличной полутьмы под ледяной душ павильонных софитов, Света поняла, как мучительно заботит ее вопрос о том, намерен ли Сережа провожать ее до дому. Не попытавшись разобраться, что именно было бы желательнее (менее нежелательно) для нее: ясность или неясность Сережиных намерений, а при полной ясности – дорога домой в его обществе или в одиночестве, Света со свойственной ей одной (всякий раз ее самое изумляющей) мгновенной хитростью замешкалась у пропускной тумбы, притворяясь, будто роется в сумке. Дэвид уже сползал вниз, его лохматая голова едва виднелась. Сережа ждал у спуска, полуобернувшись. Оценив мизансцену, Света захлопнула сумку, произвела энергичное движение рукой, указующее путь Сереже, – туда, за Дэвидом и прочим народом, а сама, недолго думая, поворотилась и выскочила из павильона на улицу.
Всходила плосколицая луна. Не за горами было мартовское полнолуние. В трамвае пахло сыростью. Света полезла в карман за перчатками… Перчатки? В кармане лежала только одна перчатка – с левой руки. Правой Света не нашла ни в другом кармане, ни в сумке, ни за манжетом куртки, ни даже под шапкой, на темени, – могло ведь случиться и так при ее рассеянности?.. Перчатка потерялась. Это было тяжелым ударом для Светы, и она оправилась от него лишь к концу дороги. Эти перчатки Света купила совсем недавно, поддавшись глупому капризу. Черт толкнул ее руку к окошку ларька, где под потолком висела, сложив пальцы, темно–коричневая пара, коварно прячущая под кружевом соседствовавшей с ней женской сорочки один из четырех нулей числа, прописанного на картонке самодельного ценника. «Можно мне?» – спросила Света девушку в окошке. Перчатки пришлись по руке. О таких она мечтала два года, когда позволяла себе мечтать. Такие примерно она потеряла два года назад: оставила в кафе на столике. Игорь вернулся бегом, но их уже не было. Такие перчатки…
«Я возьму», – сказала Света и протянула девушке купюру, выданную ей сегодня в гимназии в качестве мартовского аванса. «Как раз разменяю», – оправдывалась она перед собой в ожидании сдачи. Но продавщица не торопилась со сдачей. Проверив купюру, она потребовала: «Еще двадцать». Свету бросило в жар. Новые перчатки уже лежали в сумке. Не дрогнув ни одним мускулом, она вытащила кошелек с непотраченным остатком январской зарплаты (как богата была она минуту назад!) и, не считая, сунула в ларек всю пачку. Ей вернули пять, и, обессилев от пережитого шока, она долго стояла в уголку у эскалатора, рассматривая узор, змейкой шевелившийся на краю раструба. Почти такой же…
«Такой же!» – убеждала себя Света, сидя в прихожей перед зеркалом. Она внимательно рассматривала свои руки, одетые в коричневые, почти неотличимые друг от друга перчатки. Правая, чужая перчатка (сохраненная в неясной надежде на встречу с хозяйкой алмаза) узором и вправду походила на новую, Светину, только что лишившуюся пары. Если оторвать хлястик… Если не знать… Настораживал оттенок. Оттенок?.. Патина… Матовый пушок толщиной в четверть волоса, покрывающий правую перчатку, говорил о цене, когда–то заплаченной за него рукой, не считавшей денег. Левая – Светина – была из дешевых. «Левая – правая – левая… В сумерках, пожалуй… Правая – левая…»
Но был уже март, и дневной свет обгонял Свету на ее дороге. Света сдернула с рук и спрятала в шкаф обе перчатки, свою и чужую. Так и будут лежать они там до скончания века: своя и чужая, дешевая и дорогая, уцелевшая и потерянная… Одного размера, под пару, грубо похожие и тонко различные. Так все и будет. Бедная Света. Бедная, бедная Света!
* * *
Взявшись перед ужином за расплетание косы, Света столкнулась с непредвиденными трудностями. «Ленточка», скрепившая на конце сложную косу, оказалась вовсе не ленточкой, а широкой, плотной полосой добротного заморского скотча. Скотч схватил волосы намертво, и не было никакой возможности отодрать его. Повозившись минут пять, от души ругнув несколько раз «скверного мальчишку», а больше себя, согласившуюся на нелепую затею с косой («Седина в бороду, бес в ребро, милая!»), Света вооружилась ножницами и решительно, косясь через плечо в зеркало, отсекла косе ее широкий хвост. Коса укоротилась на три сантиметра. Вздохнув одновременно и с сожалением, и с облегчением, Света хотела было выбросить колтун, но поскольку чайник не успел еще закипеть, попробовала все же высвободить маленькое подобие косы из полиэтиленового плена, теперь уж не вслепую, а во всеоружии зрения и природной сметки (которой, увы, была начисто лишена, но недостаток которой восполняла всю жизнь дотошностью и болезненной какой–то педантичностью, не позволявшей ей при встрече с любой, чаще всего неразрешимой проблемой признавать поражение тотчас). Надо было побороться со скотчем врукопашную хоть бы для вида и, кстати, чтобы помучить себя, наказать за проступок столь же непростительный, сколь и бессмысленный.
«Как будто нельзя было отговориться чем–нибудь! – злилась Света, расплетая узел. – Нет, мне всегда нужно покориться, послушаться, уступить!.. Даже если никаких расчетов на заднем плане! Бескорыстная я интриганка, вот что… Сговорчивая непротивленка, толстовка… Ну!»
В сердцах она рванула ленту.
«Ну, расплетайся, гадость толстовская!»
Лента проскрипела и отслоилась, дав щель. Света подвела туда палец и уперлась в нечто маленькое, плотное, шершавое. Ковырнув ногтем, она выкатила на ладонь микроскопический рулончик белой бумаги. Вскипевший чайник позвал ее на кухню. Ступив шаг, она машинально развернула бумажку. Круглые английские буквы разбежались от середины, распрямляя края. Света быстро зажмурила глаза. Но было поздно: удивленный взгляд сделал моментальный снимок. Теперь, хоть выбрасывай, хоть сжигай эту… этот… «Эту улику!» – она помнит. О проклятие! Она должна помнить и это тоже?
«Нет, я не хочу, мне не надо, я не буду, не могу, я ничего не читала!»
Она слазала в хозяйственный ящик, достала оттуда свою давным–давно оставленную Игорем точь–в–точь такую ленту, отрезала в точности такую полоску, свернула записку, в которой мелко, торопливой рукой милого ее мальчика, неподкупного, строгого ее проводника, такого сурового, подозрительного и смешливого, братика пятерых сестренок, старшего сына своей мамы, что так ловко вяжет носки из белой овечьей шерсти… рукой ее чудного, талантливого мальчика… «Нет, этого не было! Я не расплетала косу. Я не… Я ее не расплетала!» – свернула, сжала в пальцах, уплотняя, прикрепила к полосе свежего скотча, ощупала косу за спиной – та еще держалась, слава богу! – напрягла мышечную память, восстанавливая узел, которым была закреплена предательская записка, вспомнила, переплела, разгладила ленту, сжала в кулаке, отпустила, потрясла головой, проверяя… Коса держалась. Она была такая же тугая, как два часа назад, как только что заплетенная, и так же убегали к вискам оттянутые, суженные углы Светиных глаз.
«Я люблю тебя», – произнесла по–английски Света то, что вопреки ее желанию не знать оставалось написанным и спрятанным в узле за спиной. «I love you»3, – подумала она. Думать по–английски казалось ей проще и безопаснее, чем по–русски. Света часто в прошлом прибегала к английскому языку, спасаясь от дум, слишком сложных, чтобы быть внятными в бедном, слабом, почти младенческом их воплощении чужой речью. Но нынешней зимой английский Светиных раздумий незаметно для нее самой сделал большой рывок, почти сравнявшись в силе с русским – умелым, но медлительным соперником. Светин английский, оказывается, теперь разил без промаха. Его дрожащие, оперенные согласными гласные быстро достигали сердца и застревали там, как отравленные стрелы. «It’s o-k, – утешала себя Света, ловя и обрывая на полуслове каждую новую английскую мысль. – It’s only English. Too easy for talking. Too soft. Too warm. Too short and tender. I must think in Russian. It’s o-key…»4
«Я люблю… люблю… вас», – несколько раз произнесла Света вслух, рассчитывая, что банальность русской фразы избавит ее от страха и печали, занозивших сердце. Но перевод был адекватен оригиналу. Наступало страшное ночное время, которое, помнила Света, не знало различий меж языком и языком, молчанием и речью, словом и чувством, родившим его. Из темноты выступала и приближалась к ней бессонница. Света узнала ее по стуку в груди. Сердце билось, как в январе. Оно вращалось и гулко гремело.
«Невозможно, чтобы три слова на чужом языке так взмутили меня», – подумала Света о себе, как о колодце, чей полезный чистый покой был нарушен падением сорвавшегося с цепи ведра. Опускаясь по спирали, ведро достигло дна и замерло, подняв невысокое облачко мути.
«Это всего лишь слова. Они не имеют власти! Я сейчас усну. Вот так, на боку, спокойно, как по короткому коридору, – все двери закрыты, и нечего глядеть по сторонам…»
Двери закрыты, но на каждой мелом по черному выведено крупно и кругло: «I love you». И пока не прочтешь надпись, всю ту же, от двери к двери, коридор не позволит сделать следующего шага. Куда? Ах, какая разница!..
«I love you» – как жалобен первый звук!..
Как томно и тайно тянется второй…
И третий… Готовит губы к поцелую или улыбке. Как это будет по–русски? Ну, вспоминай, не бойся – что? Страшно?.. Вспоминай! «Я» – смущено и прячется. «Люблю» – готовит губы к поцелую. «Тебя» – улыбается и кивает, кивает и улыбается… Боже мой, Боже мой! Что же делать, что же мне делать? И если бы только я могла рассказать тебе, ты не поверишь, но я расскажу – я еще помню это против воли, – что мне достаточно было твоей ладони, сложенной горстью, – пустой, холодной, протянутой ко мне, – не за милостыней, что ты! Что могу я подать, я – нищая, как ты, как все, как все, кто прячет за спиной руки, в темноте шевеля вспотевшими пальцами, и только ты – потому я еще не забыла! – дашь мне горсть пустоты, чтобы могла я опустить туда лицо, выдохнуть, дотянуться губами… lips… дотянуться…touch…5 до сердцевины твоей ладони… твоей ладони… your heart6, your palm, palm7…
…Коридор оборвался пустым дверным проемом. Света села на пороге, свесив ноги с кровати. За спиной, качаясь на ржавых петлях, скрипели и хлопали двери. Впереди и под ногами расстилался простор. Он был необозрим. Он ослеплял. Лихорадочно, торопливо, вдавив оба глаза пальцами в орбиты, Света начала вести счет слонам, выплывавшим откуда–то сбоку и уходившим вдаль, куда не достать было взгляду. Бессонница все расширяла пространство. Мерно колыхавшиеся слоновьи спины не могли заполнить его. Света оставила слонов и набросилась на медведей, непослушно кувыркавшихся в огромном кругу цирковой арены. И их было слишком мало. Ей на ум пришли волки, лисы, койоты… тех было не счесть, но были они мелкими, еле видными издалека… Тогда появились олени, их приходилось считать парами, и все прочие также пошли парами: собаки, черные, как негры, львы с львицами, мягкие гнутые жирафы в черных носках до колен и лошади – в белых… быки и коровы, горбатые антилопы, сохатые лоси… опять олени, собаки, лисы, слоны – всех надо было считать, не путая очереди, всю земную живность следовало пропустить наискосок через поле, похожее на дорогу, весь движущийся, пятящийся от нее, отворачивающийся и неиссякаемый мир, в котором существовала только одна неподвижная точка, распускавшая, как солнце – лучи, ряды льющейся звериной мощи, абсолютно безъязыкой, истинно бесконечной, по–прежнему бессонной; точка эта была она, Света, не спавшая, лежа на левом боку, скрючившись, с косой, выпростанной из–под одеяла. В последний момент, сдаваясь, сбившись со счета, она пустила на дорогу птиц. Это нужно было сделать раньше! Неуклюжие лебеди проковыляли, сколько могли, по колдобинам изрытой почвы, гоготнули, побежали и поднялись на крыло. Стая ушла на запад, Света уснула.
Утром не прозвонил будильник. Опаздывая, Света не забыла проверить алмаз. Он лежал в объятиях серебряной цепочки такой простой, надежный, нетребовательный и такой ее (больше ничей – ее, и все тут!), что у нее прояснело на душе. Обвязав толстовскую косу косынкой (что, по счастью, не противоречило моде), она подмигнула своему узкоглазому симпатичному отражению и вылетела из квартиры. Настроение ее поднималось по мере убывания этажей. На улице, в первых лучах почти еще незнакомого весеннего солнца растворились и разошлись снежной пыльцой остатки горечи, испытанной ночью. Что, в сущности, произошло? Разве кто–то сказал ей «люблю»? Это слово?
Но слова не имели над ней никакой власти. Они не значили ровным счетом ничего. Выражаясь по–английски, они означали ничто. О записке канадского мальчика она помнила как о предутреннем сне, оборванном навсегда и не могущем повториться. С этого утра Света будет звать его только так: «мальчик», раскаиваясь, что слишком часто за истекшие дни повторяла вслух тающее на языке имя: «Дэвид – Дэвид… Дэвид…» Оставшиеся им дни следовало прожить без обращений.
* * *
Примерно через неделю после отъезда семьи Игорь увидел Свету.
Света шла по противоположной стороне Садовой, взмахивала руками и смеялась. Он оглянулся на знакомый смех и продолжил путь, ускорив шаг. Через миг остановился и еще раз оглянулся. Света всплеснула руками. Она была не одна. Слева от нее, тоже размахивая руками, двигался длинный молоденький парень, по виду американец. Света была ему чуть выше плеча. Справа от Светы шел, подпрыгивая, маленький подросток в белой куртке, девочка. Коса ее плясала над откинутым капюшоном, как сумасшедшая змейка. Они свернули в парк и углубились в аллею. Игорь сделал шаг–другой в направлении метро; покачался, подождал, пока отстучит сердце, вдруг после долгой остановки начавшее биться с силой ожившего маятника; повернул назад, перешел дорогу, приблизился к воротам парка, потрогал решетку, поскреб ее ногтем (краска не слезала); вошел, сел на первую скамейку в боковой аллее и засмотрелся на нелепый, некрасивый вблизи Инженерный замок, мимо которого сновали, виляя хвостами на ямах Садовой, грязные автомобили. Так он сидел и глядел сквозь прутья до темноты.
Вечером, как всегда, он долго петлял по городу, в движении своем постепенно смещаясь к северу, как будто Петербург, от века клонившийся к западу, решил изменить уклон. Медленно, но верно сползал Игорь к северу, не ощущая усталости в ногах, не мучаясь голодом, не пытаясь сопротивляться. Он скользил и катился, семенил и рысил; он летел кувырком, он бежал за последним трамваем, и трамвай дожидался его у глухой фабричной стены красного кирпича с суровым узором по самому верху, довозил, бездыханного, до площади, упиравшейся в лес, потому уцелевший, что давно – не упомнить когда – архитектор ошибся, планируя Светин район, или клякса упала на готовый чертеж… затушеванный, лес шумел и качался…
Светила луна из–за туч. Игорь находил Светин двор и сидел, отдыхая. Все скамейки были поломаны. Уцелели железные остовы. Он жался к холодному скелету, смотрел на окна дома и считал их слева направо, снизу вверх. Сначала он считал темные окна: их было меньше. Потом, с полуночи, считал освещенные окна. На пятом этаже к утру горело только одно окно. Света не спала. Он видел ее тень и руку, отодвигавшую занавеску. Однажды он видел, как она взобралась на подоконник и открыла форточку. Снизу она казалась маленькой, как подросток. Полы халата распахнулись; Света инстинктивно свела их свободной рукой, скрючилась перед прыжком, спрыгнула вниз, задернула занавеску…
Как–то Игорь пришел туда слишком рано. Ее окно темнело сизым провалом в ряду освещенных. Он разволновался и стал торопить миг, когда вспыхнет это мертвое окно, дразнившее его память. Окно спало. Он встал и пошел кругом двора, глядя под ноги, а на поворотах поднимал голову и проверял, не зажегся ли свет. Окно спало. Он нащупал в кармане ключи, оборвал круг своих блужданий, развернулся и быстро зашагал к дому. Почти дойдя до угла, запнувшись о корень березы, он вдруг шарахнулся в сторону и спрятался за ствол дерева, слабо белевший в прозрачной тьме. От угла длинным осторожным шагом к нему приближалась Света. Руки ее были голы, голова не покрыта, в руках она несла пустое ведро, оно плавно покачивалось. Света походила кругами по двору, посидела с минуту на лебедином изгибе поломанной детской горки, вздохнула (он слышал, он стоял в десяти метрах, прижимаясь лбом к нежной, скользкой бересте) и… исчезла. Он понял, что то был сон, но так испугал его сон, что больше не смел он ходить под ее окно, а только однажды, уже в марте, когда, получив деньги за срочный перевод, вновь почувствовал себя богатым, – однажды, поздним ненастным утром, выпив сто грамм коньяка в заплеванной рюмочной (не пил давно, и коньяк взял его со второго глотка), на такси подъехал к ее дому, позвонил с сотового и, убедившись, что квартира пуста, поднялся туда.
Она не поменяла замок. Он так и думал. Дверь открылась легко, как будто и не была заперта. Он не почувствовал, когда завершился поворот. В квартире до сих пор пахло ремонтом. Линолеум в коридоре загибался по углам, и там набилась пыль. Он тогда не успел поменять плинтуса. Постель ее матери стояла неубранной. Да, она спала в ней. Он так и думал, что она спала зиму в этой постели. В ванной отвалилась плитка кафеля. Ему захотелось поправить, но не нашел плитки. Махнул рукой, ушел в кухню. В холодильнике лежали стограммовый кусочек масла и половинка буханки ржаного хлеба в дырявом пакете. На столе стояла широкая чашка с отбитой ручкой, в ней, приклеившись к стенкам, блестела кофейно–молочная пенка. Он взял чашку и слизнул пенку языком. Потом, испугавшись, вернулся в комнату. На полу у постели матери лежала открытая книга. Он заглянул, присев: «Была чудная ночь…», и опять испугался, вернулся в коридор.
Пора было уходить. В зеркале простенка он увидел себя – множество раз он видел себя в этом зеркале, но теперь не узнал отражения. На мгновение ему почудилось, что отражения нет вовсе, что световой луч, отброшенный его телом, поглощен амальгамой весь без остатка и он, хоть бы века простоял перед ее зеркалом, не увидит в нем себя. Он в третий раз сильно испугался. На площадке хлопнула дверь, и задрожала незакрытая им ее дверь. Он дернулся в испуге в кухню, вмиг вспотел, рванулся назад к зеркалу, поскользнулся, повалился на бок, схватился за подзеркальник; рука не нашла опоры, где искала; трюмо покачнулось; он, выпрямляясь, попытался остановить падение, но то было сильнее его; зазвенела, рушась, опрокинутая комната, небо мелькнуло в осколке, отлетевшем к кухонной двери, легкая шкатулка покатилась по зеркальному лому, открылась круглая крышка, выпали кольцо, цепочка, маленький бесцветный камень…
Он собирал осколки. Капала кровь из глубокого пореза. Еще порез, еще… «И еще, вот так, вот так», – шептал Игорь, испытывая наслаждение от боли, которую причиняло ему разбитое зеркало. Ворона каркнула за окном. Зачем–то зазвонил телефон. «Это я звоню», – с ужасом подумал Игорь, бросил собранные осколки на пол, подобрал кольцо и цепочку, положил на ладонь, всмотрелся, заплакал… кажется, заплакал… сжал кулак, поднял трюмо, прислонил к стенке, вернул украшения в шкатулку… поставил у зеркального пустого проема, загреб с пола горсть осколков, рассыпал их по подзеркальнику, скрипнул ногтем по дну ослепшего зеркала, вытер руки о подкладку куртки и вышел, замкнув дверь на два оборота ключа.
ACTIVE VOICE. INDIRECT SPEECH (7)
(действительный залог; косвенная речь)
В ночь перед премьерой Дэвид не сомкнул глаз. Вечер он просидел над пьесой, перечитывая ее первоначальный вариант, не подправленный Светой и детьми (много поправок Дэвид внес в ходе репетиций, так как его русским актерам плохо давались интонационные тонкости текста). Первоначальный вариант, как убедился Дэвид в ночь перед премьерой, сравнив его с рабочим, прочно сидевшим в памяти, был ужасен. Следовало признать эту горькую истину. Подтекст, когда–то в виде взрывчатки заложенный автором под сцену братания и под другие, столь же опасные сцены, отсырел и потерял свою убийственную силу. Немудрено! Прошло пять лет с того веселого лагерного лета, когда, имея в распоряжении всего лишь две недели, юный Дэвид писал «Победивший мир», и хоть был он уже тогда тем способным и энергичным парнем, каким являлся сейчас в свои двадцать, детство еще довлело над ним, толкая руку под локоть, разбрызгивая многочисленные кляксы, и одной из которых хватило бы, чтобы испортить прописи, выведенные пятнадцатилетним драматургом. Та пьеса, рожденная в спешке и азарте (актеры толпились за спиной и выхватывали из–под пера странички готового текста, не давая даже проверить ошибки)… Та пьеса с тридцатью победителями и одним побежденным (никто не хотел браться за роли отрицательных героев; одного за другим вычеркнул тогда Дэвид соратников несчастного Духа и тем обрек себя вечному одиночеству)… Та пьеса была ужасна своим кровожадным оптимизмом и многолюдностью. Она годилась только в огонь. Феноменальный ее успех пятилетней давности объяснялся лишь возрастом аудитории и личными симпатиями зрителей к автору. Сам по себе, без тех симпатий, вне той оравшей и топавшей в знак одобрения аудитории, его «Мир» был совершенное ничтожество. Дэвид сгорал от стыда, вспоминая, как самодовольно и небрежно, будто имел право приказывать, он отдавал тетрадку Мисс, а припомнив, как пространно, горячо и искренне она хвалила пьесу, возвращая, и как деликатно настаивала на небольших переделках, ссылаясь на языковые трудности у детей, Дэвид прямо–таки застонал от стыда и тоски. Пьеса была ужасна. И ее предстояло сыграть завтра вечером перед залом, полным незнакомых русских женщин (Мисс сказала, что, наверное, большинство зрителей составят женщины). Усталые немолодые женщины, не знающие английского, будут держать на коленях листочки с русским переводом текста, сделанным ею…
«Они будут смотреть его пьесу и читать ее перевод…» – соединив две мысли в одну, Дэвид успокоился и тихо обрадовался тому, что он не может прочесть перевода, который, конечно же, должен быть гораздо талантливее оригинала. Скороспелого плода его мальчишеской самонадеянности. Его невинности. Его наивности и невежественности.
Он закрыл глаза и стал перебирать в памяти реплики своей роли, самой, как считал он, неудачной из всех, роли единственного взрослого среди трех десятков подростков, которым по логике событий следовало послушаться и пойти вслед за всесильным Духом (но – как все менялось, когда он представлял рядом с собой Мисс в розовом длинном платье, положившей руку ему на голову, а он ждет, преклонив колено, и смотрит в ее лицо)… Ах, лучше бы они пошли, послушались – ведь так получается, что сцена братания ничем, ну просто–таки ничем не обусловлена, она торчит, как пугало на огороде, она смешна… Но почему же именно эта сцена нравится ей больше прочих? И сегодня он видел слезы в ее глазах – да–да, он не мог ошибиться: Письман бежал по кругу с тряпичным факелом, рваные концы факела задевали лица девочек; они зажмуривались, Письман подкидывал факел, Света – Царевна ловила, поджигала костер… Он не участвовал в сцене, а стоял на краю, недовольный, что Света пришла без костюма, и оглянулся в пустой зал на шепот из первого ряда. Она подсказывала детям, хоть они не нуждались в подсказках. Он оглянулся раздраженно, и она улыбнулась виновато, а в глазах блестели слезы, и она в который раз кивнула ему: «Лучшая сцена, Дэвид! Ваша лучшая сцена!»
Качаясь на стуле, он прогнал все от братания до казни и еще раз с самого начала, от пленения Царевны до братания. Царевну он придумал уже в России, а пять лет назад Царевна была Феей Радости. Можно сказать, он придумал ее еще в самолете, когда тот пошел на снижение и накренился на плавной кривой, так что город, просвечивающий сквозь редкий туман, повис, как карта на одном гвозде, полустертая карта с оборванными углами, прозрачная на сгибах; вот тогда он все решил про Царевну, но Царевной, притом русской, она стала совсем недавно, и в том была не его заслуга. И, казалось бы, не все ли равно: фея, царевна или дочь китайского мандарина?.. Но Царевна удалась, это несомненно, и, как бы ни подшучивала она над ним и Светой, он знал, что Царевна нравится ей… Только бы Света не переиграла! Девочка слишком серьезна… Впрочем, ей так и положено «по сану», как сказала бы Мисс…
«А китайцы – они хороши вышли, мои одинаковые китайцы в материнских халатах, с конскими хвостами вместо кос», – Дэвид вздохнул успокоенно. В сотый раз, веселясь, он поссорил и помирил двух маленьких китайцев, стукнул их лбами и погнал брататься. Братание… Нет, он не любит эту сцену. Он… Он не понимает ее. Что же? Значит ли это, что он не понимает себя? Открыв глаза, Дэвид уставился на свои огромные кулаки и еще раз проговорил текст. Еще и еще, пока английский язык, подтверждавший ему его авторство, в которое он верил тем меньше, чем ближе подступал час премьеры… пока свистевший в ушах упрощенный – детский – английский не стал ему совершенно чужим, пока не стал его родной язык неузнаваемым, галактическим каким–то… не языком, но кодом… слоговой шарадой, до того непонятной, что он, как Петя Иванов, спутавший сегодня «dear’s» и «death»8, щебетавший, словно птица, не различающая нот своего напева, – радостно, безвольно, – как Петя Иванов, про которого только сегодня узнали, что он не понимает смысла своих коротеньких реплик (а Мисс пошутила: «Замечательно, не надо ругать мальчика, кто поручится, не новое ли это слово в мировой режиссуре?»… не многовато ли новых слов он сказал для первого раза?.. и все же, все же)… как Петя, который сначала, разоблаченный, бросил маску на пол, крикнув, что больше не играет, а потом, пойманный Мисс, схваченный за ремень ее быстрой рукой и осыпанный шорохом, целым ворохом ее русского шепота… как Петька, нехотя подобравший с пола маску и вернувшийся к невидимому костру, только голос чуть охрип от просохших слез, но птичий щебет… птичий щебет… Как Петька, смолчавший на ее вопрос: «Хорошая пьеса?», как глупый упрямый мальчишка, не сказавший ни да, ни нет, Дэвид сидел и смотрел на обложку тетрадки с первоначальным вариантом (а рабочий весь был в его памяти), не понимая, чем гордиться ему этой ночью, после того как… Чем гордиться и чего стыдиться, после того… Он зажмурился; в последний раз прогнал пьесу, но та не кончалась, не уходила, не убиралась – болталась, как короткая коса перед зажмуренными глазами, как оборванная веревка… Он пережил свою казнь; воскрес; безголовый, поднялся с колен и пошел со сцены вниз – в первый ряд, туда, где на коленях, стиснутая объятием ладоней, огромная и черная, покоилась его…
Пьеса – была. Она была прекрасна, понял наконец Дэвид и упал ничком на постель, сжимая виски, чтобы не разлетелись они в разные стороны под воздействием центробежных сил, бушевавших в нем. Она была – прекрасна. Она жила и дышала. Она жила. Она дышала – любовью…
Она дышала любовью. Дэвид не мог бы сказать так: «дышала любовью», но он чувствовал и осязал горячее это дыхание всей душой невзрослого еще мужчины, готовящегося совершить первый бесповоротный шаг навстречу будущему. Шаг был труден и грозил падением. Но пьеса была прекрасна – их пьеса – и дышала любовью. Поэтому Дэвид всю ночь не смыкал глаз, ворочаясь на кровати, то есть на раскладном диване с пружиной, выпирающей посредине, привычной уже ему, как кость собственного тела. Ноги не помещались под одеялом и мерзли. В любую погоду Дэвид спал с открытым окном. Домочадцы Бориса были недовольны сквозняками, гулявшими по квартире. Дэвид слышал, как они выговаривали ему на кухне. В марте Дэвид уже понимал русскую речь. Он вспомнил о других людях, живущих с ним под одной крышей; поднялся, закрыл окно, присел на подоконник; прижал лоб к приятно–холодному стеклу, замер, да так и просидел до рассвета, глядя вниз на дно каменного замкнутого двора – «колодца», шутил Борис, и ночью, совершенно верно, чудилось Дэвиду, что на дне темного провала плещется, играя, потревоженная упавшей с крыши бадьей пахучая колодезная вода.
…Он дождался рассвета, оделся, слепил сандвич из ржаного хлеба и остатков клейкого сыра, сварил кофе кипятильником в стакане (Борис научил его, и он оценил способ по достоинству: большая кухня находилась очень далеко от его комнаты, а стол, на котором, разбежавшись, ждали внимания хозяина грязные сковороды, стоял в дальнем углу этой огромной кухни, и туда Борис не советовал лишний раз «показывать носа») и позавтракал стоя, но завтрак не насытил его. Он ощущал волчий, акулий какой–то голод и почти бегом пошагал в гимназию, мечтая о столовой, о пшенной или гречневой каше с маслом и молоком, с молоком или компотом. Двух–трех порциях каши, даже если и пригорела! Он бежал по Невскому, и каждый шаг его был длиною с полдома; бежал по набережной реки, которую все здесь почему–то назвали каналом, хотя была она обыкновенной рекой, петлистой и узкой; он огибал цветастую церковь, в которой все хотел побывать, но забывал о своем желании, стоило ему обогнуть ее и потерять из виду… Пробегая парком, он вспомнил, как давно (еще не начались репетиции) они шли здесь, споря о пьесе, – всегда только о пьесе! – и Света–маленькая отстала ненадолго, а он ничего тогда не понимал про себя (что же понимает он сейчас?) – и она ткнула его пальцем в подбородок и сказала как–то неловко, как будто с болью… почему она сказала тогда это?.. ведь было некстати, они спорили о театре… Она сказала, попав пальцем в самую середину его подбородка: «Ямка. У вас ямка на подбородке, Дэвид. Будете отцом девочек». Она сказала и убрала палец… Да. Света подбежала сзади, их стало трое, подбородку долго было горячо от того прикосновения… что, и сейчас горячо? Он потрогал подбородок. Парк кончился.
Дэвид увидел трамвай, догнал его в три львиных прыжка, вскочил, проехал остановку, но у моста сошел. Как ни хотелось ему есть, он не мог лишить себя удовольствия пешком перебраться на другой берег широкой реки, силе которой не уставал радоваться. Нева стальным своим простором будила в нем чувство, сходное с тем, какое испытывает молодой мужчина после бритья – не электрического, вслепую, а – опасного, требующего хорошей пены, внимательного взгляда и точной руки. Дэвид не брился еще, но стальная угловатая ширь свободной воды, острые края прибрежных льдин у низкого берега крепости и мыльный, кудрявый блеск крупной ряби вдоль гранитных набережных возбуждали его естество и давали ему ощущение чистоты и бодрости, как будто река делилась с ним толикой своей силы.