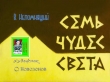Текст книги "Мизери"
Автор книги: Галина Докса
Жанры:
Прочая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
– Светлана Петровна! – окликает ее детский голос.
Это девочка. Света узнала. Та девочка из седьмого «А», ученица Инги.
«Что ей нужно от меня? – пугается Света. – Что она тут одна, в такую темень? Господи, мне давно пора уйти из школы! Я случайный человек. Я не люблю детей. Я могла бы вернуться в «ящик» – там, кажется, стали платить! Совсем недавно мне предлагали место секретаря…»
– Hello, Sveta, – говорит Света. – What are you doing here?9
– I walk10, – весело отвечает девочка.
У нее вполне приличное произношение.
– Present Continuous, – поправляет учительница. – You are walking. Present Continuous11.
РRESENT CONTINUOUS
– Темно, – говорит учительница. – Зачем ты гуляешь одна так поздно? Здесь неблагополучный район.
Они идут рядом быстрыми шагами. Девочка как будто провожает ее до остановки.
– Ты разве не слышала о том ужасном случае – в ноябре, с мальчиком из пятьдесят четвертой школы?
– Я не мальчик.
– Девочке тем более опасно. Где ты живешь?
– На проспекте.
– Пойдем, я провожу тебя до дому.
Они выходят на проспект, залитый холодным светом. Потоки людей, автомобилей, пригоревшая манная каша под ногами, фонтаны грязи из–под колес, хлопающие двери магазинов: час пик.
– Куда тебе?
– В кино. У меня билет в кино.
– Тебя там кто–то ждет? Ты одна пойдешь в кино?
– Нет.
Девчонка врет, учительница досадует. Но надо довести ее до кинотеатра. Совершенно обыкновенный подросток. Ничем не пахнет…
Они почти дошли до кинотеатра. Тут удобный проходной двор: сразу выходишь к трамваю. Света останавливается, ищет слова, не находит…
Девочка ждет, поглядывая искоса, улыбается странно, отворачивается…
Издает густой вибрирующий звук, и еще – покороче, с булькающим переливом в конце, опять смотрит Свете в лицо, нагло улыбаясь, заложив руки в карманы…
Свету, кажется, сейчас стошнит. Она бросается под арку, прислоняется лбом к шершавой стене, считает до сорока…
Полегчало. Она возвращается на проспект. Девчонки след простыл.
«Надо бы зайти в кафе выпить соку», – думает Света, но, вспомнив, что потеряла кошелек, ныряет во двор и почти бегом, за минуту, доходит до остановки.
Трамвай переполнен. Света стоит в среднем ряду без опоры, прижимая легкую сумку к боку, и по ногам ее, мокрым насквозь, бегут мурашки тревоги. «Она нарочно, – медленно думает Света. – Она это делает нарочно». Тошнота подступила к горлу. Света теряет сознание. Ноги ее подгибаются, и она тяжело оседает книзу, отпустив сумку. Одетый в полушубок мужчина из первого ряда резко поворачивается, вильнув «дипломатом», и ударяет кованым углом по Светиному колену. Боль возвращает ей сознание; Света выпрямляется и внимательно, напрягая зрение, глядит на заросшую черным широкую мужскую шею, вырастающую из рыжей овчины, налитую кровью и силой, багровую, в пупырышках аллергии…
Света закрывает глаза.
Дома она долго стоит под горячим душем. Дверь ванной распахнута настежь, и Света может слышать музыку, на фоне которой проходят по экрану телевизора титры старой итальянской мелодрамы, наверное, бывшей когда–то в советском прокате, потому что музыка знакома Свете. Она о чем–то напоминает.
Начинаются новости. Света прислушивается, выключив воду. Война еще идет на Кавказе. Идут слухи об отставке министра обороны. Идут переговоры между сербами и хорватами. Прошла демонстрация протеста в Москве. Нет, не в Москве, а в Минске. В Белоруссии у Светы живут родственники, но она с ними незнакома. После маминой смерти оттуда пришло письмо. Света не прочитала его. Где–то оно валяется в квартире, надо бы найти…
Идет юбилейный спектакль… проходит смотр… стартует чемпионат… идет снег… надвигается циклон…
Во Владивостоке… В Иркутске… В Красноярске…
На Урале… В Поволжье… На Кавказе… В странах Балтии… В Санкт – Петербурге…
Света включает воду и садится под душем, обняв колени. Ей жарко. Мыслей нет. Телефон звонит, потом замолкает, опять звонит. Света, встряхнувшись как собака, пробегает в комнату и снимает трубку. С волос ее на пол стекают теплые струйки.
– Да! – говорит она.
– Я был неправ, – гудит в трубке.
– Нет, – говорит себе Света и кладет трубку у телефона.
Она возвращается в ванную, включает холодную воду и долго стоит под душем, пока может терпеть.
Халат белый, как снег, мягкий, как пух. Плед на тахте уютный, тяжелый. По телевизору транслируется «Норма» Беллини. «Эта ария… – думает Света, – эта ария – лучшее, что я слышала в жизни».
Дослушав арию, она выключает телевизор и подходит к телефону. Она решила позвонить Инге. Возможно, та еще не успела уехать. Света не помнит номера. Записная книжка заложена перчаткой – чужой. Перчатка коробится от высохшей грязи. Света трет ее и бьет, потом встряхивает…
Что–то маленькое и легкое вылетает из кожаного раструба и падает к ее ногам.
Света наклоняется, подбирает упавшее – кусочек стекла? камень? – и кладет на ладонь. В прихожей темно. Легкий камушек, выпавший из перчатки, искрится, поймав тонкий луч, отразившийся от зеркала, висящего в простенке. Шагнув в комнату, Света подносит его к глазам. Он прозрачен, бесцветен и играет гранями, как лопастями винта. Света никогда не видела таких камней. Она крутит находку в щепоти…
«Как же? Сняла вместе с перчаткой… Где–то у мамы был альбом «Самоцветы». Но это не самоцвет. Алмаз?..»
Взглянув на телефон с трубкой, лежащей рядом, Света вспоминает, что собиралась позвонить Инге. Она опускает камень в карман халата, берет трубку и несколько секунд слушает короткий пульс гудков в ней. Быстро нажав на рычаг, Света набирает код, мало веря в то, что застанет девушку дома. Инга выходит замуж. Ей двадцать пять… Отсчитав двадцать пять гудков, Света вешает трубку. Сразу звонит телефон. Приподняв трубку, Света мягко роняет ее на рычаг и выдергивает провод из розетки. Она забыла о камне, утонувшем в кармане халата.
«Хороший у меня халат, – опять подумала Света и легла на тахту. – И плед у меня замечательно уютный. Как замечательно, что я купила его пять лет назад, когда все было дешево. Я тогда переплатила…»
Света хочет вспомнить, сколько она тогда переплатила за плед, но у нее не получается. Подобрав колени к самому подбородку, она притворяется, что замерзла, и поэтомужестоко дрожит под тяжелым пледом.
“«Ябылнеправ», – мерзкое какое сочетание звуков!»
Света в отвращении передергивает плечами.
«Эта «ы»! Хуже нет гласной во всех языках. А это безударное «е», не ставшее «и»? Почти что мягкий знак, заикание, икота… «А» – властолюбивое, норовит растянуть себя, намекнуть, что способно кричать и даже петь, а само так пугливо обрывается, чуть только «в» фыркнет на него построже. «Я» же вообще не буква. После «я» следует делать маленькую паузу – извиняться за него. Есть в нем нечто неприличное, в тихом этом «я». А как оно выйдет по–английски? Чуть красивее, но, в принципе, то же самое. А насчет девочки нужно с кем–нибудь поговорить. Возможно, с детским психиатром…»
Она согрелась и уснула. В кармане ее халата лежит алмаз. Утром она вспомнит о нем, наткнувшись на перчатку. Она проверит силу алмаза на оконном стекле. Царапина выйдет глубокой и прямой. Сейчас Света спит. Сны не тревожат ее. За два часа до сна она принимает хорошую таблетку. Она спит со снотворным уже несколько месяцев, с лета. Запасы его подходят к концу, и денег нет возобновить их. Но Свету не страшит будущее. Она сильный человек. Как привыкла, так и отвыкнет. А сны…
Это же просто ночные мысли!
Вот отчего Света столько думает днем. Она не видит снов.
PAST INDEFINITE
(ПРОШЕДШЕЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ)
Прошлой весной и летом, когда умирала мама, Свету замучили сны. Она спала урывками, по два–три часа в день, не больше, но, если б это было возможно, согласилась бы совсем не спать, так тяжелы были ей ночные пробуждения в полумраке комнаты, наполненной стонами матери. Сны повторялись, обменивались сюжетами, пейзажами, приходили по двое, по трое, сплетались, прятали лица, но, снявши маски, заставляли Свету узнать себя и удалялись поодиночке, чтобы вернуться вновь в новом или прежнем обличье.
Был сон, возвращавшийся чаще других. Был он короток, ярок и резко отличен от прочих. Он приходил один – пугать. Очнувшись от этого сна, Света силилась облегченно улыбнуться, ибо жизнь, принимая ее в холодные объятия – строгая, требовательная жизнь, окружившая мамину агонию и весну, равнодушную к смерти, машинально–печальная, безнадежно долгая жизнь, – представала перед очнувшейся Светой великолепной, торжествующей правдой, тогда как кошмар, только что бывший явью, обращался в ничтожную ложь, рассыпался прахом и не мог, не должен был повториться.
Но сон повторялся. Он настигал ее то на одном, то на другом витке прошлого; то во вчерашнем дне; то в тесной игровой комнате ее раннего детства, шевелящейся тенями на стенах; то на пороге юности; то в летнем празднике счастливой любви на берегу спокойного моря; то в будущем, сухом и топком, чадящем торфяным дымом; менялось время года, суток, менялось число ее лет и число людей, обступивших ее, оцепеневшую в центре сна; менялись причины, по которым она должна была помещаться именно в центре, в средоточии происходящего (ей не дано было увильнуть, мимикрировать, вывернуть сон наизнанку – умереть, в конце концов!), – не менялось одно – ее полное выпадение из мира этих людей, когда–то любимых или нелюбимых, а часто – презираемых, но все равно – людей, человеческих детей, рожденных жизнью и рождающих ее, тогда как Света, мечущаяся меж ними, сомкнувшими ряды, подступавшими, уже не была человеком. Была она… Она была – ничем.
Нет! Даже не призраком металась она от лица к лицу, взмахивая полами плаща! И не ведьмой кралась она, когда в отчаянии спешила уничтожить, сгубить маленького ребенка, едва вставшего на ноги, розового от зари, горящей над городом, по которому передвигался он на паучьих лапках, спасаясь от нее! Не могла она быть и ангелом, парившим на черных крыльях над людной площадью, удовлетворенно следившим, как падают и застывают в скрюченных позах нагие, неизвестные ему потомки, благодарно взглядывая на небо!
Она была ничем. Она была тем последним ничем, за чьей смертью останавливается все и чья немота лишает смысла все слова, когда–либо произнесенные человеческими губами. С пальцем, перечеркнувшим щель рта, летела Света над опустевшим городом, и вина, черная, неискупимая вина жила в ней единственной дрожащей каплей крови.
Капля вытекала, повисала и падала, окрасив туман, заслонивший Землю от Светиных глаз. Света рушилась и ломалась, привставала на колени; становилась собой; вспоминала, кого убила она вчерашней ночью под мостом бездумно и злобно. Струсив при виде рядов любимых лиц (как много ей снилось любимых лиц, когда умирала мать!), она искала для себя оправданий, но знала, увернувшись, убегая, прячась в земляной яме, что оправдания нет.
Она просыпалась в поту. Мать стонала и просила пить. Света, счастливая жизнью, смотрела, как льется щедрым потоком вода из кувшина, звонко ставила кувшин на стол, поила мать, приподняв ее невесомую голову над подушкой, улыбалась, если мама открывала глаза, улыбалась…
Улыбалась.
«Как только я умру, – сказала мама с хлопотливой интонацией, – сразу же продезинфицируй квартиру».
Она говорила это часто и так же беспомощно и строго, как говорила, провожая Свету в отпуск: «Как только приедешь, сразу дай телеграмму!», или, отправляя на экзамен: «Как только сдашь, сразу позвони», или темным утром зимних будней, перед Светиным выходом из дому: «Как только подойдет трамвай, помаши мне рукой. Я буду знать, что ты дошла».
Окна их квартиры выходили на перекресток. Мама могла видеть Свету в негустой толпе, ожидающей трамвай. Она вставала к окну и смотрела до самого лета. Летом она уже не вставала. Но тогда Света почти не выходила из дому. Мама умерла в июле, ночью. С той ночи Света больше не видит снов. Она засыпает и пробуждается так же легко, как включает и выключает светильник, повешенный низко над креслом, звенящий по утрам хрустальными подвесками, если Света, проходя мимо, бездумно или раздумчиво проводит по ним указательным пальцем.
РRESENT CONTINUOUS
Утром Света в последний раз обыскивает прихожую. Кошелька нет. Чужая перчатка свисает с подзеркальника. Она похожа на отрубленную высохшую руку чернокожего невольника. Света, полюбовавшись камнем, вкладывает его в чехольчик для безымянного пальца и туго перевязывает перчатку ниткой у основания.
Хлопнув дверью парадной, Света спешит к остановке. Она улыбается. Утром у нее всегда хорошее настроение. Мороз сегодня небольшой. Света снимает тяжелую шапку и несет в руках. Безветрие. Света выдергивает две шпильки, на которых держится ее несложная прическа, и с наслаждением встряхивает волосами. Медленно, ритмично: влево, вправо, влево…
Улица и проспект пустынны. Только на углу, на противоположной стороне, поблескивая стеклами, урчит мотором красный «Москвич». Вот он задрожал, тронулся с места, приоткрыл дверцу, показал руку, плечо, букет желтых роз в сверкающей оболочке…
Света ускоряет шаг, спотыкается, почти падает, но, оттолкнувшись рукой от земли, как спринтер в низком старте, выпрямляется и бежит к трамваю.
Она успевает.
Женщина в норковой шубке стоит на задней площадке, держась за поручень голой рукой.
– Простите, – спрашивает Света, – это не вы потеряли вчера перчатку в трамвае? – Она протягивает женщине перчатку, перевязанную ниткой у основания.
Женщина взглянула:
– Нет, не я.
Она совсем не так молода, как думалось Свете. Блестящий мех делает ее моложе. Обручальное кольцо с голубым камнем звонко ударяется о сталь поручня, когда женщина, отвернувшись, спускается на нижнюю ступеньку. Она достает из рукава пару перчаток и натягивает их. Левой рукой она вцепляется в борт, а правую плотно прижимает к дверной створке, чтобы надавить ею, расширяя щель, как только трамвай остановится.
– Спасибо коммунистам, метро успели построить, – бурчит себе под нос женщина, изготавливаясь к прыжку.
Трамвай встал. Света прячет перчатку в карман и торопится занять место у окна. Она недоумевает. Ей весело: высказанная пассажиркой благодарность к коммунистическим властям насмешила ее.
Люди заполняют вагон.
«Вот те раз! – думает улыбающаяся Света, так и сяк крутя камушек в пальцах. – Не хочет признаваться. Возможно, принимает меня за наводчицу. Ишь, как побежала! Беги–беги, милая, не езди трамваями, раз такая богатая».
Света гладит алмаз:
«Бижутерия? Чехи умели делать. Спасибо чехам…»
Она проводит камнем по стеклу. Беззвучно, как по коже, режет алмаз. Свет фар скользит за окном, зажигая грани. Красный «Москвич» тормозит у светофора. Розы в ослепительной фольге жмутся к лобовому стеклу, липнут друг к другу. «Москвич» рвет на желтый, букет соскальзывает и падает, трамвай трогается, Света прячет алмаз, надевает шапку, поднимает воротник, достает учебник английского для восьмых классов и, пролистав до середины, задумывается.
«Present perfect12, – думает Света по–английски. – Уже случилось. Случилось недавно. Случилось только что. Я имею это случившимся. Я имею… Я…»
Пробка на узком мосту. Трамвай, звеня, прокладывает путь сквозь полчища рывками ползущих машин. Трамвай прорывается на тот берег, но, добежав до поворота, утыкается в неподвижную дугу вставших в затылок друг другу своих двойников. Поредевшая толпа капля за каплей вытекает из дверей. Света покидает трамвай последней. Она почти не опаздывает. Сегодня она вышла из дому на несколько минут раньше обычного, боясь не застать на остановке женщину в норковой шубке, боясь опоздать, боясь…
Ничего не боясь больше, Света перебегает улицу, запруженную транспортом, и сразу находит нужный переулок.
PRESENT PERFECT
Она не опоздала. Она успела и в учительскую за журналом. Подавая журнал, завуч спросила:
– Вы уже сдали деньги на Ингу?
– На Ингу? – Света расстроилась. – Это сегодня нужно сделать?
– Разумеется. На большой перемене Инга устраивает «отвальную». Сережа побежал за цветами. Вы ему потом отдайте.
– Сколько?
Завуч называет минимальную сумму. Света злится.
– Подумать только! – с воодушевлением восклицает завуч, мечтательно подперев щеку рукой. – Лос – Анджелес! Так далеко от нас еще никто не забирался…
«Чего она радуется? – раздраженно недоумевает Света, поднимаясь по лестнице. – Чему она радуется! Кто ей будет детей учить? Лидия всегда болеет. Таисия – на сносях. Я… Я – скоро уволюсь. Уволюсь!»
«Я уволюсь», – быстро подумала Света, столкнувшись в коридоре со своей тезкой из седьмого «А».
Девочка отвела глаза и не поздоровалась.
«Вонючка! – сказала ей Света неслышно. – Маленькая вонючка».
Ей было нехорошо, но все прошло, как только отзвонил звонок.
Отвальная для Инги удалась как никогда. Инга пришла с шампанским и пирожными. При виде пирожного Свету затошнило, но она заставила себя съесть половинку. «Больше не захочется», – злобно подумалось ей. День не заладился. Только что восьмой класс сорвал ее урок. Завуч еще не успела узнать об этом.
Директриса преподнесла Инге огромный букет мокрых роз. Света сосчитала головки и прикинула, сколько лепестков придется оплатить лично ей.
«Сколько я вам должна за цветы?» – шепотом спросила она у учителя физкультуры, стоявшего рядом. «Пустяки, Светочка», – отмахнулся тот и пошел целовать Ингу.
Ингу целовали в очередь. Особенно усердствовала в поцелуях пожилая учительница труда. Она работала в гимназии недолго, и это были ее первые проводы. Старушка чуть не плакала от умиления. Казалось, еще минута, и она завоет, как на деревенской свадьбе: «Ох, да куда ж ты, кровинушка, уходишь, да за кем тебе век вековать!» Инга еле терпела. Ее оживленно блуждающий взгляд наткнулся на Светин, равнодушный, и опустился устало.
В промежутках между поцелуями Инга выглядела совершенно счастливой. Ей подарили самовар, и она умчалась, хлопнув на прощание дверью. Тут только вспомнила Света, о чем ей надо было поговорить с Ингой. Но было поздно. Завтра свадьба, послезавтра – самолет.
«Good luck»13, – шепнула Света, забывая об Инге.
Ей поручили вымыть бокалы. У нее было «окно». Физкультурник помог собрать посуду. «Все–таки сколько я вам должна?» – опять приступила к нему Света. «Да бросьте, – сказал физкультурник. – Я вам сто таких букетов подарю. Только попросите». – «Серьезно?» – удивилась Света. «Насколько это возможно», – без улыбки ответил физкультурник.
Ответ понравился ей. Она вспомнила про потерянный кошелек.
«Лучше одолжите мне денег до зарплаты», – кокетливо взглянув на учителя поверх бокала, предложила она. «С удовольствием», – обрадовался он и полез за бумажником.
Прозвенел звонок. Света понесла посуду к раковине. Физкультурник, хлопая в ладоши, побежал по коридору, собирая в строй первоклассников. Начальные классы занимались физкультурой в рекреации второго этажа. В старших классах зимой физкультура была отменена, так как спортивный зал второй год ремонтировался. Света жалела учителя физкультуры. Он организовал теннисную секцию, но не смог пробить корт. Он вел шахматный кружок, но занятия кружка посещали только Ростислав Письман и еще один мальчик из третьего класса. Силы были неравны. Споласкивая бокалы, Света слушала, как физкультурник громко считает шаги первоклассников: «Раз–два–три-четыре! А теперь – змейкой, по коридору, и обратно, на носочках, на пяточках, на полной ступне…»
«Недолго он тут поработает, – размышляла Света. – Такой молодой, энергичный! Детей любит. Не мне чета. Не чета мне…»
– Вам на кольцо? – спросил ее учитель физкультуры на школьном крыльце. – Я провожу.
Красный «Москвич» с настежь распахнутой дверцей ждал у поворота. Увядшие розы лежали, рассыпавшись, на переднем сиденье. У багажника, вытирая руки тряпьем…
– Отлично, – сказала Света и взяла учителя под руку. – Какая метель!
Метель, как всегда, разыгралась нешуточная.
PAST INDEFINITE
Такое бывало с ними и раньше. Так было несколько раз. Они расставались – на неделю, на месяц, на год, – когда тяжело, с болью и обидой в душе, а когда легко, беззаботно и ласково, простив себе обманувшее прошлое, уверенные во всесилии будущего, в котором они должны были двигаться врозь.
С первых мгновений разлуки Игорь переставал помнить ее лицо. Вернее сказать, он помнил ее лицо исключительно, помнил его как отсутствующее отныне в мире, где у всех женщин, встречавшихся ему, были другие, не ее лица, так что в первые недели после расставания эти женщины казались ему похожими друг на друга, неразличимыми, как дочери–близнецы некой сверхъестественно плодовитой матери, одной из двух, а третьей не существовало.
Если разлука длилась долго, он привыкал к темному пятну, заместившему Свету в его памяти. Заново, будто недавно прозревший, он учился различать черты женских лиц, приблизившихся к нему. Он выбирал лица меланхолические и флегматичные; спокойные, вялые лица, почти не умеющие улыбаться. Он приглядывался к женщинам, чьи улыбки были резки и коротки, как просветы на небе в метельном феврале, как любовные свидания старика, как приказы, посылающие на смерть. У него никогда не получалось не помнить ее улыбки.
В одну из таких разлук Игорь женился.
В другую он тяжело заболел и, выйдя из госпиталя, где провалялся зиму, – опухший, раздувшийся от неумеренных доз гормональных препаратов, поставивших его на ноги, – вдруг запил, завел двух любовниц (молоденькую и постарше, и каждая знала, скрывая свое знание от него, о том, что является дублем), перестал жить с женой (женщиной–ровесницей, отдававшей все запасы тепла, сохраненные ей несчастным браком, болезненному мальчику, сыну Игоря), задумался о разводе, но скоро отмел эту мысль, так как жена, не требуя многого (в отличие от любовниц), в чем–то скрашивала его жизнь, терявшую вкус и цвет в тот самый день, как они расставались со Светой.
Разлуки… Игорь потерял им счет, но помнил каждую – не памятью сознания, а той памятью, какой обладает наше детство, способное по запаху вспомнить себя на пороге старости, даже смерти, – даже по блику, отброшенному на стену стеклом открывающегося окна, способен умирающий узнать час и миг своего младенчества, когда, еще не умея говорить и понимать, он понял сам и улыбнулся гордо, что вот это, блеснувшее издалека и разлетевшееся по стене бесшумной погремушкой световых пятен, есть солнце и жизнь, пусть щекочет и плавит щеку, пусть зажмуривает глаза и обманывает призрачной пляской… «Дай! – улыбнется умирающий, забывший, не живший. – Дай!..»
И шарит рука по шершавой стене, и вспоминает, и помнит…
Разлука. Вечная. Навсегда.
Существовало нечто в каждой из разлук, пережитых ими (какое–то плотное ядро в вязкой мякоти недель и месяцев, видимое ясно, как виноградная косточка, если ягоду рассматривать на свет), – нечто случайное и вместе с тем неизбежное, некий подвижный, на них отрабатываемый закон, по которому рано или поздно они опять сходились на перекрестках города и лицо Светы, дрогнув, возвращалось на место, легко заполняя пустоту, сбереженную для него. Брызгал сок, виноградная сладость таяла на языке, проглатывалась косточка, и они забывали причину, склонившую их к разлуке, забывали и случай, сведший их в неизбежном настоящем; они не помнили, кто из них сделал тот первый, уверенный шаг из толпы, двумя встречными потоками текущей по проспекту, – шаг на невидимую, почти несуществующую тропинку посредине тротуара, на границе потоков, совершенно безлюдную, – шаг, после которого оставалось совершить немногое: взяться за руки и уходить.
Как–то года через два после их первой встречи и месяца через два после первого разрыва (бесповоротного, как казалось им) Игорь поднимался бегом по лестнице эскалатора, левой рукой отмечая каждый свой шаг на ползущем бортике. Света спускалась навстречу по смежной лестнице, как он, считая шаги мимолетными прикосновениями пальцев к резине. Он узнал ее по руке и остановился, бросив взгляд через плечо. Она пошла медленнее, помешкала, отступила в правый, неподвижный ряд, давая дорогу бегущим, оглянулась и улыбнулась искательно как–то, но весело, даже шутливо, и сердце его, стучавшее рывками, через силу, успокоилось мгновенно, словно маятник сбившихся с ходу часов, остановленный объятием ладони, и пошло стучать дальше, двигая время ритмично и легко, радостно и свободно, точно, – так как рука, прежде чем толкнуть его, установила стрелки на правильных цифрах.
Он выскочил из павильона метро, выбрал несколько светлых роз с прозрачными лепестками и влажными длинными стеблями (он исколол себе руки, выбирая, но только отмахнулся, когда продавец предложил завернуть цветы в газету), схватил такси и встретил ее на выходе с эскалатора.
Молча вытянул он ее за рукав из толпы и заглянул, хмурясь, в улыбающиеся глаза…
И долго, целую минуту, стояли они в тупичке меж стеклянных дверей, передавая букет из рук в руки, вспоминая слова, дорогие обоим, но не произнося их. Долго – пока она не взяла его за руку.
Розы роняли лепестки на асфальт. Они не дожили до утра. Утром Света собрала осыпавшийся цвет и разложила на солнечном подоконнике.
«Будем пить чай, – сказала она. – Зимой. Желтые розы долго не стоят. Когда мы увидимся?»
«Когда мы увидимся?» – спрашивала она, держа шпильки в зубах, отвернувшись от зеркала.
«Когда мы увидимся?» – взглядывая на календарь наручных часов, раздумывал он и набирал ее номер.
«Когда мы увидимся?» – хором спросили они друг друга на платформе Московского вокзала, покинув вагон, домчавший их так преступно быстро сюда, на север, – из приморского игрушечного городка, где они не успели, как ни старались, устать друг от друга…
«Я позвоню…»
«Прости, я не могу, болеет мама…»
«Я позвоню…»
«Когда мы увидимся?..»
«Когда мы увидимся?»
– Никогда, – бросала она, но не верила себе.
– Никогда, – решал он, забывая ее лицо без улыбки.
– Никогда, – сухо ответила Света на его небрежный вопрос, не подумывает ли она о ребенке. – Я не могу иметь детей. Будь спокоен.
И он был спокоен с ней. Только… Если она улыбалась…
Ухаживая за умирающей матерью, Света улыбалась ей одной. Последние же осень и зиму улыбка почти не сходила с ее губ. Увидев эту улыбку впервые после годичной без малого разлуки, Игорь готов был заплакать. Света исхудала так, что узел на затылке оттягивал ей голову назад. Челка не скрывала морщин, а скулы пожелтели и стали прозрачными, как папиросная бумага. Казалось, прикоснись к ним, и раздастся легкий шорох. Но – удивительно! – он удивлялся так при всякой встрече, как бы далеко ни отстояла она от момента расставания: Света была моложе, чем год назад, когда, расставаясь с ним… возясь с замком задней дверцы его машины, а он сидел, не оборачиваясь, и все давил потухший окурок в пепельнице, а она сказала: «Никогда. Прости. У меня кончились силы. Я не хочу любить. Прости…»
В хрупкой, не совсем здоровой ее молодости находил Игорь источник вечной своей тяги к разрушению, к расщеплению чувства, проникавшего в него глубже и глубже; к растворению его в незначительных, на весах их отношений, но отягощенных последствиями непоправимыми поступках – вроде женитьбы «на скорую руку» или недолгой, разочаровавшей службы в армии в качестве военного переводчика (там он подхватил малярию, там впервые попробовал мечтать о совместной жизни со Светой, но и мечты не получались, так как Света, настоящая, ускользала от него, и невозможно было понять причину)…
И вместе с тем он знал (он никогда не ошибался в главном), что эта неумирающая молодость с пергаментной кожей на скулах была его свободой, его личным выбором, его и больше ничьей женщиной, и, думая обо всем этом в пустой тесноте автомобиля, всем весом надавив на руль, прижавшись к нему грудью (так что медленный бой сердца отзывался в рокоте мотора, работавшего на холостом ходу), думая о своей единственности и свободе, он терял, искал, находил и вновь терял, находил, ис…
Источник вечной тяги своей…
Так было и раньше. Было и раньше. Раньше. (Ньше. Ше.)
«Никогда, – сказала она неделю назад, закрывая за ним дверь. – Никогда больше». (Льше. Ше.)
Он все не мог поверить. Улыбка, отделившаяся от ее лица, как собственный вздох в темноте отделен от груди, проступала на его запястье пигментным пятном, плавала бликами в лобовом стекле автомобиля, тянулась длительной паузой меж двумя гудками в телефонной трубке, оставленной им до утра качаться на запутавшемся проводе. Он считал дни разлуки. Их было еще так мало, зимних этих, коротких дней. Увидев ее на крыльце школы, поймав взгляд ее, жалобный и беспощадный, он успокоился, выбросил розы на снег и забыл ее лицо.
Так было никогда больше.