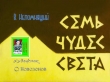Текст книги "Мизери"
Автор книги: Галина Докса
Жанры:
Прочая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
REFLECTIVE VERB (6)
(возвратный глагол)
Разговор в учительской в первый понедельник марта журчал, как весенний ручеек.
– А все–таки, несмотря ни на что, праздник есть праздник! – бодро закончила Валерия Викторовна какое–то не очень, судя по интонации, безрадостное сообщение.
– Да! Да! – поддержала ее вошедшая Светлана Петровна. – Замечательный праздник! Меня так умиляют мальчишки… Знаете, по–моему, мои в первый раз увлеклись этой идеей…
– Идеей чего? – переспросила Валерия Викторовна.
Валерия недолюбливала Свету и, кажется, немножко презирала, но свое раздражение, возникавшее всякий раз, как Света открывала рот (а в последнее время эта чудачка, странно, стала вдруг на удивление разговорчива в учительской), принимала за приступ нескромного любопытства, каковое, как человек воспитанный и незлой, всеми силами старалась не выказывать. Но иной раз не захочешь, а спросишь:
– Идеей театра, что ли? Как у вас, кстати, – успеваете? Почем билеты?
– Членам профсоюза – скидка! – бросил, входя, учитель физкультуры и подмигнул Свете.
Света неотрывно–мечтательно глядела на Валерию, по–видимому, додумывая мысль, которую ей не дали высказать. На Валерии была надета пушистая кофточка небесно–голубого цвета: огромная, мягкая, вздымающаяся на груди плавной выпуклостью, с белым вывязанным цветком у плеча… Как ткань небес… «Пушистых небес, ведь небо весной пушистое, – подумала Света. – Ранней весной… Не весной, а зимой, когда из голубой прогалины, как сегодня, вдруг посыплется что–то мелкое, сухонькое, пахучее, как нафталин…»
– Сегодня репетируем, Светлана Петровна? – спросил учитель физкультуры и тем вывел ее из задумчивости.
– Нет, хватит. Дети жутко устали. Смит их загонял совсем. Я его изолировала до завтрашнего дня.
Вошел Дэвид Смит и отвесил общий поклон. Это отвлекло внимание Валерии Викторовны от учителя физкультуры, за которым она придирчиво наблюдала, пока Света, положив ему на сгиб локтя волнующуюся, доверчивую руку, делилась с ним своими несложными мыслями. В гимназии почти не было мужчин–преподавателей. Учитель труда редко поднимался наверх из своего подвала. Самуил Аронович был старик. Кроме учителя физкультуры да вот этого иностранца с повадками хиппи, не на ком было остановить скучающий взгляд пожилой больной женщине из породы бескорыстных сводниц. Внешне Света чрезвычайно нравилась Валерии. Она от души желала ей счастья. Милая, несчастная… Дурочка… Какая–нибудь роковая связь, как всегда у нашей сестры… Нет, не клюет. И тот ест глазами, и этот, сопляк, так и ест со своего жирафьего роста… Ну, он нам не пара… Эх! Будь Самуил Аронович помоложе, да не еврей, да…
– Дэвид! – изумилась Света, заметив вошедшего юношу. – Вы же должны быть на экскурсии!
Учитель физкультуры покинул учительскую. Вошел Самуил Аронович. Света подергала Смита за рукав:
– Что случилось?
Дэвид виновато оправдывался. Он ночью вспомнил, что у трона Царевны спинка держится на одном гвозде. Потом он в воскресенье откопал одну интересную вещь. Борис ему посоветовал…
– Вот слушайте!
– Ничего не желаю слушать! Никаких изменений: ни в костюмах, ни в мизансценах. Лучшее – враг хорошего. Так и запишите. Это любимое выражение Станиславского. Борис вам подтвердит. Да! Вот – Самуил Аронович. Проконсультируйтесь у него!
Самуил Аронович в испуге замахал руками. В процессе постановки Дэвид Смит столько раз консультировался у него по вопросам русской истории (интересуясь более всего старинным русским костюмом, русскими обычаями и заодно уж русским менталитетом), что бедный историк под конец начал бегать от своего молодого коллеги, который так поднаторел в языке, что к марту мог уже обходиться без переводчика. Однако в данном случае вопрос был слишком сложен, и Света предложила свои услуги. Речь шла о русской косе, точнее, об уникальном способе плетения косы, описание которого Дэвид с помощью своего хозяина Бориса вычитал из романа Алексея Константиновича Толстого «Князь Серебряный».
Дэвид раскрыл роман на нужной странице и заставил Самуила Ароновича ознакомиться с технологией плетения. Света отговорилась хорошим знанием текста (она и вправду с детства помнила то красивое место в романе, где боярыня Елена плетет своей девушке тысячепрядную косу, и помнила также, что тогда, в шестнадцатом, умелом веке ушло у Елены на Пашенькин убор чуть не целое утро). Самуил Аронович внимательно прочитал сцену и похлопал Дэвида по плечу:
– Плетите!
Света укоризненно покачала головой. Самуил Аронович поступал жестоко по отношению к ней и, главное, к Свете Тищенко. «Ну, это мы еще посмотрим!» – возмутилась Света, однако порешила отложить спор до вечернего «прогона» (слово «прогон» не сходило у Смита с языка), которого, как ни крути, избежать не удавалось.
– Нет, он у вас настоящий фанатик! – воскликнула учительница труда, со жгучим интересом следившая за беседой. – На таких вот все и держится. А вам не нужна помощь? Пошить чего–нибудь, а? У меня в девятом три ученицы прекрасно шьют… Кстати, девятые безумно завидуют вашему седьмому «А». Девочки заглядываются на… – И старушка качнулась в сторону Дэвида Смита.
– Тише, Прасковья Степановна, – шепнула Света. – Он все понимает.
– Надо же, какой способный! А ведь ни словечка не знал, Светочка… Вот что значит возраст… Охо–хо… А о какой идее вы говорили? Что ваши мальчики увлеклись подарками девочкам к празднику? А девочки им дарили на двадцать третье февраля? Мне, знаете, дали пятый… Такие несмышленыши! Дерутся еще. Девочки бьют мальчиков – представляете?
– И правильно делают, – сказала Света, отсылая Дэвида. – Идите прибивать вашу спинку, Дэвид. Насчет спинки вы совершенно правы. Ну, а насчет косы мы поговорим после уроков. Да, вы будете проводить уроки? Раз уж заявились…
Но Дэвида простыл и след.
Перемена подходила к концу. Учительская пустела. Ушла Валерия, ушла Прасковья Степановна. Шестые у нее сегодня учились лепить пельмени. Прасковья Степановна придумала, что она увлечет девочек идеей угостить этими пельменями седьмой «А» после премьеры. До премьеры оставалось полтора дня.
«Всего полтора дня! – вслух ужаснулась Света. – Какое счастье, что я отделалась от синхронного перевода!»
(В учительской не осталось никого, кроме Самуила Ароновича.)
«Все же в существовании этого бессмысленного компьютерного класса есть смысл. Надо не забыть зайти к Ирине за распечатками. Сколько там, мы считали?.. Не донесу… Программки с текстом пьесы мы положим у входа в зал на двух столиках. Зрители разберут сами… Ах, как я устала! Поскорее бы все кончилось!»
– У вас окно, Светочка? – спросил из угла улыбающийся Самуил Аронович. – Что–то вы давно не посещали моих уроков. Театр вас совершенно полонил… Молодой человек чрезвычайно располагает к себе. Даже при моем с молоком матери всосанном страхе перед иностранцами я не в силах противиться его обаянию…
Света плохо понимала, о чем говорит ей Самуил Аронович. Какой–то страх, какое–то обаяние… Она действительно давно не сидела у него на уроке. Театральная страда «захлопывала» все ее окна… Зайти, что ли? Ну, что там у него?
– …В одиннадцатом любопытная лекция: русские религиозные философы. Сегодня буду говорить о Владимире Сергеевиче Соловьеве…
(«Соловьев… Кто такой?.. А–а–а, кажется, знаю. Нет, это не для меня, грешной. Сказать по чести, мой Синклит Мира в чем–то крупном опередил Соловьева. Соловьев, если не путаю, какой–то слишком уж русский. Это несовременно. Это старо и опасно. Вот мой Синклит… Однако что это Самуил Аронович взялся за философию? Тоже фанатик… Наверное, Прасковья Степановна от него без ума…»)
– Нет, не окно, Самуил Аронович. К сожалению. Сейчас пойду учить. Восьмой. Ужасный класс. Я их просто боюсь… Вся дрожу – видите?
– Вижу. Вы слишком из–за всего переживаете, Светочка. Будьте спокойнее. Проглотите лягушку.
– Как? – Света засмеялась.
– Лягушку. Обыкновенную холодную лягушку. Сначала вам будет не по себе, но немного погодя лягушка освоится… расположится с удобствами… Смотрите, – Самуил Аронович показал, как надо глотать лягушку.
Света еще посмеялась. Перед тем как открыть ей дверь (сам отступил на шаг и склонился в полупоклоне), Самуил Аронович спросил ее совершенно серьезно:
– А о какой идее вы шептались с Прасковьей Степановной? Я подслушал ненароком… Что–то о мальчиках и девочках…
Вопрос Самуила Ароновича вернул Свете мысль, с которой началось для нее утро понедельника. Она почувствовала благодарность к учителю. Не будь у нее восьмого, она с таким удовольствием пошла б к нему слушать про Владимира Соловьева и его вечную женственность! То есть не его, а его. То есть… Ах, как я устаю иногда! Вдруг, разом, как проваливаюсь в погреб с чердака, лечу, пробив пять этажей гнилого дома… Идея? Ну, что ж…
– Да, мои мальчики увлеклись идеей разделения рода человеческого на два пола… Понимаете?.. Это не половое созревание, они еще мальчики, им годок–другой еще быть мальчиками, и это так славно придумано природой, что мальчики созревают позже девочек, но в виде идеи они этой весной все поняли, как надо. Понимаете, Самуил Аронович?
– Звонок, Светочка! Бегите! Мы заболтались с вами. Дай вам Бог. Кончайте вы скорее с вашим Пятым Интернационалом и отдохните. На вас лица нет от усталости. И помните: вы желанный гость на моих уроках…
Света убежала от него по коридору. Он глядел ей вслед. Света бежала легонько, притворяясь, что быстро идет, чуть припадая на левую ногу. Массивный каблук на левой туфельке шатался. Она бежала вдоль стены и на бегу мимолетно касалась ее рукой, как будто считала шаги. Вот она завернула за угол, споткнулась, покачнулась… удержалась… скрылась из глаз…
Самуил Аронович приложил руку к сердцу и стал медленно подниматься к себе на третий этаж. Его мучила одышка. Самуил Аронович был старик. Он вдовел десятый год. В воскресенье он гулял на свадьбе своей единственной внучки и там перебрал. Самуилу Ароновичу было тяжело и печально. После свадьбы, не позднее чем в мае, молодые покидали Россию и уезжали на жительство в Германию. Самуил Аронович оставался один в большой трехкомнатной квартире в южных новостройках города. Половина его учительских заработков должна была уйти на оплату этой ненужной квартиры. Иногда он чувствовал старость так остро, что ему хотелось умереть. Как сейчас, когда, проводив взглядом молодую, странно юную учительницу английского языка, он, с трудом справляясь с дыханием, поднимался к себе. Он сильно опаздывал и сердился на свои ленивые легкие и непроворные ноги. «Придется скомкать начало, – спешил Самуил Аронович. – Ничего. Как там у него? Истина – добро – красота. О красоте пока скажу вскользь… Только в связи с добром. А истина? Истина, она отложится сама».
* * *
В феврале Игорь отправил семью на Украину. «Навсегда», – сказал ему мертвый, прощальный поцелуй жены. Мальчик кашлял и прыгал с полки на полку в маленьком пространстве купе, которое Игорь оплатил целиком, так как ехать в СВ, а главное – перевозить большое количество долларов в полупустом вагоне СВ с ненадежными дверными замками, открывающимися снаружи легче, чем изнутри, было опасно. Жена везла на Украину крупную сумму. Она зашила множество двадцатидолларовых купюр в женский пояс и везла их на себе. Играя на прощание с мальчиком в тесном купе, опуская и поднимая для него верхние податливо–тяжелые полки, Игорь косился на жену, а она терпеливо ждала у окна, поставив локти на столик, глядя на платформу, по которой пробегали вдоль состава опоздавшие пассажиры. Протопали, переваливаясь, две навьюченные старухи. Пронеслись, хлопая рюкзаками, студенты. Прошествовали, раздвигая коленями воздух, три стройные, без поклажи и забот (видно, чьи–то дочки, а может…), три юные Суламифи в черных лоснящихся колготках. Колготки десятилетия назад вытеснили из обихода чулки, отменив пояса и подвязки, но у жены Игоря чудом сохранился детский ее узенький поясок на две резинки, и, распоров его по швам, вставив широкие лампасы, она за один вечер – последний вечер в Петербурге – соорудила эту страшную пародию на женское белье, еще более страшную оттого, что по бокам толстого, хрустящего в складках, осыпающего кругом себя короткие нитки предмета болтались поломанные резинки – их жена не посмела отрезать в последний момент, когда хвасталась перед Игорем своим созданием, а он, странно дернувшись лицом, смотрел на ее руки, теребившие гнилые эти резинки, и даже сам взял одну и потянул, проверяя упругость. Жена не срезала резинки, сказав, что с ними надежнее, будто опасалась, что ее изнасилуют в поезде, и это было смешно, не те еще были времена… И вот эти растрескавшиеся резинки, качающиеся у бедер (она одевалась в спешке), жалкие, детские эти резинки оказались последним, что помнил хорошего Игорь о жене, за что он, кажется, никогда не получит прощения… Не от нее… Она не знает. Не от мальчика… Он не увидит. От бога?.. Игорь не верил в бога… От Светы. «Он не получит прощения даже от Светы», – думал он, целуя ребенка, жену, ребенка – уже не его, а другого, поправившегося, чужого и здорового, с выгоревшими волосами, плотными щечками – чистыми, без диатезных пятен, – веселого, справного, гарного хлопчика, говорившего «тату» деду и «маты» бабке… Целуя ребенка, Игорь слышал, как хрустит бумага в складках обруча, опоясавшего бедра жены. Они уехали. Он постоял на платформе, поглядел вверх. Начиналась метель. Три черноногие Суламифи прошли мимо него, раздвигая коленями воздух. Три одинаковых коротких песцовых полушубка. Непокрытые головы, помада на детских губах, ботиночки, опушенные мехом у щиколотки, взгляд искоса – на дорогую куртку и безымянный палец правой руки. Игорь проследил взгляд и уставился на свой палец, поросший по первой фаланге темной негустой шерстью. Он не носил кольца. Он был свободен.
Проводив семью, Игорь опять, как прошлым летом, стал на работу и с работы ходить пешком. Уже было светло по утрам и, значит, не опасно. Впрочем, опасность ограбления не пугала бы Игоря и в случае кромешной тьмы, так как, отдав жене все накопления, все имевшиеся в его распоряжении деньги (и еще две тысячи было взято в долг под большие проценты), оставшись, как в молодости, один–одинешенек и нищ (он обрадовался временной нищете, будто освобождению), заменив новую кожаную куртку старой – плащевой (ему плевать было, что подумает сильно обрусевшее к весне общество его коллег; пусть думает, что он решил брать пример с практичных их хозяев, всему предпочитавших ковбойские рубашки и немнущийся «деним»), избавившись на время от денег (даже на бензин не хватало в феврале, и он сослал машину в гараж), отказавшись от дополнительных переводов, которые давали ему тридцать процентов дохода, Игорь мог не бояться ходить пешком по городу не только при свете, но и поздним вечером… перед рассветом… Ночью. Он пристрастился к долгим прогулкам. Кабацкая подневольная служба его к февралю прекратилась за неимением свежих кадров. «Фирмачи», служившие бок о бок с Игорем, давно пресытились Петербургом, а новых не прибыло. Северо – Западный российский филиал немножко сворачивался. Компания готовилась к прыжку в Центральный район с перспективой закрепиться в Москве. Игоря все это не касалось. Он лишь радовался, что стало меньше работы, меньше суеты в кабинетах офиса, меньше выгодных предложений. Он отдыхал и, вдыхая на быстром ходу колкий февральский воздух, понимал, что дышит свободой.
Опять, как летом, город лег ему под ноги серой звездой своих мостовых, распахнул перед ним коридоры проспектов, окружил прозрачными сетями набережных, позволил – или повелел? – желать невозможного. Он бродил и глазел, отвыкнув смотреть, и странное чувство поднималось в нем по мере того, как удлинялся день, раскрывающий ему глаза, и таяла ночь, нянчившая его тоску. Ему чудилось… особенно в тот длинный час перед закатом, совпавший в феврале с суматошной порой возвратных дорог людей, облепивших уличные ларьки в торговой части Садовой, которую пересекал он, задумавшись… в тот незаметный час меж днем и ночью, какой, если отдаться ему, вытащит жилы из твоего нутра и протянет их струнами от городской земли к железным кровлям, как плоские лучи, как голоса дворников, перекликающиеся по вертикали, – сбрасывают оледенелый снег, опасное место огорожено, но он не видит, сбивает заборчик, другой, дальше бредет, невредим, – и чудится ему, что он враг этого дружного мира, что лишь по ошибке, махнув рукой, разрешили ему ходить тут чуть медленнее, чем идут обгоняющие его люди, и проходить мимо мест, где другие остановились, как навечно, и склеились… Ему чудилось…
Он было остановился у застывшей шеренги уличных продавцов, но оторопь взяла его при виде их лиц, молчаливо зазывающих молчаливых покупателей из тех прохожих, кому недосуг открыть неповоротливую дверь магазина, прячущего витрину за спинами длинной шеренги. Прямосмотрящие, как солдаты на параде, с руками, не протянутыми в готовности к уличной сделке, а надменно прижатыми к груди, презрительно–неподвижные, они… Стоп! Эта старуха шевелится. Вот она молча, заприметив остановившегося Игоря, потрясла перед ним парой детских носочков. Он совсем не ожидал. Они стояли как каменные, как атланты, как слепые греческие боги, выступившие из ниш классических зданий… вот такую нишу, пустую, он только что миновал, а здесь в симметричной нише стоит…
Игорь повел взглядом. Старуха замерла, прижав носочки к груди… Кто стоит в дальней нише, белея безголовым телом? Не может быть! Он всмотрелся.
В нише здания неподвижно, чуть улыбаясь, как улыбаются люди от легкого неосознанного удовольствия, стояла молодая девушка в черной вязаной шапочке. Вся она была закрыта огромной прекрасной белой шерстяной шалью. Ног ее не было видно из–под шали, и рук не было видно тоже. Девушка стояла, чуть отвернувшись от улицы, поэтому Игорю показалось издали, будто она безголовая. Но голова смотрела, покачивалась и улыбалась. Игорю стало страшно. Ему уяснилось вдруг с яркостью, равной вспышке молнии, что если он не купит сейчас хоть что–нибудь в ряду неподвижных статуй, выстроившихся по его пути, то…
Он вернулся к старухе с носочками, вытащил деньги, отдал, взял носочки, спрятал в карман… Все молча и быстро… Медленно пошел вдоль строя…
И снова девушка, завернутая в белое облако, смотрит в глаза, улыбается… Да что же это?
– Вы продаете? – спросил он шепотом.
Кивнула.
– Вы – сами? – сглотнул слюну.
Кивнула.
– Вы вязали сами?
Кивнула, показала маленькую ладонь, размотала шаль, повесила на руки. Игорь вздохнул покорно. Купил. Девушка выпрыгнула из ниши и пошла прочь. Сумерки сгустились. Город сжал Игоря стенами, смял и отпустил. Фонарь расцвел у ворот, раздвигая тьму.
«О чем я думал, покупая ее?» – думал Игорь, теребя бахрому.
«Что я должен, зачем и кому?»
«Ведь никто не знает – никто… И эта женщина…»
«И – …»
Он забыл, покупая шаль, что блеснуло последним закатным лучом в окнах мансарды над их головами: «Не купив, я возненавижу…»
Какой ненависти страшится человек в живом городе, слепленном миллионами рук из коричневой глины? Шаль белела в темноте. Петербург рдел, раскрашенный под бледную радугу. Дойдя до места слияния Фонтанки и канала, Игорь повесил шаль на гранитную тумбу набережной и ушел дворами.
* * *
Дэвид Смит был недоволен игрой своих актеров накануне премьеры. Он заставил их «прогнать» спектакль три раза подряд. К финалу третьего прогона дети окончательно выбились из сил. Они путали реплики, говорили громче или тише, чем того желалось Дэвиду, а Слава Письман, сидевший за роялем, перед тем как начать аккомпанировать победному гимну, звучно зевнул на весь зал, так что Дэвид Смит, которого в качестве Духа Мщения в этот именно момент приговаривали к смерти (ибо на сей раз Света Тищенко не пощадила его), Дэвид–дух, взлохмаченный, потный, но не ведающий усталости, оборвал стон отчаяния, обращенный к небесам, и грозно взглянул на тапера. Тот ударил по клавишам; поднялась и опустилась картонная секира; кочан капусты, обтянутый черным чулком, покатился по сцене, достиг края и упал в зал прямо к ногам Светланы Петровны. Светлана Петровна подняла кочан, положила себе на колени и разразилась коротким аплодисментом. Ее тоже мучила зевота, но она крепилась. Дети торопливо допевали «аллилуйю». Бессмертный Дэвид поднялся на ноги и жестом остановил хор.
– Прекрасно! – В голосе его слышна была зловещая фистула гнева, хорошо знакомая всем присутствующим. – Еще раз, начиная со встречи землян с галактианами!
Дети заскулили, ропща. Светлана Петровна проглотила зевок, набрала воздуха в грудь, набралась храбрости и воззвала к совести Дэвида Смита, а также к разуму его и добросердечию. Упрек не возымел действия. Все понимали, что от четвертого прогона труппу может спасти разве лишь землетрясение или визит нянечки, готовящейся запереть школу (последнее событие являлось менее вероятным, нежели первое, поскольку обе гимназические нянечки были подкуплены Дэвидом и находились с ним в тесном нерушимом сговоре). Когда, покорясь неизбежному, англоязычные земляне и шепелявые галактиане лениво задвигались по сцене, расходясь в противоположные ее концы, Светлане Петровне пришло на ум прибегнуть к весьма рискованному, но, видимо, единственному средству прекратить бесконечную репетицию:
– Мистер Смит! – крикнула она. – Вы совсем забыли о косе! Разве мы не должны проверить, насколько реальна эта коса, то есть сколько времени займет у нас ее плетение? Я лично продолжаю утверждать, что от вашей идеи с косой лучше отказаться…
Света выдержала роковую паузу.
– Как это – отказаться? – повернулся к ней Смит. – Без косы мы теряем… – он не договорил.
Света, поспешив принять ясно выраженное возмущение ее дерзким выпадом за согласие с ловко упрятанным в подтекст предложением отменить четвертый «прогон» Смитовой пьесы, вскочила и скомандовала по–русски:
– Все домой – быстро, быстро! Телевизор не смотреть, английский язык не делать, русский тоже не делать: я договорилась с Людмилой Ивановной… Спать лечь не позже десяти вечера… По домам!
Дети попрыгали со сцены и помчались к выходу. Ошеломленный режиссер на время потерял дар речи. Света Тищенко, последней спрыгнувшая со сцены, шла по пустому проходу к двери. Дэвид прыгнул, догнал девочку и схватил ее за косу:
– Куда ты? А коса?
– Можно мне домой? – Девочка обращалась не к Дэвиду, а к Светлане Петровне. – Мне надо. Косу мне завтра заплетут. Марина уже тренировалась на Оле, а Оля на Марине. Не очень долго. Минута – косичка, значит, три минуты – тройная косичка, девять – девятирная. Не больше часа…
Девочка говорила не по–английски, как было бы естественно для нее в присутствии Дэвида, а по–русски и очень тихо. Дэвид с усилием вслушивался в звуки русской речи, и самолюбие его страдало от того, что смысл слов ускользал, оставляя лишь интонацию. Интонация была спокойной, деловой и… какой–то недетской. Конечно, девочка очень устала… Конечно, он «загонял» детей. Мисс права. Он не прав. Лучшее – враг хорошего…
– Иди, Светлана! – приказала Света.
Ей очень хотелось поцеловать девочку, но она никогда в жизни не целовала детей и не знала, как это делается. Поэтому она просто улыбнулась. Девочка не ответила. Светлана Петровна тихонько подтолкнула ее к выходу:
– Иди, иди! Отстанешь от ребят. Завтра займемся твоей косой… – и вдогонку, остановив девочку у самого выхода: – Между прочим, ты могла бы попросить маму заплести тебе косу. Мама справится с этим лучше всех.
Света неловко махнула рукой, прощаясь. Запнулась о порог, схватилась за дверь, сказала: «Мама в больнице» – и скрылась в коридоре. Светлана Петровна погасила улыбку. Вот оно что! Вот почему Света была так странно молчалива на репетиции… «То–то я заподозрила, что она разочаровалась в роли или в Дэвиде: он, дрянь эдакая, был с ней невозможно груб сегодня… Или во мне… Вон оно что!» – подумала Света и взглянула на Дэвида. Дэвид дулся. «Что ж, – вздохнула Света. – Что ж, принимай расплату, мисс Последняя Сцена… Кончится ли это когда–нибудь? Странно, но меня не утомляют его выходки…» И она поспешила оправдаться в содеянном:
– У нее мать заболела. А отец, вы знаете, с ними не живет… Ну, что коса, Дэвид? Может быть, все–таки?.. А?..
– Нет, – отрезал Дэвид по–русски. – Коса будет. Я сейчас все рассчитаю. Садитесь, Светлана.
– Что?
– Я хочу попробовать на ваших волосах… Если позволите.
– Господь с вами, Дэвид! Вы же знаете: мне час добираться до дому, а после восьми вечера и все полтора. Как вам не стыдно!
(«Истинный, высокий, настоящий дух мщения!» – восхитилась Света, признавая поражение. Приходилось покоряться. В открытом споре победа всегда оставалась на стороне ее молодого противника. Надо было поберечь силы для завтрашнего дня.)
– Вам должно быть стыдно, Дэвид!
– Я вам дам денег на такси.
– У меня волосы коротки для такой косы, Дэвид, умоляю!
– Я только начну, только девять девяток сделаю… Сидите ровно.
Чуть не силком он усадил ее на стул, вынул шпильки, расчесал своей частой острой расческой, неимоверно дергая корни, спутавшиеся пряди, и, велев не дышать, приступил к плетению. Света не успела опомниться, как волосы ее с висков были убраны назад и туго схвачены в плетку – так туго, что углы глаз оттянулись к вискам и заломило лоб.
– Ай! Осторожнее!
– Простите, это в последний раз.
Он действительно стал работать осторожнее, спокойнее, кажется, получая истинное удовольствие от своих действий, и даже принялся цедить сквозь зубы какой–то меланхолический мотивчик. Мотивчик убаюкивал Свету, она опять зевнула:
– Дэвид! Ну не мужское это занятие!
– Говорю, сидите ровно! Я быстро плету. У меня большой опыт…
– Работал в парикмахерской?
– Просто у меня пять младших сестер, и у всех – косы. Я люблю заплетать косы…
Света закрыла глаза. Хорошо! Ей показалось, что она, задремав, опустилась глубоко на речное дно, уселась там под корягой, а волосы ее еле–еле ленивой волной колышет течение и нет этой дреме ни конца, ни начала… «Вот так, в сказках пишут, память зачесывают. Как хорошо… Как чудно–хорошо… Никуда б не уходить отсюда… Никакого б мне завтра… Никакого послезавтра… Пятеро сестричек, с ума сойти! А мать, говорил, мне ровесница… Жаль, я не поцеловала Свету. Всегда я не делаю того единственного, что необходимо. Все делаю, лезу из кожи вон… но не единственно необходимое. Но, положим, я б ее поцеловала. Это ребенок замкнутый, гордый. Несчастный. Про мать ни за что не сказала бы просто – только к слову, как проговорившись. Такой ребенок… Про такого ребенка все надо догадываться и не ошибаться. А ошибешься – ребенок не простит. И не догадаешься – не простит. Такого ребенка не обманешь… Мать больна. Надо было догнать, спросить… Поцеловать надо было – сначала. А я не смогла. Я всегда так – из кожи вон, стараюсь, люблю – из последнего люблю, но самого главного, какого–нибудь единственного поцелуя, или взгляда, или вздоха – не совершаю. И все – навсегда – как всегда… Не думать… Как хорошо он меня причесывает!.. Будто на дне лесной реки… Что–то русалочье… Пятеро сестренок, надо же! Я знала, что их там шестеро, но – пятеро сестренок, это сила… Как хорошо…»
– Ай! – пискнула Света, пробуждаясь от дремы.
– Готово! – объявил Дэвид Смит и подвел ее к окну.
На улице начинало темнеть. Света взглянула на свое нечеткое, двоящееся отражение и отпрянула в ужасе. Из окна на нее глядел маленький безногий человечек с лысой головкой и часто моргал. Света попыталась растрепать, распушить туго натянутые прической волосы, но Дэвид поработал на славу: коса держалась крепко. Была она так коротка, что увидеть ее через плечо Свете не удалось. Тем не менее она нашла в себе силы похвалить мастера. На плетение косы он потратил двадцать минут или немногим больше.
В зал заглянул учитель физкультуры. Была у него такая привычка: заглядывать в актовый зал, если видел из своего разрушенного, лишенного пола гимнастического, в котором сам для себя – «с горя» – «качал» по вечерам «мышцу», что свет в актовом горит, а детские тени больше не скачут у первого окна. При входе он столкнулся нос к носу с Дэвидом, гасившим свет. Света стояла рядом и что–то ласково приговаривала по–английски. Учитель не сразу узнал ее, так изменила коса мягкое, круглоглазое, всегда подвижное лицо. Она стала похожа на…
– Что, Сережа, испугались? – засмеялась Света, разом становясь собой. – Это меня русская коса так преобразила. Дэвид плел. Что, как там сзади – посмотрите, а то мне не видать… Хорошо?
– Высший класс. Только… Ленточка странноватая какая–то… Что за ленточка, не пойму?..
С этой косой она, понял наконец Сережа, походила на сфинкса. На поддельного игрушечного сфинкса – не каменного, холодного, а деревянного, теплого, слегка раскрашенного… или глиняного… курносого, чуть косившего и, видно, смущенного метаморфозой, произошедшей с ним. Длинный парень щелкал выключателями, глядя сверху вниз на косу, которую чуть дольше, чем требовала того ситуация, держал в руке учитель физкультуры.
– Прекрасная работа, – Сережа показал Дэвиду большой палец. – Вери велл!
Дэвид вежливо кивнул.
– Ленточка?
Света попыталась нащупать за спиной ленточку, но это ей не удалось, и она махнула рукой, уставая от усилия веселости, которую при любых обстоятельствах вызывал в ней учитель физкультуры своим подтянутым, молодцеватым видом, густыми, пышными усами и молодой плешью, кругло блестевшей сейчас под тусклой коридорной лампочкой. Дружной троицей – Света посередине – подошли они к выходу. Нянечка, звеня ключами, поднялась из угла. Длинный Дэвид улыбнулся ей и повесил ключ от актового зала на щит, легко дотянувшись до него через стол. Учитель физкультуры присвистнул, отступил на шаг, примерился… приложил палец к губам и метнул свой ключ над головой ойкнувшей нянечки. Ключ проделал в воздухе плавную дугу и угодил точно на предназначенное ему место, тяжело повиснув на коротком гвозде. Света вздохнула, поняв, что надо похвалить учителя:
– Ну, Сережа! – тихо сказала она. – Жаль, что в пьесе Дэвида нет для вас роли. Вы настоящий князь Серебряный нашего века.
– Кто такой, почему не знаю? – подхватил учитель и оттер Дэвида к стенке, чтобы самому открыть перед Светой тяжелую входную дверь. Дэвид отступил.
Вдвоем, третий поотстав, они вышли на крыльцо, спустились по ступеням и двинулись в сторону метро. Начиналась первая, пробная весенняя оттепель. Света не надела шапку и несла ее в руках. Учитель физкультуры осторожно взялся за шапку, предлагая помощь. Отставший Дэвид замедлил шаги. Сапфировое мартовское небо густело прямо на глазах. Вот–вот оно должно было упасть на город под тяжестью этого драгоценного свечения. Дэвид не отрывался от неба.