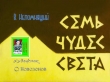Текст книги "Мизери"
Автор книги: Галина Докса
Жанры:
Прочая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
Он подошел к школе за полчаса до конца второго урока. Сердце стучало от бега, который остановил он, лишь сойдя с моста. Поэтому сердце еще стучало. Ему было жарко. Войдя в вестибюль, он стянул через голову свитер (при температуре воздуха выше нуля Дэвид не носил куртки, обходясь одним свитером, надетым поверх футболки). «Holiday»9, – гласила надпись на спине (когда вечером ему на спину девочки привяжут черные крылья, надписи не будет видно. В крайнем случае он наденет футболку на левую сторону). Дэвид перебросил свитер через высокий барьер детского гардероба и отправился в столовую. В коридоре было пусто. На лестнице шумели первоклассники, ведомые «змейкой» учителем физкультуры. Столовая, или актовый зал, или – зрительный ждали Дэвида как мессию. Плюшевый занавес скрывал сцену. Сцепившиеся локтями кресла теснились у стены. Столы тремя длинными рядами тянулись от сцены к двери. Пахло горелой кашей. У дальнего окна, спиной к вошедшему Дэвиду сидела за чашкой холодного чая Светлана Петровна и смотрела на занавес. Дэвид свистнул. Она быстро повернулась. Коса хлестнула и ушла за плечо. Светлана Петровна хмурилась. На ней был черный свитер с брошкой у горла. Он подходил, что–то говоря, она хмурилась и смотрела на него испуганно. Он видел брошку и рисунок на ней: тройка красных коней, запряженных в сани, а в санях… Кто ехал в санях, обнявшись и спрятав лица, Дэвид не смог разглядеть, приближаясь медленно, как только мог. Он забыл о голоде, который привел его сюда. Запах каши напоминал запах свечного нагара. Красный занавес чуть колыхался…
– Как хорошо, что вы зашли сюда! – сказала Света Дэвиду. – Я не знаю, что делать! Света отказывается играть. Вернула костюм. Это ужасно.
И она заплакала.
* * *
Ничего ужасного не было в том, что девочка накануне премьеры отказалась от главной роли в пьесе, премьеры которой с завистью и нетерпением ждала вся школа. Но Дэвид, увидев слезы Мисс, ни на секунду не усомнился в том, что отказ Светы Тищенко – событие ужасное по своим последствиям. Дэвид был не из тех мужчин, кого могли напугать женские или детские слезы. Слава богу, он навидался их в детстве и юности, детских и женских слез по пустякам и всерьез. Плакали сестры, тихо и в голос, запершись и прилюдно, размазывая грязь по щекам. Плакала мать, когда заболел отец и врачи сказали… сначала Дэвиду, а он сказал ей, увеличив срок втрое, что осталось полгода. Плакала каждую субботу пьяница в его нынешней квартире, перемежая всхлипывания ругательствами, смысл которых был ясен и без услужливого перевода Бориса. Плакала дочь ее, пятилетняя замарашка, мимо которой Борис проходил, не замечая (только тогда, возмутившись равнодушием приятеля, Дэвид добился от него объяснений причин странных отношений между людьми, жившими за дверьми общего коридора). Плакали девочки–актрисы, если он грозил отобрать роль. Плакала Света Ти… Нет, слезы не могли испугать Дэвида, но – Мисс? Он точно знал, что она из тех женщин, кто никогда не плачет при мужчинах. Он знал это так точно потому, что такой была его сестра–погодок, милая его рыжая гордячка Бэкки, та, что в шестнадцать, когда обманул ее парень и Дэвид хотел прибить его, а она чуть не убила тогда самого Дэвида, а он ей бросил, жалея: «Ну, так и плачь теперь до утра, авось услышит и прибежит», сказала, иссохнув глазами, как пруд вмиг высыхает на пожаре, охватившем двор… сказала: «Чтоб я уронила хоть одну слезу для мужчины? Да я лучше умру, Дэвид, дурачок!» – и вот его Мисс была из таких, он это увидел сразу, в первый день, на первом уроке… Бэкки закусывала губу, не понимая, что ее обидели, и Мисс закусывала губу. Бэкки смотрела прямо в глаза, и Мисс… Нет, она не смотрела ему в глаза. Когда плачут, в глаза не смотрят. Странный факт. Он сам ни разу в жизни не плакал при людях и не мог проверить на себе. Она плакала бесшумно, и она была из тех, кто – никогда…
Дэвид понял, что означают эти слезы для него, для мужчины, которому позволено… Но уже некогда было думать о себе, и хоть ничего ужасного не случилось, он нахмурился озабоченно, взглянул по–мужски угрюмо, чтобы остановить, повернуть вспять слезы, катившиеся из ее глаз. Они катились быстро–быстро, срываясь на грудь, и он, удивляясь, что способен в неловкую эту минуту отвлекаться посторонним, считал набегающие одна на другую капли (три их упало в стакан с недопитым чаем, и там даже пошли круги по поверхности, как при дожде). Вдруг он испугался: что если она не знает, что плачет? Так бывает… Но она, конечно, знала, потому что, извинившись, вынула платок и промокнула глаза. – Так что случилось? – спокойно спросил Дэвид.
На косу он и не посмотрел. Света сама забыла про эту невозможную косу. Света Тищенко, сказавшая ей утром, что не будет играть (глядела в сторону и говорила тихо–тихо, чтобы не слышал класс), занимала все ее мысли. Она опять прокрутила в памяти утреннюю сцену (как иначе она может ответить на вопрос Дэвида?). Что же случилось… Такого, что она – женщина, сделанная из куска нетающего льда, не плакавшая ни от обиды, ни от боли, ни от…
Она могла плакать только от жалости. Но плакать от жалости было нельзя. Света знала, что плакать нельзя, и не могла остановиться. Самым ужасным в ее слезах казалось ей то, что, как поняла она, увидев Дэвида, вбежавшего в столовую с лицом, как у новорожденного ангела, что никого в мире не оставалось у нее, перед кем могла бы она заплакать.
Так что случилось?
– Что случилось, Светлана? Наверное, что–нибудь с ее матерью?
– Нет, нет – другое. Она врет, будто плохо чувствует себя, будто забыла роль… Врет, одним словом. И такая несчастная, когда врет, вы бы знали! Ведь это очень правдивый ребенок! Вы представляете, что это для нее – уступить роль Марине? Марина ее в грош не ставит и всегда дает понять, что Света бездарная, некрасивая и английский плохо знает… Я эту Марину!..
– Не горячитесь. Марина тут ни при чем. Вы пристрастны. Девочка капризничает, вот и все. Может быть, я ее чем–нибудь вчера обидел. Я бываю груб…
– Да! Вы ее отчитали за отсутствие костюма! А она не виновата, потому что это я велела ей пришить ленты к сарафану, и она не успела, да она и не знала, что состоится репетиция, а оправдываться Света никогда не будет, к тому же вы невозможный человек – на сцене… Прошу прощения… Поговорите с ней! Вы правы, это только каприз! Похвалите ее, польстите, будьте поласковее… ведь вы умеете, Дэ… У вас получится!..
– Сейчас же поговорю. Какой у них урок?
– Математика, третий этаж, тридцатый кабинет.
– Я пошел. Сидите тут. Я вам ее приведу. Еще будет извиняться, что довела вас до слез…
Дэвид двинулся к выходу.
– Стойте! Куда вы? Пятнадцать минут урока…
– Я ее с урока вызову. Будет прекрасное начало разговора. Внеплановая отмена урока математики – что скорее поднимет настроение актрисы, впавшей в депрессию?
Светлана Петровна улыбнулась:
– Не тот случай. Света обожает математику.
– Тогда она действительно гениальный ребенок. За такого надо бороться.
Он подмигнул и вышел из зала. Светлана Петровна осталась допивать чай, качать головой и корить себя за то, что так распустилась. Что, в сущности, такого ужасного в отказе девочки участвовать в пьесе, навязанной ей двумя чужими взрослыми людьми, о которых через год и не вспомнит она, буркнувшая двадцать минут назад (перемена кончалась; Cветлана Петровна, ошеломленная отказом, повторяла встревоженно: «Может быть, что–то дома у тебя? Может быть, тебе разонравилась пьеса?»), бросившая в сторону в явном намерении уязвить и обидеть: «Да, не нравится. Глупая пьеса. Играйте сами. Вон вы уж и косу заплели!» Что – тут? Ужасного? Для кого бы то ни было? «Глупая пьеса», – буркнула, намереваясь обидеть… Кого? Она не передала Дэвиду подробностей разговора. Пусть Света сама скажет ему в лицо, если посмеет. Негодная, неблагодарная девчонка!.. «Вы уж и косу…» Стоп!.. А если дело – в косе? Если это ревность? Двенадцать лет… О, как бы тогда все стало на свое место! Как замечательно, как не из чего было бы плакать тогда ей – Свете: «А я‑то боялась, что есть нечто порочное во всей нашей затее, нечто глубоко лживое или слабое, а это одно и то же… Боялась разочарования, и как же мне не пришло сразу в голову! Коса… Дэвид! Ромео и Джульетта! Шекспир! Всегда и все кончается Шекспиром! Тем более у нас… У нас! Господи, как просто и замечательно! Что ж я тут сижу?.. К ним, надо к ним… И расплести проклятую косу… Черт, этот скотч… Я забыла… Что же делать? Совсем забыла… Но уж – не плакать, это точно. Не из чего плакать. Мальчик все устроит. И мы сыграем «Победивший мир». И сцену пленения. И сцену братания. И сцену прощения!»
Лица вошедших в зал Дэвида и Светы Тищенко были озлобленно–мрачны. Они не смотрели друг на друга. Девочка шла неохотно и спотыкалась на ходу, а канадец подталкивал ее в спину длинным пальцем, точно гнал гусенка хворостиной. Светлане Петровне захотелось, как гусыне, захлопать крыльями в радости и негодовании.
– Света, Дэвид! – весело воскликнула она, не давая им раскрыть рта. – Расплетите мне, пожалуйста, эту ужасную косу! Дэвид так залепил ее скотчем, что я вынуждена была всю ночь проспать на косе. Я в таком виде отказываюсь открывать вечер. Давайте–ка, мой мальчик, раз–два, и готово, как говорят русские. За работу! Света вам поможет…
– Нет, – зло сказал Дэвид, не глядя на нее. – Останьтесь так, Светлана. Света не будет играть. Она занята вечером. Вы ее замените. У вас получится гораздо лучше. Потерпите косу.
– Вы сошли с ума! Мне сорок лет. Я вам не девочка.
– Или играете вы, или Света, или я отменяю спектакль. – Дэвид был бледен и грозен, как в сцене казни, венчающей его пьесу.
У Светланы Петровны сердце останавливалось глядеть на него. «Мерзкая девчонка сказала ему, что пьеса ужасна», – быстро догадалась она и, обращаясь к Свете, перешла на русский:
– Что ты натрепала, что он такой смурной?
Светлана Петровна намеренно прибегла к жаргону, опасаясь, как бы Дэвид не понял смысла перепалки, которую собиралась она вести со своей маленькой соперницей.
– Ничего, – смутилась Света и отвела глаза. – Сказала, что я… ангажирована на вечер. Это правда. Я не могу.
– Мы перенесем спектакль на завтра. Ты можешь завтра?
Вопрос был понятен нахмуренному Дэвиду, и он принял выжидательную позу, нагнувшись к своей капризной примадонне с выражением лица одновременно безразличным и угрожающим. Наступившая пауза оказалась короче, чем требовалось Светлане Петровне для произнесения следующей фразы. Примадонна опустила к земле носик, вздернутый к потолку на всем протяжении предпремьерной «разборки», и уставилась на носки туфель. Режиссер, закусив улыбку прощения, молниеносным движением руки, напугавшим учительницу, ухватил девочку за косу и с силой дернул. Опущенный нос шмыгнул, вспорхнули ресницы, губы задрожали, преодолевая сопротивление гримасы… Две улыбки выглянули, узнали друг друга, обнялись и поцеловались на расстоянии, «право, много большем, чем, например, пролегает миль от Земли до Солнца», – подумала Светлана Петровна.
Она отвлеклась и упустила конец разговора, ведшегося теперь на Дэвидовом скоростном повелительном русском. Все оставалось по–прежнему. Все оставалось. Можно было улыбнуться.
– Не надо… – по–английски, но с русской интонацией упрека, маскирующей признание вины, сказала Света Тищенко. – Не надо переносить. Я, в общем, смогу и сегодня. Я попрошу папу…
– Папу? Приехал папа?..
* * *
– Приехал папа? – спросила Светлана Петровна. – Давно?
– На прошлой неделе, – сказала Света и подошла вплотную к учительнице. – Я расплету косу? Вам же больно, наверное… Столько времени волосы стянуты… Давайте!
– Не получится, Светлана. Там все склеилось. Надо отрезать конец. Сбегай–ка за ножницами к Прасковье Степановне. Или… Нет, возвращайся на урок, а вы… – Светлана Петровна строго взглянула на Дэвида. – Вы принесите ножницы из учительской… Нет, лучше займитесь сценой. Я сама.
– Иди, иди! – обернулась она к девочке, замешкавшейся у дверей. – Ступайте, Ваше Королевское Высочество, не то он опять возникнет. После уроков сразу отправляйся домой обедать и к трем часам сюда, косу плести… Эх, может, обойдется без косы, а? Как думаешь?
Девочка понимающе сморщила нос и выскочила из зала.
– Все хорошо, что хорошо кончается? – спросила Света у юноши, ставшего с уходом маленькой Светы снова серьезным и строгим, каким больно было Свете видеть его.
Он не ответил. Света заспешила. Они договорились встретиться тут сразу после уроков. «И надо будет проследить, чтобы он не забыл пообедать сегодня. Худ, как скелет… Джинсы болтаются, точно на пугале… В штанинах не ноги, не кости, не кожа… Там эфир – бесплотный дух – движущаяся пустота… Вот именно, движущаяся пустота в черном…»
«Вы – на сцену?» – «Да. Декорации». – «Не усердствуйте слишком. Если что, зовите меня». – «Уже». – «Что – уже?»
– Уже позвал, – прошептал он, но она смогла не расслышать его слов, так как загремел спасительный звонок и топот сотен ног раскатился по коридору.
Дэвид поднялся на сцену. Красный занавес вздрогнул, пропустил его и сомкнулся за черной спиной, обещающей «праздник». «Праздник! – сказала себе Светлана Петровна. – Конечно, праздник! Будет нам праздник, милые вы мои соратники, дорогие мои соперники… Будет нам и веселье, и слава, и счастье, и любовь, и все, что захотим».
	
Поработав молотком всю перемену и половину следующего урока, Дэвид почувствовал, что задыхается в пыльном полумраке сцены, и вышел прогуляться. Было тепло. От реки дул сильный южный ветер. Он перемахивал через крыши береговых строений, попадая в лабиринт переулков и дворов, окруживших гимназию. Там он метался, ища выход, румяня щеки по–зимнему закутанным малышам, и не сразу выбирался на простор – на проспект, несущий раздутые спины ярких китайских «пуховиков», как желтая и грязная Хуанхэ несет, наверное, паруса бедняцких джонок. «Красиво, – понял тут Дэвид, и у него защипало в носу. – Великий город. В нем нельзя любить. Я это чувствую всем позвоночником. Вот даже цветы…»
Он склонился над корзиной, вдруг оказавшейся перед ним, опустил в нее руки, переплел пальцы со стеблями цветов – это были розы, – набрал, сколько мог ухватить… Корзина опустела, в нее ударил ветер, и она покатилась по мостовой, как слетевшая с головы шляпа. Цветочница бросилась вдогонку. Дэвид уколол палец. Боль была приятна ему. Он крутил в руках колючие стебли, чтобы сделать ее непрерывной, но исколотые пальцы вскоре отказались чувствовать.
Шумела большая перемена. Двери актового зала хлопали, выпуская позавтракавших детей. Дэвид бежал вверх по лестнице, окунув твердый подбородок в холодную пену лепестков, и в уме его, уставшем понимать и догадываться, поднимались, неловко карабкались по ступеням чужой интонационной гаммы, срывались и скатывались слова, какие не суждено было узнать губам, отдувавшимся в муке подъема. What… what is it?10 Лепестки дрожали, не осыпаясь.
What?..11
* * *
Отрезав еще полвершка княжеской косы, Света расплела сотню мелких косичек, составлявших основу конструкции, и покрутила головой перед полуслепым зеркалом учительской уборной. Прическа была хороша. «Даже помолодела, – удовлетворенно заключила Света, покончив с утомительной процедурой расчесывания. Пришлось намочить волосы, чтобы распрямились пряди, зазмеившиеся на свободе. Распрямленные, волосы едва закрывали плечи… «М-да. Третьего пострига моя шевелюра не переживет, – вздохнула Света, закалывая на затылке свой вечный «узел упрямства», как звал ее старомодную прическу Игорь… – Неважно, это неважно. Держится, и слава богу! Слава богу, милые мои соперники, соратники… любовники…»
Звонок и последняя шпилька кольнули одновременно. Учительская наполнилась стуком каблуков и женскими улыбающимися голосами. Наступила большая перемена. Войдя, Светлана Петровна застала праздник только что начавшимся. Мы ждали, стоя в общем полукруге у углового окна. Светлана Петровна пристроилась сбоку. Из кабинета директора выплыл учитель физкультуры с ведром, полным алых влажных роз. Он молча поставил ведро на стол и красноречиво обвел рукой плотный ряд женщин, взиравших на цветы с наигранной алчностью восхищения. Розы красиво рассыпались, прямили тугие головки и просились в руки. Однако общим голосованием решено было оставить их в ведре («Простоят до вечера!»). Учитель физкультуры достал из шкафа коробку с общественной посудой и три бутылки «Советского» шампанского в другом ведре, поменьше. Роскошным плавным движением учитель вынул из ведра бутылку, покрытую аппетитными каплями. Пробка вылетела, напугав женщин, ожидавших залпа в приятном смущении общих именин. Забурлила струя, роняя брызги. Повисла легкая салютная тишина.
«Все же в нем бездна вкуса, в этом учителе», – радостно подумала Светлана Петровна, заметив голубой галстук, выглядывавший из–под белоснежного воротничка рубашки. Поверх всего (и можно было с натяжкой принять это верхнее одеяние за маскарадный, что ли, плащ) волнился, треснув на груди раковинным раструбом, неизменный Сережин синий спортивный костюм. Женщины шумно, с ахами и с поцелуями, благодарили Сережу. И Света покивала ему: мелко, долго… Сговорчиво.
Разливая шампанское, Сережа вертелся во все стороны, как заведенный, и, хоть выглядел очень усталым, всеми жестами своими, безупречно грациозными, убеждал дамское общество в том, что запасы присущей ему галантности неистощимы. Он успевал все. Он один заменял собой весь славный, потрепанный, но еще не сдавшийся арьергард отечественной педагогики, мужскую ее, чудом уцелевшую половину – нет, пятую… нет, десятую ее часть, сильную не числом, но все–таки – сильную. Сережа метнул пустую бутылку в урну и замер с бокалом в поднятой руке, обернувшись через плечо, как командир роты, взмахом револьвера поднимающий солдат в атаку. Да, он был один. Самуил Аронович приболел и не явился. Учитель труда не захотел подняться из подвала. Канадский юноша не шел в счет.
…………………..
Дэвид опоздал. Уж прогремел второй залп и общественные бокалы глухо зазвенели в дружном единении тоста, когда он он возник на пороге и закачался, осыпая вокруг себя розы. Женщины всплеснули руками. Розы в марте всем нам были в диковинку. Эти скромные, не избалованные мужским вниманием женщины обрадовались бы и веточке мимозы, и всесезонным завиткам крашеной гвоздики, и узкой плитке шоколада с цветком на обертке… Мало кому из нас предстояло завтра насладиться букетом, полученным из рук мужа или сына. Цветы в Петербурге в конце зимы конца девяностых миновавшего века были баснословно дороги. В моду входили искусственные. Их никто не любил, но почти в каждом доме имелась пластмассовая или проволочно–батистовая роза, обычно сосланная в темный кухонный угол (или еще куда подальше), где она могла пылиться, не попадаясь на глаза хозяйке, хоть до самого ремонта, становясь с течением времени все уродливее, постепенно пряча под слоем пыли единственное, чем могла она гордиться, – яркую, почти алую, почти такую, как бывает, раскраску венчика. Но если вдруг в обедневшем доме появлялась, настоящая роза («Возможно, завтра, – муж или сын… лучше б гвоздичку, какая мне разница», – подумала завуч, осушив бокал)… появлялась, живая и тленная, на навозе взошедшая, благоуханная, трепещущая, одна–единственная, пусть только одна («Сколько роз! – подумала директор, пригубив шампанское. – Кажется, «Брют»”)… Несчитанные, розы рвались из рук Дэвида. Одна к одной, числом по числу присутствующих дам алели розы в ведре, водруженном на стол учителем физкультуры.
Переглянувшись, женщины заговорили все враз, подзывая Дэвида одинаковыми жестами мелькающих ладоней. Он почти вспомнил непроизносимое слово «поздравляю», но ему не пришлось открыть рта.
– А вот и Североамериканский континент в лице нашего юного друга! Давайте их сюда, молодой человек! – вскричала Валерия Викторовна, принимая букет из рук юноши.
Теперь в ведре красовалось с полсотни роз, вперемешку алые и белые… «Целое состояние!» – подумал кто–то и сразу забыл. Мы чуть захмелели от шампанского. Учитель физкультуры вторично наполнил бокалы. Он рассчитал, что этого хватит на праздник, и не ошибся. Вскоре раздался звонок. Все разошлись по классам, а Светлане Петровне поручили вымыть посуду.
Но у нее вовсе не было окна! Расписание перекроили, и она вспомнила об этом, оставшись в учительской наедине с Дэвидом. «Помоешь?» – спросила она по–русски и по–английски. Он кивнул и взял из ее рук миску, до краев наполненную водой. На этом месте ему захотелось нажать на кнопку «стоп» и сорвать со стены экран, по которому начали двигаться не люди, а какие–то серые тени без лиц, не имевшие права жить. Ему захотелось расплескать воду, посмотреть, как она вырвется широким языком за край миски и упадет под ноги. Словно угадав его желание, Мисс отобрала у него миску и поставила на стол. Покидая учительскую (каблук шатался, она прихрамывала), Мисс обернулась с порога, прощаясь улыбкой, – ненадолго, на час–другой, до встречи в зале, до – кажется, навсегда. Это была обычная ее улыбка, во всю ширь, до ямочек на щеках, до глубоких лучей, разбежавшихся от углов глаз, круглых, но заостренных в прищуре. Волосы мягкими крыльями падали на виски. Коса и признание, прятавшееся в ней, оказались бессильны умерить изгиб упругой, сильной этой улыбки, смутить и смять прямой, беспомощно вопрошающий, но в той же мере властно отвечающий любым вопросам, осторожный и смелый взгляд светлых глаз – туда, в глубь зрачков Дэвида, но с попутным ласковым, чуть небрежным обегом вкруг радужки и неподвижных ресниц, как если бы она, взглядывая, торопилась признать и узнать давно любимое, видимое каждый день, но от этого не ставшее надежней. Он шагнул к ней, наступив на упавший цветок. Дверь, скрипнув, затворилась…
Света опоздала на урок в восьмом «А» на несколько минут. Поэтому, а может быть, потому, что за окном сияло мартовское, почти по–весеннему слепящее солнце и прыскала капель, разбиваясь о карниз, она отменила контрольный диктант, приготовленный ею в качестве мести ненавистным ее восьмиклассникам. Вчера мальчики в полном составе не явились на занятия, зато сейчас их, кажется, сидело перед ней больше, чем полагалось по списку… Постойте… Надо сосчитать… неужели – обе группы вместе?.. Но тогда маловато получается… А–а–а! Не все ли равно! (И она отменила диктант.)
За окном гулили голуби. Они вспархивали, описывали круг над двором и возвращались обратно – парами. Они уж играли свадьбы… Нарядный сизарь с коричневокрылой беляночкой примостились у стены. Неподвижные, они пристально глядели друг другу в глаза. Сизарь вдруг отпрянул и закрутился на месте, удивив подругу. Голубка отвернулась. Тогда он прекратил танец и придвинулся к ней вплотную. Головы их, гладкие, как у статуй, вздрогнули, приподнялись, заламывая шейки, клювики покачались, ища опоры, сблизились и соединились. Света отвела глаза. «Как просто все, – обреченно подумалось ей. – Как все ужасно просто!» Высокий восьмиклассник что–то говорил, подойдя близко. Когда это она успела вызвать его к доске, не заметив? Класс зашумел. Очнувшись, она рефлекторно нахмурилась. Дети притихли. Высокий мальчик положил на учительский стол маленькую розу и вернулся на место. «Спасибо», – покраснев, почти прошептала Света. Роза была, кажется, белая.
* * *
К вечеру Самуил Аронович почувствовал себя лучше. Приступ астмы отпустил его, и старый историк решил съездить в гимназию – посмотреть на пьесу, к постановке которой он имел некоторое, пусть косвенное касательство.
Он приехал незадолго до начала и поднялся в учительскую, надеясь не встретить там никого из своих прелестных коллег, коих он – теперь совершенно здоровый и очень интересный, как сказала бы Прасковья Степановна, мужчина – обошел вниманием в их замечательный праздник. Темная полуувядшая роза, купленная у метро, не могла ослабить мук совести дезертира, поэтому, поднимаясь по безлюдной неосвещенной лестнице, Самуил Аронович прятал ее за пазухой и, только войдя в пустую и тоже темную учительскую, вытащил цветок и покрутил в руках, не зная, что с ним делать.
Присмотревшись к сумеркам, он разглядел стоящий у окна огромный «общественный» букет. Ну и ну! Учитель физкультуры не сплоховал. Должно быть, доплатил из своих. Какая роскошь! Розы…
Роз было не счесть. Вянущая, темная, почти черная в сумерках, личная роза Самуила Ароновича была, в общем, ни к чему. Он и сам не понимал, для чего купил ее у пьяного цветочника, по дешевке распродававшего остатки. Кажется, он собирался подарить розу первой встреченной в стенах гимназии женщине. Так сказать, для отвода собственных глаз. Вообще–то, следовало подарить ее нянечке (хотя к чему нянечке роза? Гм-м). Но нянечки не оказалось на месте. И он никого не встретил по дороге в учительскую. И…
Тут скрипнула дверь. Самуил Аронович загадал желание. Зацокотали по полу быстрые женские шаги. Спрятав розу за спину, Самуил Аронович повернулся к вошедшей. Та, не замечая его, подбежала к телефону и схватилась за трубку. Вспыхнула настольная лампа. Женщина казалась взволнованной и невероятно усталой. Совершенно очевидно, ей было не до цветов. Самуил Аронович узнал ее и кашлянул. Женщина вздрогнула, обернулась, улыбнулась тревожно и спросила, приподняв темные брови и детски округлив глаза:
– Самуил Аронович? Вы все–таки пришли?
– Да вот, Светочка! Захотелось стать свидетелем вашего триумфа. Тем более что я сам как консультант по важнейшим вопросам…
Он недоговорил.
– Не будет триумфа, – сказала Света, вычитывая с ладони номер и не глядя на Самуила Ароновича, который стоял перед ней наготове с розой, выбирая момент для поздравления.
«Или оставить и вручить после спектакля? Но она не проживет дольше получаса, полумертвая моя царица садов. Чем–то до крайности расстроена эта милая учительница… Что значит «не будет триумфа»? Наверное, им порезали текст, как это всегда бывает… Правда, время на дворе – новое… Правда, я уже наблюдал неоднократно, как новое опять становилось старым, стоило лишь немножечко увлечься им… Такая милая и жалкая… Такая решительная молодая женщина по пустякам не бледнеет. Нет, отдать розу немедленно!»
Самуил Аронович вывел розу из–за спины и повесил у колен в скрещенных руках. До начала представления оставалось не более получаса.
– Триумфа, кажется, не будет… – пробормотала Света себе под нос, зацепив первую цифру телефонного диска.
– Что случилось? Неприятности с цензурой? – пошутил Самуил Аронович.
– Может, и так. И, странно, совсем с другой стороны, чем это обычно бывает.
Заметно было, что ей не хотелось звонить, что она рада была бы не делать этого, но – палец крутил диск, и трубка, прижатая к уху, уже жужжала длинно, как оса перед нападением. Вскинув руку, историк с поклоном положил на стол перед Светой розу в тот самый момент, как ее нейтрально–вопросительное «але?» разорвало затянувшуюся паузу между последней нотой осиного гуда и ожидаемым откликом собеседника, запоздалым «слушаю», произнесенным шмелиным басом.
Устыдившись своего невольного подслушивания, историк поклонился и сделал шаг к выходу. Однако Света взглядом и настойчивым жестом (она уже начала разговор и не могла по–другому выразить просьбу: «Останьтесь!») усадила его в кресло, откуда он с недоумением и вместе с тем с каким–то очень личным интересом мог следить, как с каждой фразой разговора брови ее, вначале высоко поднятые в усилии вежливости, сходились и опускались все ниже, пока вопросы, бросаемые ею в трубку, не сделались коротки, словно приказы, а заполненные шмелиным гудением паузы между ними – длинными и вязкими, будто воск. Одновременно с тем, как они сошлись в сплошную прямую линию, Самуил Аронович понял смысл происходящего. Учительница звонила родителям своей ученицы, исполнявшей главную роль в сегодняшнем спектакле. Исполнительница не пришла к назначенному часу, и ее опоздание, причины которого выяснялись сейчас Светланой Петровной, выглядело гораздо более серьезным событием, чем могло показаться равнодушному наблюдателю (каковым, разумеется, не был Самуил Аронович).
Самуил Аронович не уходил. Говоря, Света время от времени коротко взглядывала на него, как бы приглашая его быть свидетелем этого весьма странного разговора. Она заметно волновалась и, выслушивая долгие, Самуилу Ароновичу неслышные ответы собеседника, машинально обрывала лепестки цветка, лежавшего перед ней. Трубку она прижимала к уху плечом, ежась, как от холода. Самуил Аронович поймал взгляд, на секунду оторвавшийся от ощипанной розы, и показал лицом, как «глотают лягушку». Нехотя улыбнувшись, приподняв брови, Светлана Петровна оставила розу в покое и в пятый, наверное, а может, в десятый раз спросила у трубки:
– Но почему я не могу сама поговорить с вашей дочерью? Позовите Свету!
* * *
– Позовите Свету! – в пятый раз попросила учительница у человека, назвавшего себя отцом девочки. И в пятый раз человек этот притворился, что не расслышал.
– Послушайте! – взмолилась она.
Мистер Тищенко не пожелал знакомиться и длинное междометие современности «послушайте!» заменяло Светлане Петровне отсутствующие в разговоре обращения.
– И все–таки я не совсем понимаю ваше волнение, – сказал Тищенко.
Был он вежлив медовой, приторной вежливостью телефонного жуира, обладателя красивого голоса, самые звуки которого доставляли ему сладчайшее наслаждение. Он смаковал шипящие и растягивал гласные, так что всего шаг оставался ему до превращения телефонного монолога в арию, подумала безголосая Светлана Петровна и решила, что ее собеседник, живя столько лет за границей, соскучился по родной речи. Мысль эта, однако, не помогала справиться с раздражением, которое вызывал в ней Тищенко, и она возобновила бесполезные попытки добиться от него ответа на вопрос, почему Света, его дочь, никого не предупредив, не явилась в гимназию ни за два часа до начала спектакля, как обещала, ни за час, как было бы еще терпимо, ни за…
Она посмотрела на часы: до пяти оставалось пятнадцать минут. С самого начала этого разговора она чувствовала себя так, будто ей по ошибке морочат голову, спутав с кем–то, а именно с тем или с той, с кем у мистера Тищенко имеются старые счеты и кого он, злорадствуя, пытается посредством прозрачных намеков убедить в том, что она (он?), к сожалению, круглая дура и единственным ее счастьем является полное неведение данного печального факта. Господи! Она готова была согласиться с отцом Светы всецело, лишь бы только он ответил ей в простоте сердечной:
Почему его дочь!..
Не предупредила!..
Не пришла!..
Не хочет подойти к телефону!..