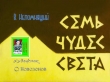Текст книги "Мизери"
Автор книги: Галина Докса
Жанры:
Прочая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
Разговор продолжается:
– Не все, а только умные, кто понимает.
– Что? Что понимает?
– Ну, что все пропало.
– Так, ладно, будем считать, что я поняла тебя. Значит, все умные, кто понимает, скоро уедут, а глупые – я, например, или Самуил Аронович…
«Зачем я приплетаю сюда Самуила Ароновича? – рассердилась Света. – Не ровен час, папа–диссидент окажется антисемитом, и нам тогда с тобой, девочка, нипочем не выкарабкаться!»
– …или Прасковья Степановна…
Так зовут учительницу домоводства, и Светлана Петровна невольно улыбается, представив ее предводительницей оставшихся, глупых. А в арьергарде этой безнадежно увязшей в болоте, отступающей армии она видит себя: в старом плаще, с седой прядью, торчащей над ухом, и с алмазом в кармане… Но алмаз ни при чем, и… что с вами, Светлана Петровна, милая? Неужто вам изменяет ваше хваленое чувство юмора? Вперед!..
– …Глупые останутся, сколько смогут, наблюдать, что же именно пропало, куда пропало и зачем? Так?
Светлане Петровне удалось–таки рассмешить Свету Тищенко, а это значит, ее маленькая противница временно обезоружена. Можно переходить в наступление. Но как все же странно устроен разум у людей! Оказывается, все, о чем не говорится между взрослыми по причине подразумеваемой и якобы непреодолимой сложности вопроса, может быть запросто названо и изложено в короткой дискуссии с малюточкой, выросшей на русской интеллигентской кухне образца восьмидесятых–девяностых годов, то есть, конечно, весьма сложного, неэталонного и сомнительного образца, но все же, все же…
– …И все же, Светлана, согласись, что это несправедливо.
– Справедливости нет.
(«Кухня, Кухня, Кухня…» – дразнится Света, скрывая улыбку.)
– Но в Америке–то – есть!
(«Про негров промолчим. Эта сабля затупилась. К тому же я плохо владею данным материалом».)
– Не подыхать же здесь… – отвернувшись, подытоживает маленькая Света…
Нет – Кухня, по которой ползала Света младенцем в начале восьмидесятых, и путалась в ногах гостей, и засыпала нечаянно у батареи… а просыпалась уже в кроватке от звуков общей колыбельной, проникающей через стену: «Под небом голубым есть город золотой…»
«Все лучшее в эмиграции…» – поучительно и вместе с тем комично (так как у маленькой Светы выходит: «все лучше – в эмиграции») напоминает учительнице Кухня начала девяностых устами подростка с вонючей капсулой в ранце, и Свете на секундочку опять становится все равно, но ребенок, слабенькое исчадие Кухни: с косой на плече, с глазами круглыми и желтыми, как диски высохшего чая на дне не вымытых с вечера чашек («Светка! Помой посуду! Не шуми, папа писал всю ночь…» – что писал папа? Что писал, то давно разорвано, и клочков не собрать)… Ребенок смотрит на нее, и Света поднимает с земли выпавший из рук ее меч, плюет на него… продолжает спор…
– Так уж и все! Ты ведь слышала, наверное: Солженицын вернулся. Известный писатель, правозащитник, коллега твоего папы…
– Солженицын – старый п…н, – шепчет себе под нос.
Шепчет обезлюдевшая Кухня, неумело сграссировав на средней букве непечатного слова. И громче, справившись со смущением:
– Отрастил бороду и думает, что он Достоевский. Всех учит.
– Достоевский, по–твоему, всех учил?
Задавая этот «уточняющий» вопрос, Светлана Петровна напирает на местоимение «по–твоему». Она поняла уже, что Света Тищенко – честная девочка и что права Кухни на владение ее речами не могут простираться так далеко, как представлялось ей поначалу. «Меняем тему, – радуется она. – А то я начинаю уставать. В конце концов, я не на передовой. Давно решено и подписано, что я в арьергарде, в обозе. По состоянию здоровья, по личным, так сказать, обстоятельствам. А–а–а, черт! Недалеко ж вы, Светлана Петровна, ушли от несчастного мистера Тищенко. Но что можно сказать ребенку? Если он хотя бы спрашивает? А этот ребенок – он уж и не спросит. Он, кажется, не сомневается…»
Так о чем мы? Как быстро меняется время! Я… «Мы»… Достоевский! Ты говоришь: Достоевский?..
– Ты уже читала Достоевского?
– Читала.
– И что же? Наверное, «Белые ночи»?
– «Белые ночи», «Униженные и оскорбленные».
– Понравилось?
– «Белые ночи» – нет. А «Униженные»… Тоже нет, – задумавшись как–то по–хорошему («по–детски», – обрадовалась Света), отвечает девочка.
– Это из–за Нелли… – говорит Светлана Петровна. – Я тоже в двенадцать лет не могла простить Достоевскому, что он позволил Нелли умереть…
– А что ей было делать? – объясняет маленькая Света, читавшая Достоевского. – Иван–дурак все равно бы на ней не женился.
– Тебе он не нравится – рассказчик?
– Мне там никто не нравится.
– А Нелли?
– Нелли жалко, – признается Света. – Зачем мать привезла ее в Россию? Нарочно. Я ненавижу, когда нарочно. Будто русский обязан тут жить.
(«Я тоже не люблю, когда нарочно, – вздохнула Света. – А Нелли, насколько я помню, не очень русская. Кажется, дед ее был англичанином… Колоритная фигура… Надо бы перечитать Достоевского…»)
Разговор смолкает. Что–то изменилось в них – что? – не понимает учительница, и совсем не понимает девочка. Но им полегчало вдруг, как будто несчастная Нелли, как тихий ангел пролетевшая над ними, вернулась с дороги, опустилась, взяла их руки – правую у каждой – и положила ладонь на ладонь. Время, галопом скакавшее по замкнутому кругу, потекло медленнее, прямее. Кончилась перемена. Звонок звонил долго–долго и не мешал молчать о том, о чем не успели бы сказать они, даже если бы имели во владении вечность.
* * *
– У тебя больше нет уроков? – спросила Светлана Петровна.
Света покачала головой.
– Проводи–ка меня до трамвая. Кажется, нам по дороге?
Они спускались по лестнице.
– Тебе понравился учитель из Канады?
(Дэвид Смит помахал им рукой из коридора и подмигнул. Света не ответила.)
– В какой группе ты бы хотела заниматься английским: у меня или у него?
– У вас, – ответила Света. – А вы будете заниматься со мной дополнительно, как Инга Семеновна?
– Инга Семеновна репетировала тебя? Но зачем?.. Ты неплохо знаешь предмет…
– Затем, что я хочу говорить по–английски, как по–русски. Лучше, чем по–русски.
– Так, может быть, тебе больше подойдет заниматься с учителем из Канады?
Они пересекали школьный двор. Во дворе учитель физкультуры с группой старшеклассников сгребали лопатами снежную грязь, расчищая площадку. Света ускорила шаг, но все же ей пришлось обменяться виноватым взглядом с учителем. «Как долго тянется день! – походя подумала Света. – Утро было сто лет назад…»
– …Так, может быть, тебе больше подойдет учитель из Канады? Живое общение, разговорный язык… Ты ведь собираешься уехать к папе в Америку?..
– Да, – ответила Света. – Я уеду в Америку.
– С мамой? – осторожно уточнила учительница.
– Не знаю…
В голосе девочки – неуверенность. Светлана Петровна оставляет опасную тему и возвращает беседе деловую интонацию. Пройден двор. Маленькая Света оглядывается на него, приотстав, но тут же догоняет Светлану Петровну и идет рядом, подладив свой шаг к ее, очень стремительному. Заметно, как льстит девочке, с трудом поспевающей теперь за Светланой Петровной, деловой их, попутный разговор. В гимназии Светлана Петровна «ходит» в красавицах (как посмеялась бы она, узнав об этом!). В нее, все говорят, влюблен новый учитель физкультуры, а она не обращает на него никакого внимания. Вот ведь даже не оглянулась, а учитель смотрит ей вслед так грустно! Света знает, что у Светланы Петровны нет семьи и своих детей. Наверное, потому она говорит с ней как со взрослой, что у нее нет детей. Так со Светой не говорит никто.
Впрочем, со Светой уже давно вообще никто не говорит. Мать приходит ночью. А если мать приходит вечером, то с ней приходят гости, и они говорят друг с другом, а Света только слушает. Бабка – глухая. Отец…
Отца Света не видела больше трех лет. Он уехал в августе три с половиной года назад. Он присылает посылки на Светин день рождения и на Новый год. Иногда он звонит ранним утром, когда мама спит – не добудишься, так как она ложится не раньше пяти. И Света сама говорит с отцом. Ей известно: отец рад, что к телефону подходит она, а не мама, но она все–таки бежит будить мать. Мать стонет во сне, а проснувшись, машет рукой, кричит: «Пошел он, твой папаша, знаешь куда?!» – и поворачивается на другой бок. Света возвращается к трубке, а там короткие гудки.
Потом Света опаздывает в школу. Она новенькая в школе. Она учится там два года, но она новенькая и всегда будет новенькой.
– Если ты боишься, что отстанешь в грамматике – есть такая опасность, – я буду помогать. А можно и так устроить: часть времени ты занимаешься у меня, часть времени – у Дэвида Смита. С завучем я договорюсь. Конечно, тебе необходим английский, раз ты собралась уезжать.
– Я не знаю, – сказала маленькая Света и шмыгнула носом. – Мама не хочет. Но я… Я поеду одна! Я поеду одна или с группой, как в прошлом году седьмой «Б», в Нью – Йорк, и я останусь там! А почему вы не ездите с группой в Америку? У вас денег нет?
– Не то чтобы нет… Скорее всего, нет большого желания. Знаешь, Светлана, я всю жизнь мечтала побывать в Италии, поэтому, наверное, я не так стремлюсь в Америку… А ты уже записалась в группу на июнь? Ведь группа формируется сейчас… По–моему, ее повезет Тамара Ивановна.
– Нет. Мне мать не даст денег.
– А отец? Пусть пришлет.
– Все равно мать не пустит. Она не хочет.
Помолчав, пожевав губами («Старушечья повадка», – изумилась Светлана Петровна), Света взяла учительницу под руку и тихо, как бы по секрету, как бы о чем–то не очень приличном и, главное, совсем для нее непонятном, призналась:
– У папы в Америке – другая семья.
«Трагедия, – устало подумала Светлана Петровна. – Обыкновенная скучная трагедия, только и всего. Просто трагедия. Не хуже и не лучше многих. Бедный ребенок. Бедный, бедный ребенок! Бедная маленькая Вонючка!»
– …И два мальчика… – «Когда успел?» – удивилась Света, – десять и пятнадцать лет. Тот, которому пятнадцать, учится на инженера, а которому десять… – «Женился на американке, – догадалась Света. – На соломенной вдове», – и скоро родится маленький… – «Вот тогда папа за тобой, наверное, приедет, заберет от мамы «на лето», и будешь ты няньчить маленького», – дом очень красивый, красная машина, а Боб уже умеет водить…
– Пойдем в кино, детка! – перебила учительница Свету, захлебывающуюся от оживления, неприятно искусственного. – Ты не видела этот фильм?
Из переулка на них смотрела красно–синяя афиша с «Мизери».
– Нет, – солгала Света. – А вы?
– И я, – солгала Света.
День клонился к вечеру. Цена билета была вечерней. Светлана Петровна оставила в кассе половину суммы, одолженной ей учителем физкультуры, а на последние купила себе и Свете мороженое.
– Американское, – объяснила девочка, когда учительница пожаловалась, что невкусно, и отдала свою порцию ей. – Я тоже больше люблю советское, то есть русское.
«Вот видишь!» – хотела воскликнуть Света, но передумала, решив отложить разговор, очень ее занимавший, до другого раза.
«Мизери» оказался короче, чем помнилось Свете. Вид окровавленной головы на полу вызвал у нее зевоту. Девочка ничуть не испугалась крови. «Фильм, конечно, не вполне детский, но и взрослого в нем очень немного», – успокоилась Света.
Они вышли из кинотеатра в прекрасном настроении. Уже стемнело. Светлана Петровна проводила Свету до дому – девочка жила в двух шагах от проспекта – и улыбнулась на прощание:
– Спасибо за компанию.
Маленькая Света взялась за ручку двери, но медлила, опустив голову, как бы желая и не решаясь о чем–то спросить.
– Ты не боишься опоздать на «Санта – Барбару?» – помогла ей учительница и подтолкнула к двери.
– Я не смотрю, – сказала маленькая Света. – Скучно. В Америке он уже кончился. Хотите, я скажу вам, что с ними стало?
– Не нужно. Я тоже не смотрю. Плохой фильм. Америка, по–моему, совсем не такая. То ли дело – «Мизери», а?
– Мизери – это клёво! – сказала маленькая Света и нырнула в подъезд. – До свидания!
«Ребенок, русский ребенок, – улыбаясь всю дорогу до метро, повторяла Света. – Клёво, очень клёво, Светлана Петровна. Так клёво, что не клюет… Вот и метро… Что ж это я, наивная, здесь делаю? Ни копеечки в кармане, а в метро собралась! Ха! Вот было бы клёво попробовать пройти по трамвайной карточке… Рискнуть?»
Убоявшись риска, Света повернула от метро и направилась к трамвайной остановке. Ей не хотелось рано возвращаться домой, и она решила заняться расклеиванием объявлений о находке перчатки сегодня же. Подойдя к остановке, Света вытащила листок с ярко отпечатанным текстом, выбрала столб почище и наклеила на него листок примерно на уровне лица. Какой–то мужчина, стоило ей отойти, подошел и прочитал, шевеля губами. Света покраснела. Ей было неловко за свое глупое объявление. Она поспешила отвернуться и забыть о любопытном читателе. Трамвай долго не подходил. Дождавшись его, Света проехала две остановки, вышла, наклеила объявление – очень косо! – и успела запрыгнуть обратно в вагон. Так она выскакивала и запрыгивала еще несколько остановок. Потом ей надоело выскакивать, и она, незаметно помахав рукой отъезжающим без нее пассажирам, пошла пешком вдоль трамвайной колеи – по проезжей части, довольно безопасной после семи вечера в заводском районе, отделяющем центр города от его новостроек, куда добралась Света поздним вечером, ступая по шпалам, уложенным неравномерно, как годы ее жизни, прожитой в этом городе, у этой площади: квадратной, продутой ветрами, безлюдной, ибо нет на ней ни одного магазина, ни даже маленького подвальчика, где торговали бы всякой всячиной, нужной людям, а только универсам во дворе Светиного дома, отживающий век свой, распавшийся на нечеткие ряды весовой торговли, с кассиршами, скучающими по вечерам, потому что старушки, их дневные клиентки, смотрят в это время по телевизору заграничную жизнь (но товар по старинке берут русский, не доверяя ярким упаковкам сухих пайков из Европы, Азии и Америки).
Дойдя до своей остановки, наклеив объявление, Света бегом бросилась к универсаму, успела… Но, вспомнив в который раз, что потеряла кошелек, положила кусочек сыра обратно на прилавок и вышла. У нее оставалось ненаклеенным последнее объявление. Похвалив себя за смекалку, Света засунула его за разбитое стекло старой доски, на которой в прежние времена вывешивались под замок государственные объявления о найме рабочей силы. Призыв «Требуются», повторенный трижды, застрял в Светином сознании надолго – как раз настолько, чтобы, твердя его, подняться в квартиру, открыть дверь (ключ сделал один оборот, но Света не помнила, сколько раз она повернула ключ утром, ах, да! – закрывал учитель физкультуры, он оставил шапку и возвращался за ней), зажечь свет, постоять под душем, поковырять ложкой в холодной гречневой каше, оставшейся с завтрака, принять таблетку («Предпоследняя», – спокойно отметила Света) и лечь с книгой на мамину кровать.
«Требуется… Требуется… Смысл! – остановила Света мельтешение случайного слова. – Очень требуется смысл всему, что вокруг меня и во мне. Последнее – несомненно».
Не читалось. Северный ветер барабанил в стекло. Зиме оставалось не больше двух месяцев. И она уж сдалась, эта неупорная зима, лопнувшая оттепелью, как дутая серьезность смехом (в простой игре, где играющие, рассевшись по кругу, стараются не смотреть на ведущего, чтобы не прыснуть, признав поражение, от вида невинного детского пальчика, поднятого вверх, изгибающегося коротким червячком, ужасно нелепо)…
Ужасно нелепо.
Она заснула наконец. Утро было недостижимо. Утро не могло наступить. Но оно наступило.
* * *
Лет до двенадцати Света с мамой жили в центре Ленинграда, в большом некрасивом доме на канале Грибоедова. Дом был построен в виде буквы «П» и имел благодаря этому обширный двор с чахлым газончиком посередине и кирпичной помойкой в углу. Двор этот в любую погоду был полон детьми. Дети всех возрастов гуляли там до сумерек, до тех пор, пока одно за другим не начинали вспыхивать окна в гулких каменных стенах, отражавших мелодическим эхом какофонию ребячьих голосов. Распахивались широкие форточки, матери высовывали головы, и двор оглашался их призывами. Имена детей, выкликаемых матерями, скакали от стены к стене («Ма–ша… Се–ня… Кос–тик»)… путались слогами («Ма–ня… Ко–ша»)… подпрыгивали под самую крышу («Ко–о–о») и звонко падали («…стик!»), ударяясь оземь (все – мимо ушей их владельцев), пока – уже в полной темноте – игра звуков не накрывалась одним долгим, в унисон стекавшимся каноном: «Домо–о–й…»
Во дворе, где играла в детстве Света, мальчишки сражались с девчонками за право владения газоном, окруженным низенькой чугунной решеткой и украшенным тремя кустами шиповника и тремя высокими пнями. Деревья – тополя – были спилены в войну, но их невыкорчеванные обрубки долго сохраняли в себе волю к жизни и во времена Светиного детства, пришедшегося на второе послевоенное десятилетие, все еще зеленели свежими побегами. Странные это были растения – послевоенные пни. Вокруг слегка наклонной площадки спила, отполированной до зеркальной гладкости, вздымались наподобие неуклюжего фонтана и разбрызгивались в стороны острые, жесткие ветки–прутья. Весной прутья набухали тяжелыми почками, от которых пахло каким–то лекарством, а летом, одевшись листвой, они превращали пни в некий вполне живой и устойчивый растительный организм, в нечто среднее между кустом и… цветком, в чашечке которого могли при желании поместиться несколько дюймовочек (или мальчиков–с–пальчик) подросткового размера. Кусты же шиповника – настоящие, посаженные недавно цветы – не котировались в пределах Светиного двора в качестве жилищ и укрытий. С мая по сентябрь бессменным розовым дозором стояли они по углам газона, осыпая на траву тугие шелковые лепестки, неинтересные детям.
Летом двор пустел. Детей отправляли в пионерские лагеря или в деревню, на парное молоко и босоногую жизнь. Белые ночи опускались в притихший двор и гасили вечернюю пестрядь окон, молчащих, раскрытых в жару, тихо играющих отсветами долгих закатов. Света с мамой почти никогда не уезжали из города летом. У них не было родственников в деревне, в лагерь же Свету мать боялась отправлять после того лета, когда она чуть не утонула на глазах у вожатой, потеряв дно и сильно испугавшись. Снять дачу в пригороде мать не могла, потому что копила деньги на кооперативную квартиру, которую и купила, когда Свете исполнилось двенадцать лет.
Зимой, весной и осенью Света носилась по двору, дралась с мальчишками за газон и в случае победы играла с подружками в куклы, устраивая на пне за завесой прутьев домик себе и резиновой дочке немецкого происхождения. У каждой маленькой мамы была в те времена такая дочка, купленная за сумму всего в сто раз меньшую, чем составляла величина взноса за кооперативную однокомнатную квартиру. «На кооператив» откладывали немногие, но дорогая немецкая кукла рано или поздно появлялась в любой, самой бедной, семье. Рано или поздно наступал день рождения, и на стул у изголовья ставилась коробка, и ночью открывалась крышка, и вынималась она – блондинка или брюнетка, с короткими волосами, или с косами, в платье полосатом или белом, неописуемо прекрасном, оставляемом на праздник, а новоявленной Соне или Кате (имя обозначалось в виде бесцветной татуировки на шее под волосами, и требовалась большая смелость, чтобы нарушить закон и назвать куклу по–своему), долгожданной «резиновой Зине», обутой в резиновые же бальные туфли, срочно шилось усталыми материнскими руками платье на смену, и часто оно шло Кате или Соне больше, чем праздничное.
В любой, самой бедной, семье…
Во времена Светиного детства все семьи в Ленинграде были одинаково бедны и одинаково богаты.
Летом Света скучала, слоняясь по двору вокруг газона, цветущего шиповником. Кукла Вера, переодетая от скуки мальчиком и остриженная, валялась у пня, устремив в небо поблекшие, не закрывающиеся от старости глаза. Света запихивала мальчика Веру в колючий куст и шла на канал стучать палкой по решетке набережной – развлечение, принимавшее у нее подчас форму мании, понятной, быть может, лишь тому, кто так же, как Света, провел детство в старом городе. Такой сверстник и земляк, «дитя центра», искушенное во всех запретных удовольствиях одиноких летних игр, помнит и посейчас тот особый тембр, с которым отзывается разогретый солнцем чугун на резкое прикосновение легкого, но прочного дерева.
Чугунная решетка издавала печальные вздохи, если Света плелась вдоль нее, лениво цепляя палкой за прутья, и гремела настырно–весело, если она бежала со всех ног, ровно ведя палку, а то и две (звук тогда выходил из–под палок сложный, сбивчивый и каждый раз новый). Днем на набережной было пусто. Вода в канале мягко колыхалась, баюкая тополиный пух. Наскучив игрой, Света бросала палки в воду и возвращалась во двор.
Однажды, в последнее лето перед переездом на новую квартиру, Света познакомилась на канале с девочкой из соседнего дома. Это была очень больная девочка, такая больная, что прохожие отводили глаза, проходя мимо нее. Света тоже отвела глаза, вдруг налетев на девочку со своими палками и чуть не сбив ее с ног. С девочкой были бабушка и собака, которая залаяла на Свету, но не тронула.
– Не бойся! – сказала больная девочка, ласково посмотрев на Свету. – Он не укусит.
Света и не боялась. Она с пяти лет мечтала о собаке, а этот пес был лучший из всех, какие когда–либо встречались ей. Он был большой, лохматый и черный.
– Это ньюфаундленд? – спросила она девочку. – Как зовут?
– Волк, – ответила девочка и качнулась от Светы к бабушке, с тревогой наблюдавшей за разговором, – но он очень добрый. А меня зовут Вероника. А тебя?
– Света, – тихо сказала Света и покраснела, потому что не знала, о чем говорить ей дальше с этой ужасно больной девочкой. – Ньюфаундленды все добрые…
– Пойдем, Верочка!
Бабушка потянула девочку за руку, собаку – за поводок.
– До свидания! – крикнула Верочка, обернувшись, и помахала рукой.
Но прощальный жест, такой обычный, не получился у нее, как и ожидала Света, тоже махнувшая рукой с палкой, быстро и странно. Руки девочки, и головка, и шея, и узенькие плечи – все ее члены, за исключением, может быть, одних ног, цепко хватающих землю при ходьбе, находились в непрерывном разнонаправленном хаотичном движении, как будто девочка была не человеком, а пластмассовой игрушкой–ходунком, вроде маленького трубочиста на барабане, которого подарили Свете давным–давно и с которым она редко играла, потому что ему не было пары и скучной казалась ей затея устроить театр из одного артиста. Нужно было давить на дно барабана, и тогда несложный механизм из ниток и пружины заставлял трубочиста скакать и паясничать, а если дно приближалось к его арене вплотную, он падал и превращался в груду останков, которые опять оживали, стоило отпустить палец. Девочка уходила от Светы, держась за бабушку правой рукой, а левая рука ее летала вокруг и все хотела сделать что–нибудь простое, незамысловатое, что так легко было сделать Свете, и бабушке, и кому угодно. То она наклонялась погладить собаку, но рука, не достав до загривка пса на вершок, взлетала к голове. То она поправляла косу, но коса вырывалась и падала на спину, и рука, махнув у виска, опускалась в карман. Карман не мог удержать руки, она опять вырывалась, порхала, сжималась, и разжималась, и гладила собаку, и поправляла косу…
Света смотрела вслед удаляющейся девочке, и у нее щипало в носу. Вот им навстречу попался мужчина с портфелем. Он отвел глаза и ускорил шаг. Верочка помахала ему рукой как знакомому, и у нее почти получилось, но рука сорвалась, сломалась и опять тянулась погладить собаку. Света вдруг поняла – так точно поняла, как если бы она сама стала этой Верочкой, – что девочка придумывает нарочно своей руке разные полезные движения, чтобы казаться такой, как все. Только все редко гладят собак, и поправляют косу, и прячут руку в карман, а Верочка – часто, потому что ей так, наверное, нравится.
«И кому какое дело, – разозлившись, подумала Света, когда мужчина с портфелем обернулся поглядеть им вслед. – И ничего особенного! И только нужно научиться делать все это помедленнее. Она и научится. Она недавно заболела и только начала поправляться…»
Больше в тот день Света не вспоминала о девочке. И потом долго не ходила гулять на канал, все сидела во дворе, мучая куклу и обрывая цветы шиповника. Свете до того случая еще не приходилось испытывать жалость к кому–либо, помимо героев книг, страницы которых были закапаны слезами нескольких поколений читателей детской районной библиотеки, где была она записана. А жалеть кого–нибудь в жизни Свете было незачем. Она была счастливым ребенком послевоенной поры. Ей предстояло жить и радоваться. Она не умела плакать по–настоящему. Жалость жестока. Не дай Бог заболеть жалостью в зрелые годы, не получив прививки в детстве. Не дай Бог устоять перед жалостью, не упасть, словно груда обломков, когда палец прижмет дно барабана к крышке, а потом отпустит, и человечек на ниточках восстанет и замрет по стойке «смирно», глядя перед собой бесстрашными бусинками глаз.