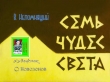Текст книги "Мизери"
Автор книги: Галина Докса
Жанры:
Прочая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
PAST PERFECT
(ПРЕДПРОШЕДШЕЕ)
Было так, или не было, или было уже все равно.
В мае Игорь отправил семью в Крым. Мальчик проболел всю зиму и так измучил мать, что она все чаще стала заговаривать с мужем о необходимости сменить климат, уехать из Петербурга – совсем, совсем! – хоть на Украину, откуда была она родом и где жили ее родители, звавшие хоть в Крым, продав квартиру, бросив все, но только бы не слышать детского надсадного кашля, захлебывающегося слезами, только бы забыть номер детской неотложки, все бригады которой, наверное, перебывали у них за семь лет жизни ребенка.
Игорь, соглашаясь в душе, выставлял возражения экономического свойства. Петербург обеспечивал ему хороший, очень хороший заработок, какого не могла дать провинция.
Игорь служил переводчиком в русском филиале крупной американской компании. Это позволяло ему иметь многое из того, чего не могло позволить себе большинство: фрукты ребенку, импортное лекарство, платного врача профессорского звания, отдых с семьей в любой точке земного шара и неработающую жену, зависевшую от него так прочно, что, люби он ее, даже при больном ребенке она, наверное, могла бы считаться счастливейшей из женщин.
Петербург, окруживший большинство своих жителей узким кольцом нужды и страха, разрешал меньшинству прорваться сквозь цепь флажков, не то красных, не то белых (вырвавшимся не хотелось оглядываться). Петербург, размыкая цепь то там, то сям, считал по головам свою стаю, прикидывая: «А ладно ли эдак? А хватит ли этих, рыскающих, чтоб отразиться во всех зеркалах моих новых магазинов, или еще подбавить, разбавить?..» Петербург разрешал немногим (Игорю разрешал) ходить по своим улицам с высоко поднятой головой, посвистывая, с любопытством рассматривая физиономию разномастной толпы, как во все времена запрудившей Невский.
Выражения лиц у встречных были тем спокойнее и веселее, чем медленнее двигались они. Прогуливающиеся держались середины тротуара и озирали витрины через головы спешащих. Спешащие шли не глядя по сторонам, строго соблюдая принцип правосторонности движения. Стоящие на троллейбусных остановках топили взгляд в туманной дали Невской перспективы. Невский сверкал свежими заплатками отремонтированных гостиниц и ожерельями вывесок – нерусских и русских, но так не по–русски глядящих, что любую разобрать было труднее, нежели английский дубликат, исполненный с несравненно большим вкусом.
Веселее всех глядели на Игоря иностранные туристы: его иногда так и подмывало отвесить какому–нибудь чистенькому подвыпившему немцу дружелюбный поклон – как в старину, – но подбородок немца обычно бывал задран несколько выше, чем Игорев, и они расходились, не раскланявшись.
Петербург благоволил к Игорю. Петербург разрешал.
Проводив семью, Игорь занялся ремонтом машины, старенькой, но еще надежной. Так началась его «пешая» жизнь: летняя, легкая, холостяцкая, беззаботная, какой он давно не имел, а в сущности, не имел никогда, поскольку лишь сейчас почувствовал, что богат. Молодая, красивая эта жизнь стояла спокойно и выжидательно, как продавщица во французском магазине, где купил он духи, не зная для кого, как не знал, что еще и что именно позволено ему в городе, цветущем сиренью и рекламой.
Он глядел на продавщицу и не видел ее или, может быть, видел ее с той мерой ясности, какую давал бы свадебный флер, скрывающий лицо невесты, предназначенной не ему, но его невеста тоже где–то ждет, предназначенная, ей лет двадцать–двадцать пять… нет – к тридцати, у нее голубые яркие глаза, высокий рост, маленькая грудь, круглая…
Стояли белые ночи. Летний сезон был самым горячим для филиала американской компании. Переводчики работали без выходных, по двенадцать–четырнадцать часов в сутки. Женщин–переводчиц увольняли по истечении испытательного срока, так как они не справлялись с режимом. Потом их вовсе перестали брать. Отпуск Игорю обещали в сентябре, а пока он гулял по Невскому и Садовой дважды в день, случалось, и ночами, которые так хороши в Петербурге и так располагают к мечтательности, что, право, его потянуло на Достоевского.
Как–то в конце июля Игорь сидел перед телефоном, лениво листая записную книжку. Он почти добрался до «С», когда раздался звонок. Звонила Света. Она просила его помочь с похоронами. Умерла ее мама. Почти год минул со времени их расставания. Голос в трубке был слаб, но отчетлив, а серебро, некогда отрадно звеневшее в нем, глухо шуршало. За весь разговор она ни разу не произнесла его имени. Горе, короткое слово, коренящееся в этом спокойном и нейтральном имени, не терпящем сокращений и уменьшительных суффиксов, казалось, одно, само по себе, скребя и постанывая в трескотне помех, обращалось к Игорю, однофамильцу, шапочно знакомому с ним, не уверенному, что его принимают за того, кем был он последние десять лет своей жизни, последний год этой жизни, проведенный в разлуке со Светой.
В этот год он видел ее только раз, из окна машины. Понурившись, опустив до глаз капюшон серого плаща, она брела по кромке тротуара, не обращая внимания на фонтаны весенней грязи, бьющие из–под колес. Игорь притормозил, но сзади ему грозно просигналили, и он проехал мимо, сказав себе, что женщина, бредущая по кромке тротуара в плаще, забрызганном грязью, не может быть Светой. Не ее район. Он не знал тогда, что Света перешла работать в школу. Отношения их были прерваны ею – жестоко, поспешно – на той опасной стадии, которая, продлись она, поставила бы Игоря перед выбором…
И опять вставал перед ним этот выбор. Голос в трубке сорвался беспомощной трелью гудков. Он подождал, грея трубку рукой. Набрал номер – семизначный шифр, отпирающий врата будущего, где каждая цифра имела свой цвет (он как–то попробовал рисовать; Светины глаза, прозрачно–карие, месяц плыли с листа на лист, светлея и расширяясь, пока она не разорвала, смеясь, варианты тех его старательных признаний)…
Он выбрал. Голос протянул ему короткое «да», назвал по имени, назначил час, когда должны они были увидеться.
Игорь бросился на помощь, как бросаются в объятия. Жалость, настоянная на дрожжах разлуки, кипела и пенилась в нем. Говорливый, расторопный и слишком оживленный рядом со Светой, он провел ее, полумертвую от усталости, по кругам бюрократических церемониалов, умело защищая от произвола власть имущих, присмертных инстанций, заканчивая последней – бригадой потных могильщиков, торопившихся под проливным июльским дождем опустить синий гроб с телом ее матери в грязную лужу, поднимавшуюся со дна ямы, приготовленной загодя.
Он вложил ей в руку ком влажной глины и заставил бросить вниз. Потом бросил сам – последним. Их было двое над могилой. Кроме матери, у Светы не оставалось родственников в Петербурге. Сослуживицы матери потерялись за двадцать лет, что провела она на пенсии. Светин отец…
Отца у Светы не было.
Дома Игорь напоил ее водкой. Света не плакала. Он с удивлением вспомнил, что за десять лет их знакомства ни разу не видел ее слез.
«Уйди, – попросила Света, сидевшая прямо и невесомо на краешке тахты (он обнимал ее, страдая от невыносимо сладкого чувства, в котором жалость не могла заглушить радости, мучительной до темноты в глазах). – Иди домой».
«Я не могу тебя оставить, – бесстрастно, насколько мог, проговорил Игорь. – Нельзя так убиваться, Ланочка. Приляг. Усни. На, прими таблетку. Ты не спала три ночи. Я уйду, когда ты уснешь».
Она послушно проглотила таблетку и легла на спину, неподвижно глядя в потолок, где шевелился световой узор из бликов, отброшенных настенной лампой. Хрустальные подвески качались; Игорь, сидевший в кресле, поминутно менявший положение, то и дело задевал головой низко подвешенный светильник. Вытянувшись струной, с руками, скрещенными у живота, еле заметно дрожа, Света неотрывно следила за движущимся узором, плясавшим на потолке. Игорь все поглядывал на нее искоса, проверяя: уснула ли? Дрожь затихла. Дыхания не было слышно.
«Еще подожду и лягу вот тут, на кровати…» – решил он.
Узкая кровать матери, покрытая шелковым розовым одеялом, притягивала взгляд. Он отвел глаза.
«Надо увезти кровать. Будет напоминать…»
Игорь не был знаком со Светиной мамой. Он знал о ней лишь то, что она одна вырастила Свету и что болела она долго, теряя год за годом куски тела, ныне упокоившегося на дне…
«Дьявол!» – отогнал Игорь видение, вставшее с кровати, и подошел к Свете.
Она спала навзничь без подушки, высоко закинув голову. Тело ее медленно обмякало. Он нашел подушку и подсунул под шею. Щеки ее воспаленно горели. Губы пересохли. Он снял с нее юбку и аккуратно повесил на стул. Юбка была влажной от пота. Он пошел в ванную и вернулся с мокрым полотенцем. Пока возвращался, полотенце совсем остыло. Света не проснулась, когда, присев у ее ног, он начал вытирать пот, водя полотенцем от ступней к коленям, от коленей к бедрам – сначала плавно, спокойно, потом, поняв, что Светин сон беспробуден, – резко, жестко, короткими ритмичными касаниями, почти ударами, долго, пока влажная ткань не согрелась, став теплей его рук, ледяных и горящих одновременно. Тогда он отбросил полотенце и упал лицом в ее ноги, сухие, как прошлогодний камыш. Хрустальный узор на потолке застыл неправильной звездой. От тела пахло землей и аптекой. Он быстро разделся и взял его. Стон одинокого блаженства, утонувший в плотном комке мертвой хваткой закушенного полотенца, не был услышан никем.
Откатившись, он закрыл ладонями лицо. Так ему стало вдруг страшно, что она умерла. Но Света дышала глубоко и ровно, в горле у нее что–то живое хрипело, пробулькивая, и улыбка мелькала – та, неуловимая ее улыбка, которую помнил он всегда, которую, кажется, любил прежде, чем увидел ее в первый раз. На спящем лице улыбка эта выглядела чужой, пугающе живой.
Он, торопясь, оделся.
Зазвонил будильник, и Игорь долго метался по комнате, ища его, но так и не обнаружил. Будильник умолк, не разбудив Свету. Игорь отнес прокушенное полотенце в ванную. Намочил губку и вернулся к спящей. Быстро омыл ее. Натянул юбку, застегнул. Опустил свитер. Повернул на бок и сунул подушку под голову. Накрыл пледом, выключил ночник.
Ушел.
«Я извращенец», – думал Игорь, заводя машину в ночи.
Он со слабеющей яркостью еще раз переживал случившееся. Ничто из испытанного им в жизни не могло сравниться по глубине и длительности с тем, о чем он пугливо силился забыть, выруливая на проспект.
«Я жалкий извращенец».
Он застонал и нажал на газ. Июльская ночь крошила звездную мелочь, рассвет зевал холодной пастью, язык его дрожал над горизонтом, как багровое облако.
COMPOSITE VARIABLE (2)
(СМЕШАННОЕ ПЕРЕМЕННОЕ)
– Сережа, как вы думаете, почему народовольцы убили Александра Второго? – спросила Света учителя физкультуры. Они вдвоем шли по проспекту, проталкиваясь сквозь толпу встречных.
– Ну… – сказал Сережа. – А вы не путаете меня с Самуилом Ароновичем?
Самуил Аронович преподавал в гимназии русскую историю. Он был старик. Света усмехнулась, мысленно поставив его на место своего спутника, озадаченного вопросом.
– Ну что вы, Сережа! Вас ни с кем не спутаешь. И все–таки, как вы думаете, почему?
– Баловались ребятишки, наверное.
Он резко выступил вперед, преграждая дорогу увальню, чей «дипломат» угрожал Светиному колену.
– …Самоутверждались, кто как мог.
– Там были не только мужчины, – продолжала Света. – Среди них находились и женщины. Была одна влюбленная женщина, была даже беременная. Ее не казнили, между прочим…
– Это вас дети пытают, что ли? – поинтересовался Сережа. – В этой гимназии, по–моему, собран цвет будущей… Пойдемте в кино, Светочка! – воскликнул вдруг он, отвлекшись афишей кинотеатра, надвигавшейся на них из переулка. – Я вам советую. Замечательный фильм! Стивен Кинг, острый сюжет…
– Ужасы? – предусмотрительно уточнила Света.
(«Почему бы и нет? – подумала она. – Я не была в кино… Кажется, в последний раз я была в кино два года назад. Три года…»)
– Ужасы не по мне.
– В финале есть немножко, но в целом это просто хорошая комедия. Пойдемте!
Он упрашивал почти как ребенок. Света почувствовала, что флирт, и до того не слишком ловко управлявший их прогулкой, ослабил кукольные нити кокетства и скуки. Ей вдруг страшно захотелось пойти в кино.
Она взглянула на афишу. Красными русскими буквами по голубому фону написано было в ней короткое английское слово. «Несчастье? – машинально перевела Света. – Еще: нищета».
– Вы ручаетесь, что это комедия? – недоверчиво спросила она учителя физкультуры.
Но тот уже тащил ее за руку к кассе, и Света покорилась. У нее внезапно исправилось настроение: смутное, тревожное недомогание, мучившее ее с самой «отвальной», отпустило, и милые маленькие желания запрыгали вокруг, как солнечные зайчики, послушные ее руке и взгляду. «Хочу в кино, – радовалась Света. – Хочу минеральной воды. Хочу бутерброд с осетриной!»
В фойе кинотеатра было пусто. До начала сеанса оставалось не меньше часа. Они заглянули в буфет. Сережа усадил Свету за самый чистый столик, стряхнул крошки, переставил чашки с недопитым кофе на соседний стол и направился к стойке. Света видела в зеркальной стене, как он быстро, на ходу пересчитывает деньги – два раза, замедляя шаг. «Бедные мы, бедные! – мельком подумалось ей. – Что ж, Мизери так Мизери».
Сияющий Сережа принес два бокала с шампанским, два пирожных и два бутерброда: с колбасой и с засохшей икрой. Давясь, Света прожевала и проглотила деликатес, отказавшись от пирожного (спутник ее был заметно голоден, и она испытала альтруистический восторг, глядя, как он в один присест уничтожил колбасу и десерт). Шампанское понравилось ей: оно немножко ударяло в голову, но Света помнила, что это скоро пройдет. Маленькие желания все трепетали в ней.
Учитель рассказывал содержание фильма, ожидавшего их внимания. «Не нужно, Сережа, – прервала его Света. – Мне будет неинтересно…» – и попросила минеральной воды.
Постепенно буфет заполнялся зрителями. Пожилая пара подсела к ним. Мужчина был лыс и носат. У женщины, кругленькой и подвижной, как каучуковый шарик, голубые мягкие волосы разделялись розовым пробором и падали на плечики двумя прозрачными крылышками. «Нет, не старушка, – решила Света, посмотрев на кругленькую Мальвину через донышко бокала (она жадно втягивала в себя остатки минеральной воды). – Лет пятьдесят, а то и меньше. Чуть постарше меня».
Сережа подал руку, приглашая вернуться в фойе. Света грациозно встрепенулась, вставая. Носатый мужчина задел локтем стакан, и тот упал, расплескав содержимое. Мальвина качнула головкой. Флирт–кукловод лениво пошевеливал пальцами. В фойе стало душно. Света сняла шапку и вертела ее на руке, пока она не упала и учитель физкультуры не завладел ею, упрятав в сумку. Из зрительного зала доносились жалобные вопли. Подростки бродили вдоль стен, прислушиваясь. Свете становилось скучно. Пары шампанского рассеялись, оставив после себя головную боль. В животе бурчало.
– Почему вы пошли в школу? – спросила Света учителя физкультуры. – Вы любите детей?
– Терпеть не могу, – сказал учитель. – Светочка, ну что вы все о серьезном? Давайте отдыхать!
Света виновато покивала ему.
– Вы давно бросили спорт, Сережа?
– Не помню, – ответил учитель. – Давно.
– А в каком году вы закончили институт?
– Я вам завтра скажу, забыл.
– А каким видом…
– Художественной гимнастикой, – нахмурившись, снова беря ее под локоть левой рукой, а правой изобразив волнообразное движение (чем вызвал смех у девчонки, исподтишка наблюдавшей за ними с дивана), буркнул Сережа и подтолкнул Свету к залу. – Смейтесь, смейтесь, Светочка. Разминайтесь. Сейчас начнется марафон…
«Здесь, наверное, много наших учеников», – спохватилась она, когда погас свет в зале, но тут же улыбнулась довольно. Огромная зима – зима в горах, – безлюдная бело–голубая нерусская зима оживила экран.
Американская комедия не обманула ожиданий. Актеров было двое, были они немолоды, некрасивы и играли как сумасшедшие: весело, наслаждаясь каждой сценой, влюбленно жонглируя предметами несложного реквизита, предоставленного им скромным сценарием. Света хохотала и всплескивала руками. Учитель физкультуры взглядывал сбоку, довольный эффектом, произведенным фильмом, который он если не сам отснял, то, по крайней мере, выбрал из многих других, что требовало не меньшего вкуса.
Учитель не смеялся. Он смотрел «Мизери» в четвертый раз. Пожалуй, он предпочел бы для себя что–нибудь более острое, с эротической, например, подоплекой или, на худой конец, с политической… Но эта лента была как будто создана для его соседки. С первых кадров плененная игрой, Света, не переставая, прыскала, хихикала, ерзала, временами растроганно охала, жалея героиню (увы, та страдала опасной манией, но Света последней в зале догадалась об этом), и, смахнув слезу, умиленно любовалась грациозными движениями героя с загипсованными ногами, нервно разъезжавшего на инвалидной коляске по комнатам затерявшегося в горах дома.
Под самый конец комедия стала давать сбои. Вымотались актеры, запутались сценарные ходы, с некрасивой пожилой няньки инвалида была сорвана маска, и появился первый труп.
– Предупредите меня, когда начнутся ужасы, – шепнула Света. – Я закрою глаза.
«Я люблю тебя», – простонал инвалид со дна погреба, куда он был сброшен обезумевшей няней. Признание это, очевидно, не являлось искренним. Света в последний раз ощутила укол жалости (больной женщине ничего не оставалось больше, как поверить лживому признанию) и стала торопить конец. Как часто бывает после приступа искусственного веселья, последовала реакция. Свете взгрустнулось. Она поднесла к груди запястье с часиками и попыталась разглядеть стрелки.
Время было позднее. Герой высек огонь из зажигалки, и легкий реквизит вспыхнул. Безумная пала на колени.
– Закройте глаза, – сказал Сережа и сжал Светину руку. Рука дрогнула, расправила на мгновение пальцы, потом гибко, мягко свернулась и обняла его ладонь.
– Не открывайте, – шепнул он ей в самое ухо.
Но Света решилась и приоткрыла глаза. На экране дымилась бутафорская кровь. Раздробленный череп героини бился об пол. Сережа прижал к лицу руку Светы и водил по ней сильными губами: от косточки запястья до косточки указательного пальца, медленно, то увеличивая, то уменьшая амплитуду касаний. Окровавленная голова разрослась и заполнила экран. Свету замутило. Она опять закрыла глаза.
Эпилог за столиком ресторана совершенно разочаровал ее. Разгипсованный, герой потерял большую часть своего обаяния. На миг мелькнуло лицо убиенной няни, заставив Свету вздрогнуть. Быстрым движением она высвободила руку из покачивающегося, влажного гнезда мужских прикосновений и вытерла ее о юбку. Учитель накрыл вмиг остывшую руку горячей ладонью, прижал сильно, как бы наказывая ослушницу, и принялся уговаривать, немного небрежно, снисходительно–ласково поигрывая ломкими пальцами. По экрану поползли титры. Зрители вставали с мест. Маленькие желания, развлекавшие Свету в этот вечер, исполнили прощальный танец и, слившись, померкли. Света с грустью проводила взглядом последнее имя, поднимавшееся, бледнея и торопясь, к вершинам забвения. Что–то очень суровое и… хмурое, как судорога страдания на безвольном лице, что–то тяжелое и грубое, как неизбежность падения для всякого – самого легкого! – тела, отпущенного лететь к земле, что–то знакомое до мелочей, узнаваемое по единственному взгляду в себя, исподлобья, коротко и глубоко, что–то абсолютно не мое и безымянное набирало силу, затмевая тошноту, слюной залившую рот, и овладевало мыслями – немногими, теми, что еще оставались при ней, что были при ней неотлучно с тех самых пор, как…
«Один раз, – сказала себе Света, сглатывая слюну. – Один раз, и достаточно. На всякий случай».
Она шевельнула рукой, повернула ее ладонью вверх и сплела с мужской кистью, ответившей благодарным объятием. Плавно проведя пальцами по шершавой поверхности чужой ладони, чиркнув ногтями о запястье, она поднялась и вышла из зала. Не оглядываясь, видела она, как учитель идет за ней след в след, подняв плечи, засунув руки в карманы полушубка, и на лице ее, сведенном брезгливой гримасой, росла прямая, как порез, улыбка решимости.
«Какие руки! – думала Света, натягивая варежки. – Какие умные руки!»
Учитель нагнал ее у выхода, и они быстро пошли по проспекту к метро, храня молчание.
* * *
Он был моложе ее пятью годами.
«Лет на пять», – прикинула Света, когда Игорь подошел к ней с приглашением на танец, и весело кивнула, подавая руку. Южная ночь остывала. Танцплощадка освещалась единственным фонарем, прикрепленным к провисшему, низко протянутому над головами танцующих проводу; до фонаря легко было достать рукой, чтобы качнуть его, а вместе с ним световой круг, обнимающий пары, неплотно, но красиво расставленные курортным амурчиком, вертлявым мальчишкой грузинских кровей, ловким распорядителем летних балов. «Лет на пять» в качающемся круге света звучало озорно и коротко, как скрип единственного фонаря, из всех уцелевшего к августу, порхающего над неровной, сплошь выбоины да трещины, площадкой, по которой Игорь вел ее, старательно обозначая повороты медленного фокстрота, понятного им обоим и им одним из всех, танцующих в эту ночь на задворках дешевенькой турбазы, куда отнесло их – вот удача! – как две карты равной масти, а все прочие были бубны да черви, и красно становилось в глазах от дневного солнца, скакавшего зайцем по холмам человеческих спин… отнесло ветром, опустило, сложило лицом – ненадолго, «на пару недель»…
Игорь вел осторожно, широко, не покидая освещенного круга, ибо было просторнее здесь, на свету, а прочие пары топтались по углам, не прислушиваясь к подробному ритму фокстрота. Света качнула фонарь посильнее и разбила о железный каркас стекло наручных часов. Стало смешно и понятно, зачем все это: зачем она приехала скучать в августовское пекло из грустного города своей жизни; зачем осторожно и верно ведущий ее по кругу мужчина, нет, угрюмо–застенчивый юноша, севший на платформе Московского вокзала в один с нею вагон, сопровождавший тревожащим взглядом каждую ее проходку по узкому коридору в двухдневном мучительном путешествии на юг, поменявший неделю назад место в столовой с предписанного ему на ближайшее к ее, у окошка, столу, расстилавший казенное полотенце на влажном песке в полосе прибоя в пяти шагах от ее ног, шелушащихся змеиной молодостью (так зудяще–приятно, так соблазнительно для острых голубоватых ногтей); зачем он, все же не столь уж застенчивый (несколько раз, сталкиваясь в коридоре, в столовой, в полосе прибоя, у грязного пляжного душа, Света встречала и сносила, легко волнуясь, пристальную, прямую улыбку приветствия, блеск из–под ресниц, жест узнавания, взмах подвижной ладони), зачем все же он… они… выжидали, кожей собирая солнце, и соль, и степной ветер… к вечеру ветер стихал, руки в сумерках были невидимы, только ногти белели, как лепестки ночной фиалки, и пахло тмином из маленькой кофейни у шоссе… ждали, как если бы дата их знакомства – 15 августа такого–то года – была оговорена заранее, и они не могли, как ни желали, приблизить ее.
Их было двое на дешевой турбазе в захолустном местечке, излюбленном обрусевшими украинцами из близлежащих областей. Две тени северного города, немыслимого тут иначе как призрак и существующего лишь силою их воображения, их молчаливой памяти, их долгого уже одиночества и хронической усталости, сказывающейся в неумении сдружиться с соседями по комнатам–клетушкам, лишенным окон, но снабженным (каждая) стеклянной дверью. Жарким днем эти двери распахивались во всю ширь, и в проеме вывешивались мокрые простыни в надежде на минутную прохладу. Влага испарялась за четверть часа, и Света опять окунала простыню в бочку, расплескивая воду, и слегка отжимала, и тянулась руками к веревке… Игорь видел это, стоя на своем крылечке, пять дверей разделяло их, влажные простыни тяжело свисали, высохшие хлопали на ветру, срывались, уносились прочь… Светина соседка все дни проводила на пляже, а Света больше не могла видеть моря: серого, мелкого, теплого… шепчущего… блещущего расплавленным серебром.
…………………….
– Ваша простыня, – сказал Игорь, перешагнув порог комнаты. Света спала, руки ее шевелились у ног, не касаясь кожи. Он повесил простыню на спинку кровати и вышел. «Спасибо», – подумала Света, открыв глаза. Она улыбалась. Жара спадала. Звонили к ужину. Соседка Маша кинула, не входя, сумку на кровать и убежала. Сегодня заканчивалась ее смена. А у Светы была впереди неделя. Она постелила простыню, белую, ветхую от нескончаемых пыток водой, солнцем и ветром, заправила края под матрас и разгладила складки. Потом, поколебавшись, достала полотенце, сорвала простыню, положила полотенце на матрас и снова застелила постель, подоткнув кругом. На ужин в тот день были обещаны пирожные. Света облизнула губы и побежала босиком по сухой лужайке к фанерному шатру, звучавшему алюминиевым звоном. Часы показывали четверть восьмого. Скоро, совсем скоро пришла ночь, о которой одной лишь помнила теперь Света, проводя пальцем по хрустальным подвескам ночника, бросавшего неправильные блики на потолок комнаты, где смерть, молодость и усталость медленно двигались в качающемся кругу, в лабиринтах света, затмевающего память о жизни, кончившейся вдруг, бесповоротно и скучно, как трехнедельная смена курортного отдыха, как праздничный ужин за случайным столом, как кончится когда–нибудь и эта минута ожидания.
– Сережа, – спросила Света, – вы любите танцевать?
– Иногда, – сказал учитель физкультуры. – Еще вина?
– Немножко, – кивнула Света и посмотрела ему в глаза сквозь хрустальную линзу бокала.
Ей было нехорошо, но все прошло, когда заиграла музыка.
* * *
«А помнить нужно так, как слушаешь музыку», – думала Света, слушая музыку, перемешанную с шепотом, щекочущим щеку и ухо.
Волосы рассыпались и мешали. Надо было поднять руки и сколоть их, но руки не поднимались.
«Зачем я все думаю? – продолжала Света, досадуя на себя. – О чем я думаю?»
Она чуть отстранилась и сделала то, что хотела: подняла руки и сколола волосы на затылке. Но учитель, не перестававший шептать, капризно поймал ее руку и вернул на прежнее место. И шпильку он, мягко негодуя, вынул, и волосы растрепал, и левой рукой прижал Свету к себе, а правой потянулся к ночнику.
«Я думаю о музыке», – вспомнила Света, но она уже не думала о музыке, а только старалась удержаться в том состоянии покорности и решимости, которое владело ею этим вечером и которое, как догадывалась она (с трудом удерживаясь от смеха при взгляде на себя со стороны), не продлится долго. Она вздохнула и попробовала представить все таким, каким не бывает ничто, а потерпев неудачу, она попыталась стать такой, какой она никогда не могла быть, какой она никому не могла быть нужна, даже себе, и учителю тоже… смешной, обаятельный человек… поменьше думать… да… никому не нужна такой, а – собой?..
Она постаралась разобрать слова шепота, согревавшего ей шею то с правой, то с левой стороны, уловила вопросительную интонацию, звучавшую в нем, согласно погладила Сережу по щеке и остановила пластинку, раздражавшую ее уже несколько минут. «Я сама, – сказала она, тем прекращая горячительный шепот, опасно смешивший ее. – Одну минутку».
* * *
Если б можно было так помнить, как слушаешь музыку! Жить так, разумеется, нельзя, но, может быть, хоть помнить? Тогда воспоминания были бы счастьем, и болью, и мерилом, и нескончаемы были бы они, и принадлежали бы не только мне, которая знает эту пластинку наизусть, такт за тактом, ноту за нотой, но все равно пятнадцать минут ее звучания, та скрипичная жалоба в начале, и тот наступающий марш, где рояль шумит, как тысяча барабанов, и восход трубы в финале, расширяющийся и мерцающий в своей сердцевине, это как будто кровь пульсирует в выздоравливающем теле!
…Света смотрела на алое пятно крови, волнистое, с темной каймой по кромке, по форме напоминающее собой крыло бабочки, и испытывала чувство, также подобное полету новорожденной бабочки, слепо порхающей над развалинами куколки, о которой уж и не вспомнить, а как темно, безвыходно и томительно было ждать там, спеленутой по рукам и ногам, не зная, когда, почему и будет ли, не обман ли то, что должно произойти, если верить пульсу крови, бившему долго, но вот все кончилось, как и должно кончаться, нет никаких других путей, кроме этого, порхающего, слепого, беспамятного и… короткого, может быть, очень короткого!
«Боюсь, нам не успеть дослушать пластинку…» – подумала Света. Сердце приятно постукивало, поднимаясь.
Заметив, что дверь ванной не заперта, она задвинула шпингалет, пустила воду сильной струей, быстро оделась и присела на край ванны, лихорадочно соображая, что бы ей такое придумать – сию минуту, со всей возможной находчивостью.
«Тьфу ты, как нехорошо», – ругнула себя Света, услышав приближающиеся шаги по коридору, а потом – тихий стук в дверь, а потом мужской голос, охрипший от долгого шепота:
– Светочка, что с вами?
Ей стало так нестерпимо смешно, что пришлось зажать рот рукой. Дверь задергалась. Шпингалет заерзал, один винт выпал и покатился по полу.
«Господи!» – лениво взмолилась Света, отдуваясь после приступа истерического веселья, сметавшего все на своем пути, даже мысли, все до одной, без исключения.
– Что случилось? – прокричал тревожный человеческий голос над самым ее ухом.
Шпингалет валялся на полу. Света в ужасе посмотрела на учителя физкультуры. Лоб его был покрыт каплями пота, губы дрожали, а в руке он держал плоский столовый нож.
– Ми–и–зе–ри, – промычала Света, зажимая обеими руками смеющийся рот. – Настоящая Мизери.
Сладкая тошнота подступила к горлу и дала выход смеху вместе со всем, что накопилось внутри нее и не могло больше быть сдерживаемо. Шаг к раковине оказался слишком длинен. С извиняющейся, кривящейся жалобой улыбкой Света встретила руки учителя и потеряла сознание.
– Осетрина… – весело пожаловалась Света. – Не первой свежести.
Она сидела в кресле, в прихожей, внимательно наблюдая через полуоткрытую дверь ванной за тем, как двигаются лопатки на голой спине учителя физкультуры. Тот мыл руки, ожесточенно скребя их щеткой. «Художественная гимнастика», – вспомнила Света и поскорее нахмурилась, опасаясь истерики. Хмурясь, ей легче было жалеть и виниться. Жалеть не себя и винить себя – что может быть надежнее этой вечной формулы спокойствия!
– Наденьте халат, коричневый, у зеркала, – заботливо посоветовала Света.
Сережа взглянул на новенький мужской халат, висевший плечом к плечу с белым женским, потрепанным, и презрительно дернул усом. Света отметила, что усы у него гораздо темнее и пышнее шевелюры, и контраст этот представился ей яркой чертой мужской привлекательности гостя. Она чуть–чуть не произнесла комплимента, просившегося на язык, но вовремя спохватилась и болезненно кашлянула, отвечая на прохладный вопрос о здоровье.