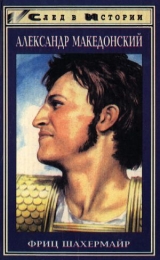
Текст книги "Александр Македонский"
Автор книги: Фриц Шахермайр
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 36 страниц)
Однако пропасть, отделявшую смертного от бессмертных, не мог переступить даже царь: как бы ни возвышался он над подданными, ему не дано было ни быть, ни стать богом.
Жителям Востока падение ниц казалось естественным; македонянам и грекам представлялось нелепостью преклонять колена перед другим человеком, когда они и перед богами-то склонялись разве что при большом несчастье, прося их о помощи. Да и отношение их к бессмертным было, с одной стороны, слишком доверительным, а с другой – слишком скептическим для того, чтобы падение ниц воспринималось как естественная форма обращения даже к богам.
Что касается царя, то он был у них «первым среди равных». Никакого принципиального различия между ним и окружающими быть не могло. Подчеркивать каким-то особым образом его авторитет считалось бессмысленным. Скорее надо было заботиться о том, чтобы и перед троном сохранить достоинство свободного человека, имеющего право высказывать свое мнение, ибо любой авторитет оправдан лишь в том случае, если он признает свободу своих сторонников. Власть, не считавшаяся с нею, казалась греку деспотией.
Само собой разумеется, что в свете таких представлений церемониал проскинезы казался совершенно невозможным. Когда эллины ближе познакомились с восточными обычаями, именно коленопреклонение вызвало наиболее резкий протест. И даже ложная «греческая интерпретация» (толкование чужого в духе греческих представлений), находившая в этом акте проявление «уважения к богам», ничего не могла изменить: эллины продолжали смотреть на этот обычай с презрением. Именно отсюда рождалось их высокомерие, их презрение к миру рабства с точки зрения мира свободы – позиция, которую с готовностью заняли и македоняне, после того как причастились эллинской культуры.
Когда Александр милостиво принял в свое окружение иранских вельмож, то для них проскинеза казалась вполне естественной: владыка выступал как преемник Ахеменидов и новый Великий царь. Разумеется, они совершали коленопреклонение с благородной сдержанностью, не боясь при этом македонских насмешек. Македонян это все равно раздражало: они не хотели видеть согнутыми перед Александром даже и спины персов. Получилось, что при дворе были заведены два церемониала, а это вступало в явное противоречие с провозглашенным равноправием иранских и македонских вельмож в новой империи. Долго так продолжаться не могло.
Проще всего было запретить коленопреклонение восточным подданным. Македонские вельможи, как и греки, этого, вероятно, и ожидали, но, как оказалось, напрасно. Александр не только терпел проскинезу: она ему явно нравилась. И тогда родилась страшная догадка: царь не только одобряет эту церемонию, но ожидает ее и от своих приближенных-европейцев. Вскоре это уже стало очевидным, так как Гефестион и некоторые другие приближенные царя начали агитировать за проскинезу.
Что же заставило Александра добиваться осуществления своего замысла через ближайших друзей? Было рискованно испытывать силу и могущество царской власти, отважившись на введение подобного обычая.
Можно предположить, что царь руководствовался следующими соображениями: он стремился сблизить культуры Востока и Запада, как бы привести их к единому знаменателю, потому что ни в чем так не различалось их мироощущение, как в их отношении к проскинезе. Признание или неприятие проскинезы было символом противостояния мира свободного миру рабства. Это-то противостояние Александр и хотел уничтожить, вводя проскинезу равно для македонян и греков, прежде принадлежавших к миру свободных.
Действительно, противоположное решение – отмена проскинезы для восточных подданных – означало бы, что общим знаменателем мировой державы станет свобода, а это открывало бы иранцам путь к западной демократии. Однако властитель вовсе не хотел этого. Ему требовалось безусловное подчинение всех и вся. Известную роль тут сыграла и горькая досада Александра на то, что его окружение не смогло в полной мере оценить присущие ему творческие силы. Большинство македонян уважали в нем смертного царя; никто, разумеется, не отрицал его дарования, но его не ставили выше человека, не могли и не желали понять, что его повеления должны исполняться беспрекословно, без всякой критики и возражений.
Александр уже много лет искал такую форму государства, которая больше соответствовала бы его личности и новым сложившимся взаимоотношениям. С этой целью он и воспользовался оракулом Аммона, о чем мы рассказали выше. Хотя идея причисления царя к богам получила поддержку далеко не у всех его приближенных, тем не менее это не заставило Александра отказаться от своей концепции. Напротив, со временем ему стало уже мало считаться сыном бога. В душе его рождалось притязание на прямое обожествление.
Тесное соприкосновение с миром иранских представлений навело царя на мысль, как можно достигнуть желанной цели. Персидские цари почитались своими подданными намного выше, чем эллинские бога: такое почитание не выпадало у греков даже на долю величайших из богов. Можно сказать, что авторитет Великого царя превосходил любой греческий культ; персидский царь обладал именно той безусловной и абсолютной властью, которой Александру так недоставало. Случались, разумеется, протесты и мятежи против персидского царя, но всякий, кто признавал его, покорялся ему беспрекословно. А это было как раз то, к чему стремился Александр. Вот откуда идет его склонность к формам восточного владычества. Став Великим царем, он почувствовал себя намного лучше, чем на прародительском македонском троне: первое соответствовало, а второе противоречило масштабам его личности.
Если бы ему удалось в той или иной форме добиться от македонян признания его Великим царем, то это означало бы так страстно желаемое им высвобождение из сдерживающей его инерции македонских представлений о царе. Произошло нечто, напомнившее прибытие к Геллеспонту, когда Александр с корабля метнул копье на новый берег – арену своих небывалых подвигов. Теперь с помощью проскинезы он сразу же хотел превратиться в «Великого царя македонян» и получить таким образом даже не божественные, а более чем божественные права. Возможно, это самый смелый, гениальнейший из его планов, который, несмотря на неудачу, был шедевром психологического расчета.
В самом деле, македоняне и греки преклоняли колена только перед сверхъестественной силой. Если бы теперь они согласились на проскинезу, то этим молчаливо признали бы не только безусловный авторитет Александра, но и его божественное происхождение. Не желая терять чувство собственного достоинства, честь и привычную гордость, македонянин и грек не могли пойти на это. В том-то и был тонкий расчет Александра: вводя персидский церемониал, он учитывал одновременно и его традиционную, окрашенную эмоциями «греческую интерпретацию» [240]240
Herodot. VII, 136, 1; Isocrat. IV, 151.
[Закрыть]. Мало того, он верно почувствовал и покоряющую, как бы гипнотическую силу этого символического акта. Он ясно понимал, что павший ниц долго не сможет освободиться от психологических последствий своего поступка. Остальное свершится само собой. Прецедент перейдет в обычай, к которому должны будут поневоле приспособиться все. А там уж по возвращении в Вавилон, Александрию или саму Македонию никто не отважится оспаривать прочно укрепившуюся традицию.
Поэтому важно было положить начало этому обряду именно во время похода. Здесь насчитывалось всего сотни две, а в сущности не более двух десятков людей, сопротивление которых могло бы помешать введению проскинезы.
Александр понимал, что предстоят немалые трудности и преодолеть их можно лишь одним способом: проскинеза не должна казаться принуждением. Требовались если не энтузиазм, то хотя бы инсценировка добровольности. В задачу Гефестиона и других приближенных входило показать пример, убедить, увлечь. Нелегкая задача, невольно заставляющая вспомнить Марка Антония, которому выпала столь же неблагодарная роль при Цезаре, когда потребовалось инсценировать желание народа видеть диктатора своим царем. Александр предугадывал несогласие большинства македонских вельмож, но чего он недооценил, так это сопротивления со стороны эллинов. До сих пор греки действительно были покладисты и даже тактично признали Александра сыном бога Аммона. И все-таки именно грек подал в самый острый момент пример сопротивления.
Ареной действий оказались на этот раз то ли зимний лагерь в Навтаке, то ли Бактры, где Александр провел весну. Свидетельства источников, к сожалению, скромны, и многое в них оказывается позднейшей интерпретацией. Это естественно, так как официальные сообщения об этом деле не поступали вовсе и о происшедшем знал только узкий круг приближенных. К тому же сообщения поздних историков явно преувеличивают роль греков в одобрении или отрицании проскинезы. Более всего в этом деле они акцентировали внимание на позиции Каллисфена, родственника и ученика Аристотеля. Отсюда ясно, почему происшедшее особенно занимало перипатетиков, которые и ввели в источники сцену словесного поединка между философами. Противником Каллисфена, одним из Александровых «льстецов», называли чаще всего Анаксарха, последователя Демокрита.
Каллисфен справедливо считался представителем греческого национального и культурного сознания. Образовалось оно, естественно, совершенно независимо от Александра и было издавна проникнуто гордостью эллинов, противопоставлявших себя персам; оно держалось на отрицании тирании и признании свободы на основе специфически греческого права. Над созданием этого мировоззрения потрудились едва л. лне все эллинские мыслители и ораторы. Каллисфен как историк и политик находился, можно думать, прежде всего под влиянием Исократа, а как философ следовал Аристотелю. Этим определялась его точка зрения, согласно которой он требовал сохранить грань между Западом и Востоком, одновременно горячо отстаивая идею добровольного подчинения эллинов Александру. Никто активнее его не проповедовал идею божественного происхождения Александра, так как она вполне укладывалась в рамки греческих представлений. Даже идея божественности царской власти вряд ли была принципиально неприемлема для Каллисфена. Возможно, что некоторые мероприятия, направленные на ориентализацию, не вполне ему нравились, но он продолжал придерживаться несколько искусственного тезиса, будто Александр отвечает эллинскому идеалу богоподобного вождя и спасителя нации. Каллисфен стоял на стороне царя до 329 г. до н. э.
Лояльная позиция Каллисфена, готового на сочинение панегириков Александру, была тем примечательнее, что никоим образом не объяснилась сколько-нибудь близкими отношениями с царем. Этому «профессору» совсем несвойственна была хитрость и мягкость обхождения; более того, вызывающе самонадеянный грек был иногда далек даже от элементарного такта. Поэтому ему не удалось приспособиться к обстановке в придворном лагере, в чем преуспел, например, расчетливый и ловкий Анаксарх. Особенно не милы были Каллисфену бесконечные ночные пиры, которые царь проводил за крепким вином. В то время как другие придворные хотя и вздыхали, но терпеливо переносили нагрузки такого рода, Каллисфен чаще всего просто отказывался от приглашения. Это вызывало уважение к нему, но не сближало его с царем.
Роль Каллисфена как духовного сподвижника Александра основывалась на энергично защищаемом им тезисе, будто Александр все еще служит панэллинскому идеалу. Но когда речь пошла о проскинезе, случилось неизбежное: «профессор» уловил наконец изменение целей Александра. Ему их значение стало теперь намного яснее, чем другим. Грек увидел в наступавших переменах отказ от основ эллинской культуры. В церемониале, введения которого так желал царь, он считал наиболее позорным не оказание божеских почестей, а проявление рабской покорности, принятое у варваров. В свете эллинских философских идеалов царь-гегемон превращался теперь в деспота, свободные – в рабов; грекам грозило духовное порабощение персами. Каллисфен понял, что теперь под сомнение ставится все, что до сих пор поднимало его народ над варварами. Пусть Анаксарх и другие льстецы трубят о неслыханности подвигов Александра, для Каллисфена нет ничего выше эллинской культуры. Оказавшись перед выбором: либо Эллада, либо отрицающий ее Александр, Каллисфен избрал Элладу, показав себя не приверженцем царя, а учеником Аристотеля, защитником прав и свободы.
Дальнейшими сведениями мы снова обязаны Харесу. Птолемей, по-видимому, умолчал об этом деле, и получилось так, что наш гофмейстер оказался единственным из историков Александра, кто смог передать сцену ссоры, являясь к тому же ее свидетелем. Его рассказ, сохраненный, к сожалению, лишь фрагментарно, нашел свое отражение у Плутарха и Арриана [241]241
Plut. Al., LIV и сл.; Arr. IV, 12, 3 и сл.
[Закрыть]. Если соединить вместе, получается история с целым рядом интересных деталей. Мы на минуту как бы раздвигаем занавес, для того чтобы увидеть или уловить все, происходившее за кулисами двора.
Снова званый обед у царя, но уже совсем особого рода. Все присутствующие в крайнем напряжении. Гефестион – главный устроитель. Он побеседовал с каждым из приглашенных и попытался сговориться относительно того, как будет протекать церемония.
Все произойдет так: царь будет пить за здоровье каждого из гостей по кругу. Сначала он поднесет золотую чашу к своим устам, а затем пошлет ее тому, кого чествует. Тот должен подняться, подойти к алтарю, опорожнить там чашу, затем пасть ниц и, наконец, обменяться с царем поцелуем в уста.
Тут сразу встает вопрос о роли алтаря. Какая связь между ним и проскинезой? Исследователи не знали, как это объяснить, пока наконец не догадались. Безусловно, речь идет о персидском огнепоклонстве. Значение этого ученые осознали далеко не сразу, оно выяснилось только благодаря опубликованным не так давно административным документам из дворца в Персеполе.
С древнейших времен у иранцев сохранялась вера в огонь, принятая и Заратуштрой. «Огонь – высшая сила: он окружает мир и проникает в него; все живет только тем, что горит, и во всем горит один и тот же небесный огонь. Человек также живет одной этой силой, и воля его и разум суть проявления этого небесного огня, который действует в нем, через него, из него» [242]242
Цит. по: К. Erdmann. Das iranische Feuerheiligtum, 1941. Литература по вопросу приведена в: Fr. Schachermeyr. Alexander in Babylon und die Reichsordnung nach seinsm Tode. Wien, 1970, c. 38 и с. 682.
[Закрыть]. Огонь означает здесь также и свет – божественную стихию, противостоящую тьме зла.
То, что возвышает Великого царя над другими смертными в культовом смысле, так это его непосредственное отношение к божественному огню. Огонь обладал тем, чего Александру так хотелось, – божественностью. Поэтому отныне его постоянным спутником стал огонь, зажженный на алтаре или же несомый перед царем на серебряной подставке.
По всему царству было множество алтарей огня; и повсюду при них находились жрецы огня, одновременно исполнявшие от имени царя административные функции. Поэтому Великий царь приобретал особое величие как от сопровождавшего его и лично с ним связанного огня, так и от своей роли верховного владыки огненного культа всей державы. Насколько серьезно к этому относились, видно из того, что после смерти Великого царя во всей империи священные огни были погашены и зажжены вновь только после восшествия на престол нового царя [243]243
Diod. XVII, 114, 4.
[Закрыть].
Если на алтаре, о котором упоминает Харес, действительно горел огонь, то это мог быть только персидский царский огонь. Став преемником египетских фараонов, Александр торжественно принес жертву Апису. Заняв трон в Вавилоне, он поклонился богу Мардуку и не отступил ни в чем от древнего обычая. Теперь в Иране он должен был принять священный огонь, раз уж он счел себя преемником Ахеменидов. Несомненно, персидские придворные царя старательно поддерживали повсюду сопровождавший его огонь, заботясь о том, чтобы в империи под эгидой нового царя сохранилось идолопоклонство.
Теперь становится понятно, почему перс, комендант Вавилона, ознаменовал прибытие нового властителя устройством жертвенных алтарей [244]244
Curt. V, 1, 20.
[Закрыть]. Они символизировали царский огонь, который впервые осветил победителя в знак обретенного им величия Великого царя. До сих пор полагали, будто Александр мало заботился о религиозных представлениях и обрядах персов. Теперь это положение было опровергнуто. Если рядом с Александром был царский огонь, сопровождавший его и в торжественных случаях ярко освещавший его лицо, то при его дворе и главной квартире должны были находиться жрецы, а следовательно, иранские верования были ему ближе, чем думали раньше. Он, конечно, понимал, что поклонение огню важнее для обоснования преемственности власти, чем персидская одежда. Отсюда становится более ясным смысл стоящего особняком свидетельства Диодора [245]245
Diod. XVII, 114, 4.
[Закрыть], что Александр зимой 324/23 г. до н. э., во время траура по поводу смерти Гефестиона, велел погасить огни на всех, а следовательно, и на царских алтарях. Этот символический акт объясняется тем, что покойный в последние годы являлся соправителем Александра. Также и после смерти Александра, как уже говорилось, были погашены священные огни [246]246
Curt. X, 5, 16.
[Закрыть].
Теперь о связи алтаря с введением проскинезы. В монографии, вышедшей в 1949 г., говорилось о том, что рассказ Плутарха, восходящий к Харесу, наводит на мысль о коленопреклонении не перед Александром, а перед огнем алтаря. Этот тезис оспаривался некоторыми специалистами. Теперь считается, что текст допускает такое толкование, но предполагает скорее иное [247]247
Ср.: Plut. Al., LIV, 4 (Chares, frg. 14-a); Arr. IV, 12, 3 – 5.
[Закрыть]. Персы, пожалуй, падали ниц перед самим царем, так как речь шла не о религиозном обряде, а о мирском преклонении перед авторитетом Великого царя. Обычно свершивший проскинезу, как мы предполагали уже ранее, посылал царю воздушный поцелуй, и только члены семьи или приравниваемые к ним «сородичи» являлись исключением: царь целовал их в уста.
На рельефе в Персеполе изображена сцена царской аудиенции. Пришелец уже поднялся после падения ниц, но спина его все еще согнута. В этот момент он посылает царю воздушный поцелуй. Здесь также между ним и владыкой стоят две подставки со священным огнем. Таким образом, возникает предположение, что уже у персов церемония проскинезы не обходилась без огня. Если огонь был обязателен, то не исключено, что уже у иранцев наиболее яркие черты древневосточного поклонения царю в том виде, как мы их находим, например, у ассирийцев, были смягчены.
Принимая во внимание все эти соображения, неудивительно, что Харес упоминает в связи с проскинезой алтарь со священным огнем. Если на пиру, о котором мы говорим, надо было падать ниц перед алтарным огнем, то это, вероятно, по мнению царя, могло сделать процедуру в целом более приемлемой для македонян и греков.
Впрочем, остается еще неясным, не было ли перенесение принятой у иранцев на аудиенциях проскинезы в пиршественный зал нововведением Александра, соединившим македонские, греческие и иранские элементы. Остается нерешенным также вопрос, каким образом царь сумел соединить эти разрозненные элементы.
А теперь вернемся к тому, как все совершилось. В ходе событий нетрудно разглядеть инициативу царя, который привлек к совету ближайших македонских и персидских друзей и был уверен, что все задумано превосходно. Теперь важен был тон, в каком пройдет церемония. Удастся ли вложить в нее с самого начала столько увлекающей силы, чтобы преодолеть внутреннее сопротивление самых упорных? Молено было надеяться на успех лишь в том случае, если удастся избежать какой-либо помехи.
Александр вошел в зал, пиршество началось. Вот наступает минута, которой ждали с таким напряжением. Царь уже поднял свой кубок. Первым, за кого он пьет, и первым, кто исполняет ритуал, оказывается наверняка Гефестион. За ним следуют другие. Сперва, по-видимому, македоняне, за ними греки, потом иранцы. Но вот наступает очередь одного из самых упрямых людей – Каллисфена. Его пригласил Гефестион, а возможно, и сам царь. Александр пьет за его здоровье. Ученый поднимается, подходит к алтарю. И в эту минуту Александр оборачивается к Гефестиону, как будто для того, чтобы перемолвиться с ним словом. Был ли царь не уверен в греке и старался не заметить, с какими отступлениями будет исполнена церемония? А Каллисфен медлит, выпивает кубок, затем, так и не совершив коленопреклонения, приближается к царю. Заметил Александр или предпочел не заметить то, что видели все? Вот он уже милостиво склоняется для поцелуя, но тут какой-то льстец выкрикивает: «Не дари, о царь, поцелуй тому, кто не почтил тебя!» Царь в смущении; он не слишком царствен в эту минуту и отказывает в поцелуе. Тогда Каллисфен громко заявляет: «Что ж, значит, одним поцелуем меньше».
Занавес снова закрывается. Мы не знаем, чем кончился вечер. Нам только сообщают (несомненно, основываясь на свидетельствах Хареса) об упреках, с которыми царь обрушился на Гефестиона. Тот защищался, утверждая, что вина целиком лежит на греке, не сдержавшем обещания. Не было ли это, как полагают многие исследователи, ложью и не пригласил ли Гефестион греческого педанта наудачу? Не обмануло ли его то, что Каллисфен на этот раз принял приглашение без возражений? Или грек действительно дал согласие – возможно, именно для того, чтобы иметь случай публично выказать свое несогласие? Не исключено, что сперва Каллисфен поддался уговорам и лишь в последний момент, стоя перед алтарем и заметив, что царь отвлекся, передумал. Нам не найти ответов на все эти вопросы. Верно лишь одно: план ввести в обиход проскинезу провалился. И провалился так основательно, что Александр никогда больше к нему не возвращался.
Если мы представим себе, однако, как важен для Александра был успех этого дела, которым определялось его будущее положение в империи, то нам станет ясно, что причина провала всей затеи вряд ли заключалась в дерзкой выходке грека. Окончательное решение зависело от македонян, которых проскинеза затрагивала более других. Из источника, не вполне надежного, но любопытного, мы узнаем, что один из македонских вельмож допустил открытое глумление над церемонией, когда какой-то перс выполнил проскинезу не совсем ловко [248]248
Arr. IV, 12, 2; Curt. VIII, 5, 22 и сл.; ср.: Plut. AL, LXXIV, 3 и сл.
[Закрыть]. Если верить этому источнику, то его можно совместить с версией Хареса: церемония продолжалась, невзирая на дерзость Каллисфена. Но настроение переменилось. То, что сначала казалось торжественным и отчасти завораживало даже недовольных, теперь всеми воспринималось как дешевый спектакль. Простое слово Каллисфена освободило умы от тяжкого давления царской воли. Александра окатило волной неодобрения. А когда какой-то перс – возможно, толстяк – неловко преклонил колена, кто-то из македонян и не подумал сдержать свой смех.
Неожиданное это происшествие, выражение затаенной насмешки на большинстве лиц, по-видимому, окончательно вывели из себя Александра. Теперь уже трудно сказать, в чем выразилось его раздражение. Неизменно лояльный Арриан говорит об этом односложно, между тем как Курций рассказывает в этом месте об одном из ужасающих припадков царского гнева, доходившего до постыдных действий [249]249
Arr. IV, 12, 2; Curt. VIII
[Закрыть]. Впрочем, сообщения Курция довольно часто оказываются преувеличенными. Надежнее всего прийти к выводу, что первоначальное несогласие перешло под конец в резкий диссонанс. Все, что мы знаем о характере царя, вполне позволяет предположить это. Александр был бог в творческих деяниях, но если он наталкивался на сопротивление, то страстный темперамент уводил его очень далеко от божественного спокойствия небожителей. Вот и на этот раз неудача его затеи вызвала у него чувство горечи; это было еще обиднее, чем упрямство эллинов или насмешка македонян. К нему добавилось ощущение стыда перед восточной свитой, а в конечном счете и перед самим собой.
Оставался еще Каллисфен. В нем Александр видел главного виновника этого происшествия. Не так уж и важно для нас выяснить причины поведения Каллисфена перед лицом более значительного факта: Александр, затевая все это предприятие, шел на любые уступки, и Каллисфен тоже старался, пока мог, идти за царем. Несмотря на взаимную готовность к уступкам, им в конце концов суждено было вступить в непримиримый конфликт. И мы вновь сталкиваемся с тем, чему учит нас история: даже добрая воля не способна соединить различные формы мировоззрения – стремление к абсолютной власти и человеческое достоинство, которое дарует свобода.
ЗАГОВОР «ПАЖЕЙ»
Несомненно, в наше время легче увидеть и оценить величие Александра. Однако и то впечатление, которое царь производил на своих современников, было огромно. Именно так было с армией: воины редко видели царя, а если сталкивались с ним, то всегда как с героем на поле боя, выступал ли он как могучий полководец или как их боевой товарищ. Именно в последнем качестве Александр умел дружески обратиться к простому воину, поддержать ослабевшего, пригласить замерзшего к своему огню и вообще не упускал случая завоевать любовь воинов.
Однако сильно ошибется тот, кто решит, что близкое окружение даря также слепо восхищалось нашим героем. Разумеется, было немало таких, кто безоговорочно вверялся его гению, но не было недостатка и в тех, кто с трудом переносил общение с этим «сверхчеловеком». Представьте себе всю необузданность его темперамента, непостижимую внезапность решений, безудержность в гневе, безмерность пристрастий, его беспорядочный образ жизни в сочетании с напряженнейшей работой, бессонными ночами, проведенными в попойках, и днями, потраченными на сон! Все это больше жгло, чем согревало: у людей, общавшихся с ним, захватывало дыхание. Что-то в нем мучило окружающих, и они чувствовали усталость от него, а подчас и болезненное отвращение. Иногда он бывал сама любезность или само великодушие, но каждодневное общение с Александром утомляло, как и его бешеная энергия. Не похожий ни на кого другого, царь даже привычным к нему людям казался загадочным, подобным коварной стихии. Как мы уже говорили, он не был, конечно, тем положительным героем, каким его рисует панегирическая историография. Особенно заметно это на примере так называемого заговора «пажей» [250]250
Arr. IV, 13, 1 и сл.; Curt. VIII, 6, 1 и сл.; Plut. Al., LV, 3 и сл.
[Закрыть]. «Пажи», знатные юноши, служившие лично царю, были моложе всех в лагере. Кто, как не они, должен был бы проявлять повышенный энтузиазм в отношении царя и его целей? И если как раз в этом кругу недоброжелательность приняла столь определенную форму, то это верный признак того, что близкое общение с Александром отнюдь не вызывало к нему безусловной симпатии.
Институт царских «пажей» восходил ко времени Филиппа. Это была служба и вместе с тем высшая школа. Юноши должны были заботиться о царе днем и ночью: на пиру, при умывании, за одеванием. Они подводили владыке коня, сопровождали его на охоте, были как бы его домашними слугами, а он считался для них чем-то вроде отца: иной раз приглашал к своему столу, а бывало и прибегал к телесным наказаниям, когда находил это нужным. Молодых людей нередко связывала между собой – иногда даже слишком нежная – дружба. Это было естественно, так как сам Александр не чуждался привязанностей такого рода.
Филипп придавал большое значение обучению этих мальчиков. Приглашались греческие педагоги: особое внимание уделялось эллинской поэзии и риторике. Отсюда – знакомство македонского «офицерского корпуса» с Гомером и Еврипидом, с греческой мифологией. Александр, кажется, особенно заботился о литературном воспитании подрастающих аристократов. Сопровождавший его штаб ученых, риторов, литераторов решал и педагогические задачи; если мы выше называли Каллисфена «профессором», то основывались как раз на его деятельности по духовному воспитанию этой молодежи.
И вот однажды на охоте один из мальчиков слишком увлекся и нанес смертельный удар кабану, в которого уже целился сам владыка. Разгневанный царь сурово наказал юношу, отобрал у него коня и велел высечь перед всеми «пажами». Но в жилах Гермолая – так звали юношу – не зря текла балканская кровь. Его оскорбили, теперь он жаждал мести и задумал покушение на царя. Удивительное дело: безумец сумел вовлечь в свои планы пятерых товарищей. Правда, один из них был его близким другом, но чтобы остальные решились на столь неслыханное дело только оттого, что какой-то Гермолай был, пусть даже и без причины, выпорот, представляется весьма невероятным. Должны были существовать и другие мотивы заговора, не личного порядка, хотя бы даже путаные и по-юношески неопределенные, но вызванные обидой на царя. С одной стороны, причиной был, по-видимому, сам Александр, но с другой – неприятие автократического режима. Ведь со времени гибели Клита прошли какие-то месяцы, а после неудачи с проскинезой и того меньше, а совсем недавно царь женился на иранской красавице. Много ли еще ударов нанесет македонский царь по всему македонскому, прежде чем осуществит все свои вздорные мечты?
В этой связи приобрело особое значение то открытое неприятие тирании, которое составляло непременную часть традиционного преподавания греческой риторики. До сих пор это было вполне безобидно, потому что никому не приходило в голову видеть в патриархальном македонском царе тирана. Но теперь все переменилось. Давно надоевшие прописные истины внезапно получили актуальность, скучная тема ученических декламаций произвела внезапное брожение в умах мальчиков. Ожесточение, которое старательно скрывали взрослые, нашло прекрасно подготовленную почву у юношества, а личная обида дала непосредственный толчок возмущению. Мальчики наверняка чувствовали себя борцами с тиранией, защитниками свободы, как это и сформулировал впоследствии Гермолай в своей оправдательной речи.
Юноши ждали ночи, когда они вместе будут дежурить в царских покоях. Александра решаю было убить во сне. Никогда еще жизнь его не была в такой опасности. Над Бактрами опустилась теплая весенняя ночь [251]251
Время и место покушения установлены по письму Александра Кратеру (Plut. AL, LV, 6; Arr. IV, 22, 2).
[Закрыть]. Романтические «злодеи» рассчитывали, что эта ночь будет решающей. Но царь, как это обычно бывало в дни беспечного отдыха, не торопился уходить с попойки. Спасением своей жизни на этот раз Александр был обязан затянувшемуся пиру. Ночь миновала. Пришло утро, а там и день, и раньше, чем появился царь, на смену злоумышленникам пришли ни о чем не подозревавшие дежурные. А дальше случилось то, что и должно было случиться с мальчиками. Непредвиденная задержка не способствовала сохранению тайны. Один из мальчиков рассказал о заговоре своему другу, а тот передал дальше. Известие дошло до Птолемея, который и донес обо всем царю. Александр велел схватить мальчиков и допросить их под пыткой. Впрочем, он не хотел особенно волновать войско перед походом в Индию. Когда выяснилось, что у македонских мальчиков не было соучастников среди взрослых, он прекратил расследование и не предпринял, кажется, никаких репрессий против семейств неудачливых заговорщиков. Сами они, разумеется, предстали перед войсковым собранием. Гермолай признался, что готовил покушение. Он хотел отомстить за убийство Филоты и Пармениона, за гибель Клита, за проскинезу и бесконечные ночные пиршества царя; целью покушения было покончить с произволом Александра и вернуть свободу македонянам.








