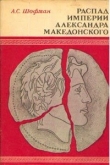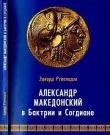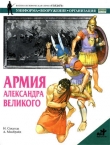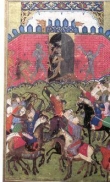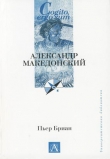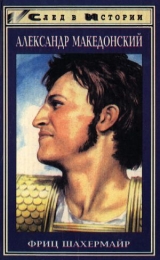
Текст книги "Александр Македонский"
Автор книги: Фриц Шахермайр
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 36 страниц)
Когда иранцы узнали о приближении Александра, то их беспокойство перешло в настоящую панику. Связи между царем и знатью стали распадаться. По мере отступления иранцев все дальше на восток, всплывало наружу то, что до сих пор зрело в глубине: недоверие, подозрительность, предательство. Все это привело к беспомощности и смятению. Придворные бежали от Дария и ждали Александра, чтобы сдаться ему. Всем было известно о великодушии Македонянина и его умении прощать. Набарзан примкнул к восточным сатрапам, вознамерившимся создать государство Восточного Ирана без персов и без Дария. Вновь вспыхнули старые противоречия: неприязнь к чуждому Западу и Ахеменидам. Только Артабаз и греческие наемники еще сохраняли верность Великому царю. Когда Набарзан откровенно предложил царю передать бразды правления Бессу, Дарий, ставший в своей беспомощности еще более упрямым, решил применить к недовольному силу. Этим он положил начало открытой вражде. Артабаз тщетно уговаривал своего господина искать защиты у верных греков. Но в своем ослеплении Дарий отклонил и это предложение. Он хотел силой заставить иранцев подчиниться, принудить их к послушанию. Неизвестно, надеялся ли он еще раз сразиться со своим македонским противником и уничтожить стремительно приближавшегося во главе своих войск Александра или, возможно, лелеял тайную мысль сдаться Македонянину. Во всяком случае мятежники уже не выпускали его из виду и, когда Дарий стал медлить с бегством, захватили его в плен. Цель этого поступка была не ясна и им самим. Не исключено, что они хотели добиться расположения Александра, выдав ему плененного Дария, и тем самым предотвратить дальнейшее продвижение македонского царя к Восточному Ирану. А может быть, они решили продолжать войну на Востоке и хотели просто помешать Александру использовать в качестве послушного орудия своего бывшего противника [188]188
Curt. V, 8 и сл.
[Закрыть].
Александр приближался с такой скоростью, с какой охотник преследует убегающую от него дичь. Он был полон решимости не дать Дарию ускользнуть. Пехота отстала, лошадей загнали, за одиннадцать дней прошли более 300 километров и уже дошли до Par (близ современного Тегерана). Здесь пришлось остановиться, чтобы дождаться отставших. Наступил июль. Днем царила страшная жара, и двигаться можно было только ночью. Уже прошли Каспийские ворота, когда перебежчики сообщили о пленении Великого царя. Теперь уже ничто не могло удержать Александра. Началась дикая спешка. Справа простиралась пустыня, слева – голые утесы. Жажда мучила людей. Но царь безостановочно шел вперед, и все меньше оставалось людей, которые могли следовать за ним. Еще одна ночь после краткого дневного отдыха, еще одна… Наконец цель достигнута. Врага уже не было. Мятежники смертельно ранили последнего Ахеменида, который мог теперь только повредить их делу.
Так окончил свои дни Дарий III – подлинный рыцарь и предусмотрительный царь. Эти качества он сохранял, пока не пришел к выводу, что его противник – настоящий демон. Какой ужас внушал людям этот титан, видно из того, что Кассандр до последних лет своей жизни вспоминал тот страх, который нагнал на него в молодости Александр. Испуганный Дарий так изменился, что не смог даже умереть, как подобает мужчине, хотя такая смерть была единственным, что ему оставалось. В отчаянии он потерял не только свое право на трон, но и право на власть всей династии.
Трудно даже представить, какой неслыханной удачей оказалось для Александра поведение Дария. В силу своей трусости и неудач Дарий сам разорвал связи с подданными. Иран, попавший в руки Македонянина, не был теперь связан какими-либо обязательствами с царским домом. Александру легко было стать преемником Дария. Его новая роль не вызывала недовольства даже у оставшихся в живых Ахеменидов, ибо они не могли не признать, что их притязаниям на трон пришел конец.
А само убийство? Хотя Александр и мстил за него впоследствии, оно было ему только выгодно. Оно дало право победителю наказать убийц, выступить защитником Дария и тем самым узаконить свое право на престол. Никогда еще победитель не наследовал побежденному при более благоприятных обстоятельствах.

Глава VIII
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕРЖАВНОГО ЗАМЫСЛА


ЦАРСКИЙ ПЛАЩ
История великой Персидской державы была завершена ужасной сценой. Когда в памятное июльское утро 330 г. до н э. Александр подоспел – уже не для того, чтобы схватить Дария как противника, а чтобы спасти его от насилия со стороны его же приближенных, – он застал царский лагерь полным смятения: брошенные упряжки с поклажей, которую теперь распродавали, растерянная свита царя, позабывшая свой долг, и стенающие женщины. Когда среди этих обломков, выброшенных волной всемирной истории, Александр стал разыскивать Великого царя и его палачей, убийцы уже исчезли. И подобно тому как бросают волкам что-нибудь из одежды, чтобы выиграть время, так и они оставили преследователю свою жертву. Смертельно раненного владыку обнаружили наконец в повозке, но он умер раньше, чем к нему подвели Александра.
Нечасто случается, чтобы мировая история так ощутимо в короткий, но трагически значительный час резко изменила свое течение, как это произошло, когда Александр предстал перед обезображенным трупом своего противника. Горькая трагедия распада, низведенного до самого предела, вызывала теперь сочувствие победителя. Источники рассказывают о глубоком потрясении, которое охватило царя при этом зрелище.
Это чувство передалось не только участникам трагедии и современникам: даже тех, кто анализировал это событие позже, охватывала дрожь [189]189
Justin. XI, 15; Curt., 13; Diod. XVII, 73 и сл.; Arr. III, 21, 10; III, 22, 1; Plut. Al., XLIII.
[Закрыть]. Естественно, что это чувство выразилось в стремлении приукрасить сцену романтическими чертами. Начало подобной традиции было положено уже во времена Александра, а поздние авторы так неумеренно следовали ей, что нам подчас трудно отделить подлинные события от их буйной фантазии.
Поэтому можно вычеркнуть все, что сообщают о золотых цепях, о нищенской дорожной повозке, о том, как блуждала без поводыря эта упряжка и как нашел ее у безлюдного ручья воин, пожелавший напиться воды, о последних словах и рукопожатии умирающего. Истинность таких рассчитанных на чувства читателя картин остается весьма сомнительной.
И только один факт выделяется в этих зарослях досужей словоохотливости. Мы находим его у Плутарха, который всегда избирает наиболее достоверную начальную традицию [190]190
Plut. Al., XLIII, 5; Justin. XI, 15.
[Закрыть].
Так вот, по Плутарху, Александр снял свой плащ и, раскинув его над мертвым, укрыл его. Такое не могли сочинить риторы; здесь виден характер Александра со столь свойственным ему мастерством символических действий. Вспомним копье, которое он метнул при высадке на азиатский берег, или факел, которым он поджег дворец в Персеполе, – и станет ясно, что за вызовом ка бой и свершением суда должно было последовать новое действо – примирение, упразднение вражды. Оно-то и выразилось в этом покрытии плащом. Притом все это никоим образом не было надумано. Царь действовал по естественному побуждению, следуя вдохновению минуты, или, лучше сказать, вдохновение руководило им. Так Александр придал этой и без того великолепной сцене священный дух примирения.
Этот милосердный поступок имел громадное значение. Завершился некий всемирно-исторический раздел, и теперь наступил великий час: Александр поверил в возможность начать новую, мирную главу истории. Решительным образом остановить «перпетуум-мобиле» истории – вечную ненависть и вражду – такова была его воля. Царь был далек от гордыни многих триумфаторов: его не опьяняла идея беспредельного мщения, упоения бесправием побежденных. Впредь вообще не должно быть никаких победителей. В той мировой державе, которая виделась Александру, им не было места.
Именно здесь и раскрывается вся грандиозность задуманного царем предприятия. Покрытие плащом символизировало не более и не менее как попытку ликвидировать вечное противостояние Востока и Запада. До сих пор это были два мира, нередко удачно восполняющие друг друга в своих противоположностях, но чаще враждебные и, во всяком случае, чуждые друг другу. Мы, далекие потомки, знаем теперь, как трудно было преодолеть это противостояние, как впоследствии не справились с этой задачей ни Антоний, ни Траян; даже сам Цезарь не смог перебросить мост через эту пропасть; мы знаем, что за Ассирией, Вавилоном и Персией последовало и должно было последовать противостояние Парфии, Сасанидов и ислама.
Так что кто упрекнет Александра в том, что он дерзнул объединить несоединимое, не обладая еще тем опытом, который пришел позднее? Мы не станем сейчас ставить вопросы, было ли это предприятие бессмысленным в его время; насколько завоевания, необходимые для этого, пусть и совершаемые с лучшими намерениями, неизбежно вызывали сопротивление; сколько тяжких жертв этот план требовал со стороны уже сложившихся обществ. Все эти вопросы встанут перед нами впоследствии – в том же порядке, как они появлялись по воле или же против воли царя.
Но когда он преклонил колена перед телом своего противника и так бережно укрыл покойного плащом, не было еще никаких вопросов и никаких проблем, был создан только образ любви и добра в его всеохватывающей широте. А когда он поднялся, то был уже Великим царем, Ахеменидом, персом, который впредь щедро награждал за преданность Персии и мстил за ее поношение. Он ведь никогда не был вполне македонянином, так что вряд ли мог стать совершенным персом, да этого и не требовалось. Александр был в первую очередь Александром, собственная титаническая сила которого влекла его к тому, чтобы упразднить старые миры и создать новый. Для иранцев, пожалуй, он мог бы стать национальным царем по крайней мере настолько, насколько был к этому способен по своей сверхнациональной сущности, иначе говоря, в рамках мировой державы и ее интересов. Так повелевал ему не только холодный разум, но и сердце, движимое велением минуты. В этот час Александр, может быть, и на самом деле испытал почти самозабвенную любовь, и этот часто столь мрачный мировой демон предстает здесь перед нами как истинный образ света, как герой милосердия.
Александр отправил тело своего предшественника в Персию для торжественного погребения, со всеми царскими почестями в скале персепольской царской усыпальницы. Этот акт милосердия был образцом рыцарства. Не отказав в последних почестях своему врагу, Александр поступил так, как некогда Ахилл с Гектором и Одиссей с Аяксом, т. е. как настоящий эллин.
В ГИРКАНИИ
Безостановочное преследование было закончено, и, как полагала армия, война тоже. Судьба Великого царя свершилась, победа казалась полной, и побежденный уже не стоял на пути. Чары рассеялись, люди снова могли чувствовать, надеяться; проснулись их постоянно подавляемые желания. Старые воины рассчитывали, что поход окончен: они верили в то, что казалось им очевидным.
Невинная вера простодушных сердец! Тем более серьезно приходилось с ней считаться Александру. Привязанность к родине вступила в столь тяжкое противоречие с его вселенским чувством, что возникало опасение, совместимы ли они вообще. Он уже чувствовал, что раскрывается бездна, которая разорвет надвое то, что кажется очевидным. Или, может быть, он угадывал другое – то, что дело идет, в сущности, о двух свободах: о естественном праве каждого или о притязаниях одного и единственного на божественную власть? Ощущал ли он скрытое неудовольствие, боялся ли молчаливого осуждения? Как бы то ни было, он решил снова увлечь войско, отнять у него надежду и волю: внушить ему свою безумную мечту.
Без промедления созвал он воинов на войсковое собрание Мы не знаем, развивал ли он перед ними мысль о праве наследования, упоминал ли о долге преемника персидского царя отомстить за своего предшественника предавшему его слуге.
Во всяком случае он, несомненно, рассуждал как полководец: давал оценку военного положения, говорил о сопротивлении, которое под предводительством Бесса снова набирает силу, грозит на Востоке. Источники сохранили подлинные слова Александра: «До сих пор вы были для людей Востока страшным призраком. Если вам здесь ничего не надо и вы хотите только, произведя смятение, уйти домой, они овладеют вами, как женщинами». Этой мыслью – завоевания обязывают к созиданию – царь выдал свою глубокую тайну. И еще приводятся такие слова: «Если бы хватило друзей и добровольцев, македоняне подчинили бы мир». Это пожелание было высказано и отражено в отчете о войсковом собрании, который Александр направил в Македонию, чтобы обосновать продолжение войны. Уже тогда слова «весь мир», «вся ойкумена» стали обозначать конечную цель политики будущего [191]191
Diod. XVII, 74, 3; Curt. VI, 2,15-4, 1; Justin. XII, 3, 2–4; Plut. Al. XLVII
[Закрыть].
Против аргументов, высказанных за продолжение войны, никаких возражений быть не могло. К тому же Александр околдовывал людей силой своей внутренней страсти [192]192
Curt. VI, 2, 18.
[Закрыть]. И войско снова попало в сети Александра-волшебника; более того, оно ликовало, радуясь своей самоотверженности. А он, одолев своеволие македонян, уже обдумывал следующую цель – сломить не только последнее сопротивление врага, но и своеволие персов, завоевав их сердца.
Александру предстояло решить еще одну военную задачу. На Востоке упрямые жители Арианы собирались для новых вооруженных походов. Снова понадобилось возродить идею мести. Но если прежде месть мотивировалась необходимостью покарать персов за былые преступления в Элладе, то теперь месть преследовала цель наказать Бесса за его преступление перед Великим царем. Однако до этого было еще далеко. Чтобы настичь врага, требовалось преодолеть опасные теснины. Проход шириной в 75 километров с юга был ограничен центрально-иранской соляной пустыней, морем вечного песка и смерти, а с севера – водами Каспийского моря. Он как бы представлял собой «осиную талию» Персидской державы. Вдоль Каспийского побережья протянулась полоса цветущей равнины, затем горный хребет Эльбурса, а у южного его подножия – от Paг через Гекатомпил на восток – большая военная дорога, справа от которой простиралась пустыня.
Проход был свободен, но фланг войска был бы открыт враждебным племенам горцев и остаткам персидской армии, которые укрылись в горах: энергичному Артабазу с его сыновьями, Фратаферну, сатрапу гирканскому и парфянскому, Автофрадату, правителю земли тапуров, и прежде всего Набарзану, деятельному персидскому тысячнику с остатками наемников-эллинов. Они задержались и не ушли с Бессом на восток. Объясняется ли это усталостью, упрямством или готовностью покориться победителю, неизвестно. Однако, каковы бы ни были их намерения, следовало обезопасить тесный проход: ни с фланга, ни с тыла противник не должен был угрожать Александру. Сдавшихся ждали милостивое прощение и признание всех заслуг, которые им полагались за верность старой державе.
В несколько переходов Александр достиг города Гекатомпила, лежащего в самом узком месте теснины. Здесь он набросал план перехода. Кратер заходит слева, чтобы действовать в горах против тапуров и следить за эллинскими наемниками; обоз идет менее крутыми тропами; сам он с главными силами двинется прямо через горы. Все встретятся по ту сторону, на равнине, на берегу Каспийского моря.
Трудно сказать, был ли этот марш-погоня так уж необходим. Однако благодаря ему Александр сумел быстро подойти к противнику, поразить его внезапностью, совершенством своей походной техники в горных условиях и создать наилучшие предпосылки для дальнейших успехов. Кроме того, этот марш опять-таки отвечал жажде Александра совершить невероятное. Когда он не находил этой возможности в великом, то довольствовался малым. Возможно, ледяные вершины Эльбурса внушили царю мысль еще раз испытать свое войско.
Отвага и труды увенчались успехом. Александр достиг полного политического успеха, а в военном, как выяснилось, уже не было нужды. Кроме того, перед войсками предстали такие пейзажи, красивее которых они не видели в течение всего похода. Цепь Эльбурса вместе с его главной вершиной Демавендом разделяет два климатических пояса. На юге сухо как в летнюю жару, так и в зимний холод, а на севере влажные ветры, которые все испарения Каспия близ горной цепи превращают в дождь. Максимум осадков в местности, лежащей на географической широте Родоса, Сицилии, Туниса и Малаги! Благодаря жаре и влажности горы покрыты роскошным лиственным лесом, а на равнине необычайное богатство растительности – средиземноморской по видам, но тропической по изобилию. Отсюда поразительные урожаи злаков, но отсюда же и непроходимость джунглей, населенных львами, пантерами и тиграми.
Воины, привыкшие к голым вершинам, были поражены густым лесом, сверкающими каскадами шумных горных потоков. Топографы (учрежденная Александром подвижная «служба по нанесению на карту рельефа местности») принялись с рвением за свои записи, отметив прежде всего отсутствие хвойного леса. Каково же было общее изумление, когда войско достигло равнины, где местные жители рассказывали о фантастических урожаях винограда, смоквы и пшеницы, которую никто не сеял. Находившиеся при войске естествоиспытатели интересовались также неизвестными им горными пчелами, рыбами удивительной раскраски, деревом, листья которого сочились медом [193]193
Aristobul., frg. 19; Kleitarch., frg. 14; Onesikrit., frg. 3 и сл.
[Закрыть].
Таковы были впечатления воинов. Но царя, как ни легко он предавался охватывавшим его чувствам, здесь ничто не привлекало. Не было даже основано города, какой-нибудь новой Александрии. Александр считал Каспийское море неполноценным. По его мнению, это было даже не море, а какое-то болото, стоячая вода, и он предполагал, что оно соединено с Азовским морем и Доном. Возможно, царь уже тогда вынашивал план дальнейших географических исследований, но пока ставил перед собой только политические и военные задачи.
Как законный наследник прежнего своего противника Александр спустился в Каспийскую низменность; в качестве преемника Великого царя он принял здесь знаки покорности персидских магнатов. Те, кто до конца хранил верность Дарию, получили благодарность, более того, повышение. Так, достопочтенный Артабаз был принят в круг приближенных, и ему поручили важные задачи на Востоке. Фратаферну царь вернул Парфию, а вскоре и Гирканию [194]194
Arr. III, 29, 9.
[Закрыть]. Автофрадат был назначен сатрапом над землей тапуров и амардов. Даже Набарзан, столь враждебно относившийся под конец к Дарию, был, по-видимому, помилован, хотя и лишен должности сатрапа.
Если Александр управлял персидскими сановниками как новый Великий царь, следуя иранским обычаям, то для греческих наемников он оставался предводителем эллинов. Кто пошел на персидскую службу до основания Коринфского союза, тех милостиво отпустили домой. Так же поступали с гражданами Синопа, не вошедшего в Коринфский союз. Остальные наемники должны были продолжать службу в войске Александра. Спартанские и афинские посланцы, пришедшие к Дарию после основания Союза, были взяты под арест как государственные преступники – по-видимому, для передачи их союзному совету в Коринфе.
Что касается военных действий, то Александр предпринял лишь многодневную экспедицию против дикого горного народа амардов, живших западнее тапуров. Он напал на них внезапно и добился полного подчинения. Предприятие это, однако, прошло небезболезненно: любимый конь царя Буцефал попал на время в руки врага, что вызвало страшныи гнев владыки [195]195
Diod. XVII,76, 7; Curt. VI, 5, 18 и сл.; Plut. A l, XLIV, 3 и сл.
[Закрыть].
Если тапуры и амарды входили теперь в державу Александра, то кадусии, жившие на крайнем западе цепи Эльбурса, оставались еще не покоренными. Александр оставил в Экбатанах Пармениона, чтобы тот напал на кадусиев с юга и, таким образом, замкнул круг близ Каспийского моря.
После этой скорее мирной, чем военной, деятельности Александр вошел в Задракарту – главный город Гиркании. Тут он дал войску две недели отдыха. Он принес жертвы богам и провел обычные спортивные состязания, наглядно показывая своим новым подданным преимущества греко-македонского образа жизни.
Так сравнительно легко была ликвидирована существовавшая ранее напряженность, и гирканский эпизод завершился. Войско, отдохнувшее в благодатной Каспийской низменности, вновь было готово к маршу. Вопрос о греческих наемниках можно было считать улаженным. Идея, представляющая Александра законным наследником Дария, одержала первую крупную победу.
И только в кругу македонских военачальников продолжала нарастать тревога: какова конечная цель всего похода? К чему приведет идея персидского наследства Македонию и их самих, македонян? Не выскользнет ли победа из их рук? Разумеется, все они были за царя. Но за кого был царь? Это теперь казалось еще более неясным, чем когда-либо.
ВОСТОЧНЫЙ ИРАН
Сначала речь шла о западной половине империи – о Малой Азии, Сирии, Египте, Месопотамии. Их внутренняя заинтересованность в сохранении персидского владычества была столь незначительна, что Александра иной раз воспринимали здесь как освободителя. Но далее речь шла уже о коренных землях – Персии и Мидии. И тут для персов была поставлена на карту не империя, а собственная свобода. И тем не менее они проявили слабость. Они устали не столько от борьбы, сколько от власти, от владения и владычества, от упоения своей значительностью.
Итак, теперь предстояло освоить восточную часть державы – Восточный Иран и Бактрию с Согдианой. Как там примут завоевателя?
Александр ожидал увидеть бесконечные просторы и горы, вздымающиеся до небес. С «Крыши мира» растекались во все стороны реки, несущие под лучами южного солнца свои мутные талые воды. Они дарили жизнь долинам, лугам и даже пустыням, пока в конце концов не иссякали в мертвых песках. Вечный снег и обжигающая жара, потоки воды и алчущие степи, возделанная земля и пустыни, изобилие и вечная нужда. Всегда здесь вставало неколебимое «да – нет», жестокое «или – или». Неудивительно, что столь непохожи друг на друга были здесь и люди: собственники плодородной земли противостояли нападавшим на них кочевникам, верующие – еретикам, «правдоискатели» – «обманщикам». В метафизике мы тоже видим отражение земного: свет и тьма, добро и зло, ангелы и бесы, боги и демоны, Ахурамазда и Ариман.
Этому внутренне напряженному и не расположенному ни к какой духовной экспансии, упорно коснеющему в противоречиях и на круге своем бытию соответствовала отрешенность всех этих стран от высокой культуры Востока. Пустыни отделяли Восточный Иран от западного и южного побережий, не говоря уже о Европе и об остальной Азии. От Индии он был отделен сверх того высокими горами.
Часы мировой истории остановились здесь в незапамятные времена. Здесь всегда были рыцари в своих замках, крестьяне в огороженных селениях, разбойники в степях и всегда те же самые сады и поля, стада, превосходные кони и верблюды, а еще охота, пиры, справедливость и благочестие. Но кроме этого не было ничего. На западе эта исконная жизнь распалась, а на востоке она все еще находилась в своем изначальном положении. Из четкого рисунка жизни, из внутренней ясности здесь смогло вырасти лучшее, что мог предложить Иран, – благородная проповедь Заратуштры. Именно она объединяла большую часть всадников, когда дело шло о защите родины.
Персы и мидийцы под влиянием более развитых культур месопотамских соседей утратили свое лицо. Чужих нравов они не усвоили и, утратив исконные обычаи, остались опустошенными. Яд власти, тяготы владычества над другими народами сумели разрушить их характер; традиционная схема мировых империй ввергла их в водоворот синкретизма, привела к потере старой опоры, не дав взамен новой.
Восточный Иран, по существу, не был этим затронут. Кир, правда, когда-то явившись сюда, потребовал поддержки и обещал взамен свою верность. Но он был таким же иранцем, как они. Он защищал их от нападения северных кочевников, улаживал стычки между соседями, а в остальном оставлял их такими, какими они были. Он заманивал к себе на службу славой и добычей, к тому же можно было, находясь в безопасности, немало узнать о мире, который начинался за пустыней. Персидское владычество приносило, пожалуй, обогащение, но никоим образом не требовало отказа от укоренившихся обычаев.
Иное дело сейчас. С запада надвигалось нечто, не имеющее имени, некий пожирающий огонь, похожий на все выжигающий степной пожар. С македонскими молодцами, на худой конец, еще можно было сговориться. От них пахло лошадьми, они были падки до вина и женщин, а на охоте и в метании копья столь же проворны, как их собственные богатыри. Но вот возглавлявший их человек был страшен. Даже неизвестно, кто он – бог или волшебник. И эти надменные, всезнающие греки с их россказнями, глупыми вопросами и порочной изнеженностью! Они несли с собой непостижимое, поймали в свои сети македонского царя с его людьми, поймали и весь мир, может, и у иранцев они похитят души и веру?
Без сомнения, такие мысли тяготили восточноиранских укротителей коней. Речь шла сейчас не только о политической свободе, но о самой культуре Ирана, которая под напором эллинской цивилизации оказывалась под ударом. Более всех сопротивлялась нововведениям знать Согдианы, Бактрии и Арии, чей уклад и образ жизни попадали под удар в первую очередь. Эти районы были заселены подлинными иранцами в этническом, а не в географическом смысле слова. Однако и те, кто решился бороться, должны были признать свои ограниченные возможности.
Все хорошо знали, что главная опасность исходит не от вражеской конницы и пехоты, а от личности царя. Полководцу надо было противопоставить полководца. Дарий проявил неспособность, бог оставил его. Теперь вся надежда была на Бесса и его сатрапов. Восточноиранские племена видели в них своих вождей. За ними, пожалуй, пойдут, покуда они будут иметь успех, но что произойдет, если и они не справятся?
Знать Восточного Ирана рассчитывала на, как мы говорим теперь, народную войну. Последняя должна была отличаться от битв огромных армий, проигранных Дарием. Сила народной войны заключена в широте действий, жестокости и спонтанности ее предприятий, слабость – в опасности раздробления сил и во всяческих разногласиях между отрядами. Война не превратится в затянувшуюся обоюдную резню лишь при условии, если ее бойцы будут борцами за свободу.
Александр, кажется, предвидел угрозу такой войны, во всяком случае всеми средствами старался избежать ее. Впоследствии мы увидим, что народная война все-таки разгорелась, что в лице Сатибарзана и Спитамена явились борцы за свободу и как Александру в конце концов удалось одержать победу и в этой новой для него войне.
ЧЕРЕЗ АРИЮ И АРАХОЗИЮ
В этом море неизвестных восточных просторов с его волнами национальной непокорности македонское войско прокладывало себе путь, подобно одинокому исследователю, совершающему кругосветное путешествие. О дорогах и о географическом расположении селений Александр узнавал от своих персидских подданных и вельмож. Когда он – по-видимому, в Задракарте – набрасывал план своего нового предприятия, в его распоряжении уже были необходимые сведения о дорогах и других путях сообщений. Он знал о Большой восточной дороге, которая в провинции Ария раздваивалась, причем северное ее ответвление достигало Бактры, а южное – вело через Дрангиану и Арахозию в Кабульскую долину и дальше в Индию. Ему, пожалуй, было также известно, что существовал прямой путь из Бактры в район Кабула через высокогорный массив и что таким образом северная дорога соединялась здесь с южной.
Александр двинулся Большой дорогой и в Сузие (неподалеку от нынешнего Мешхеда) принял знаки покорности от сатрапа Арии Сатибарзана [196]196
Arr. III, 25, 1.
[Закрыть]. Царь воспринял это как очередной успех своей миролюбивой политики, помиловал наместника и даже подтвердил его полномочия, несмотря на то что тот принадлежал к числу убийц Дария. Александр оставил здесь сорок всадников под начальством Анаксиппа – по-видимому, с заданием защищать население от грабежей со стороны проходящих войск. Будущее очень скоро показало, как сильно царь переоценил значение своей политики терпимости и как недостаточны были его мероприятия по охране столь важной в стратегическом отношении Арии.
Между тем из Бактрии поступило сообщение, что Бесс взял имя Артаксеркса и называет себя Великим царем. Чтобы захватить узурпатора, Александр пошел по восточной дороге, а затем свернул на север. Отряды пехоты, которые он вызвал из Мидии, явились своевременным подкреплением [197]197
Arr. III, 25, 4; ср.: Curt. VI, 6, 35.
[Закрыть].
Александр уже собирался нанести решительный удар, как вдруг пришло ужасное известие, которое заставило изменить все планы: Ария взбунтовалась, Анаксипп и его всадники вырезаны, вероломный Сатибарзан во главе восставших вербует войско в своей столице Артакоане. Все связи с тылом были отрезаны. Александр надеялся одним львиным прыжком-маршем сломить сопротивление у себя в тылу. Он бросился в путь с легкими войсками, оставив на месте часть армии во главе с Кратером.
О том, что произошло дальше, мы, к сожалению, осведомлены очень плохо. Достоверно известно, что Сатибарзан был захвачен врасплох налетевшим Александром и бежал к Бессу; известно и то, что царь вскоре подтянул сюда остальное войско. Далее, по-видимому. Кратеру было поручено окружить Артакоану, между тем как Александр после тщетной попытки догнать Сатибарзана учинил кровавую бойню в селениях повстанцев, многих перебил, а захваченных обратил в рабство. Лишь только приступили к осаде Артакоаны, как крепость сдалась.
Александр, решив, что уже достаточно покарал ариан, смилостивился над ними и даже вернул кое-какое имущество – возможно, с целью отделить невинных от мятежников, большинство которых происходило из всаднического сословия. Назначение перса Арсака сатрапом также говорило о стремлении царя вернуться к политике терпимости. Вместе с тем он прикладывал все силы, чтобы укрепиться в провинции. Александр пробыл там месяц, захватил все крепости и, оставив в них свои гарнизоны (по-видимому, использовав уставших и больных ветеранов и наемников), основал Александрию Арианскую. Вопрос, стала ли Артакоана, бывшая резиденция Великого царя, цитаделью нового полиса или, что правдоподобнее, старый город остался на северо-западе от последнего, в долине Герируда, остается спорным [198]198
Ср.: Plin. N. H., VI, 93; Ptolemaios VI, 17; Strabo XI, 516.
[Закрыть]. Во всяком случае новая Александрия могла похвалиться истинно царским местоположением, которое обеспечило ей (под именем Герат) существование и по нынешний день.
Недели, проведенные в Арии, научили Александра тому, что Восток можно завоевать, только действуя неспешно и постепенно. Он отказался от своего плана напасть на Бесса незамедлительно и предпочел идти южной дорогой, завоевать тамошние провинции и пробиваться в Бактрию через Кабульскую долину и Гиндукуш. Это был отчаянный план, который требовал от войска предельного напряжения, так как столкновение с врагом должно было произойти в условиях весьма неблагоприятных. Мотивы этого решения нам неясны; возможно, после пребывания в Арии Александр счел сезон неподходящим для того, чтобы в этом же году завоевать Бактрию, где зимы очень холодные. К тому же ему приходилось опасаться удара с фланга – из Дрангианы; может статься, он, кроме того, считал выгодным дать Бессу больше времени для всеобщей мобилизации, чтобы одним сражением одолеть противника. Его, наверное, также привлекала авантюрность подобного предприятия.