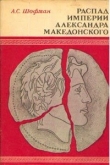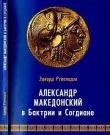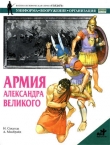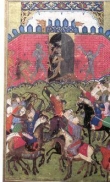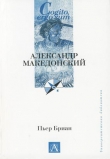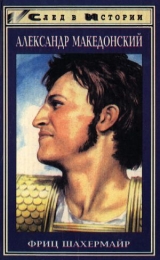
Текст книги "Александр Македонский"
Автор книги: Фриц Шахермайр
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 36 страниц)
Собрание, естественно, приговорило обвиняемых к смертной казни. Дело было ясным, и никто не мог осудить царя за суровость приговора. И все-таки царский произвол в этой истории сыграл свою трагическую роль, имевшую печальное продолжение. Правда, оно затронуло уже не македонянина, а грека, дерзко восставшего против заветных планов Александра, а именно наставника мальчиков Каллисфена. Его гибель стала печальным эпилогом заговора.
ГИБЕЛЬ КАЛЛИСФЕНА
Займемся – теперь уже в последний раз – нашим ритором. Трагедия его началась с крушения веры в царя, вызванного проявившимися деспотическими склонностями Александра. Отрезвление было тяжким и привело к печальной развязке. Правда, тут была трагедия не оскорбленных идеалов, а скорее задетого тщеславия. Дело в том, что Каллисфен больше всего заботился о своем достоинстве глашатая и создателя общественного мнения. Действительно, Каллисфен сделал очень много для прославления Александра среди эллинов, особенно если учесть антимакедонские настроения в Греции. И все-таки ритор сильно переоценил свои заслуги. Он стал считать, что царь больше обязан его перу, чем македонским мечам. Ему было присуще самомнение, которое характерно для людей ограниченных; за это Каллисфена порицали и раньше, в том числе и сам Аристотель [252]252
Arr. IV, 10,1 и сл.; Plut. AL,LIV,2; Diod. Laert. V,5; Val. Max., VII, 2.
[Закрыть].
И вот когда этот энтузиаст лишился своего идола, его идеализм и тщеславие подсказали ему путь, идя по которому он мог стать глашатаем идеала в новых обстоятельствах. Если раньше воззвания Каллисфена прославляли божественного вождя всех эллинов, то теперь он славил национальную гордость греков, идею человеческого достоинства и свободы. Разумеется, это вызвало недовольство царя, зато чрезвычайно возвысило Каллисфена в глазах македонян. До сих пор из всех македонян ему в какой-то степени были близки разве что царские «пажи», учителем которых он был. Но когда одно его дерзкое слово решило судьбу проскинезы, Каллисфен стал считаться самым отважным человеком не только при дворе, но и во всем лагере. Самые отчаянные рубаки не отрицали, что он отважился на то, на что они уже не осмеливались. Каллисфен почувствовал себя выразителем общественного мнения, защитником свободомыслия, противостоящего произволу и тирании. Теперь он гордо расхаживал, не задумываясь о том, что ему стоило бы попридержать язык. Очень скоро все, чем он так гордился, сообщили на ухо царю его ближайшие приспешники [253]253
Plut. AL, LV, 2.
[Закрыть].
Впрочем, можно было обойтись и без доносов. Грек оказал сопротивление, да еще и победил. Царь тогда же решил уничтожить его. Такая судьба постигла и более значительных людей. Кто был в конце концов этот Каллисфен? Простодушный адепт идеи, заимствованной у других. Идея, правда, была значительна и опасна, за ней стоял величайший из эллинов – Аристотель. Поэтому и Каллисфен мог считаться достойным противником. Одолеть его было, пожалуй, посложнее, чем сломить македонскую гордыню. Но что представлял собой этот человечек по сравнению с титаном, который не пользовался чужой идеей, а сам создал новую, был ее полным хозяином и считал себя неотделимым от нее? Спокойно! Отыщется еще случай справиться с этим червяком, а пока пусть себе хвалится.
Возможно, именно в этот момент, когда меч был уже занесен над головой Каллисфена, царю вздумалось сыграть злую шутку с учителем риторики. Этот эпизод ярко характеризует обоих противников. Ареной действия снова стал пир, на котором присутствовал Каллисфен. Царь предложил ему произнести речь в похвалу македонян. Ритор проявил все свое мастерство и закончил выступление под ликование македонских гуляк. Им-то, конечно, понравилась не столько форма, сколько содержание и направление речи. Кроме того, они, должно быть, хотели почтить смельчака, который недавно невредимым ушел от царя, пожертвовав «одним поцелуем». Один Александр не разделял общего восторга. «Легко, – сказал он, – хвалить то, что и так достойно похвал. Если ты хочешь показать нам подлинное красноречие, выступи теперь как обвинитель, чтобы македоняне поняли свои ошибки и исправили их».
Уметь произносить одинаково хорошо речи «за» и «против» считалось венцом риторского искусства. В поставленной перед ним задаче Каллисфен не увидел ничего, кроме приглашения показать свое профессиональное мастерство. Между тем он попал в западню. Став на антимакедонскую точку зрения, он уже не мог скрыть эллинских пристрастий и со всей яростью набросился на братский македонский народ. При этом он думал, что таким путем сумеет с честью выдержать выпавшее на его долю испытание. Однако македоняне, для которых форма не имела значения, а главным было содержание, оскорбились. Каллисфен дискредитировал себя в их глазах, и Александр не преминул со всей горячностью присоединиться к их мнению.
«Искусство тут ни при чем, – говорил он, – оратор выдал свою затаенную недоброжелательность».
Только теперь Каллисфен понял, в какую ловушку поймал его царь и как простодушно он сам в нее попался. Ритор осознал наконец опасность. Полный мрачных предчувствий, покинул он пир вместе со Стребом, цитируя гомеровские стихи, содержащие печальные пророчества. Именно Стребу, секретарю Каллисфена и свидетелю происходившего, мы обязаны правдивым описанием этой коварной затеи [254]254
В русском переводе Плутарха («Сравнительные жизнеописания», т. 3, гл. LIII–LIV) слова Каллисфена обращены к царю. Филологически более вероятно, что Каллисфен обращался к своему секретарю Стребу.
[Закрыть].
Раскрытие заговора «пажей» дало царю желанный повод для решительных действий. Вожаком мальчишек оказался один из любимых учеников Каллисфена. В лекциях учителя содержалось немало высказываний против тирании, которые при желании можно было применить и к Александру. Этого оказалось достаточно, чтобы упрекнуть Каллисфена в косвенном влиянии на «пажей», но слишком мало для задуманной мести. Поэтому пытками старались вырвать у заговорщиков свидетельство о непосредственном руководстве заговором и подстрекательстве со стороны учителя. Мальчики, однако, не поддались на это. Да и маловероятно, чтобы они действительно поделились своей юношески безумной затеей со старшим, да еще с наставником. Тем не менее официально было заявлено, что «пажи» подтвердили причастность Каллисфена к заговору [255]255
Plut. AL, LV, 5; Arr. IV, 14, 1.
[Закрыть].
Уже в Бактрах Каллисфен был заключен в оковы. Александр гневно сообщал Антипатру: «Македоняне побили пажей камнями, но софиста я накажу сам, а вместе с ним и других, которые послали его и дают в греческих городах прибежище моим тайным врагам». Эти раскаты грома представляли угрозу для Аристотеля и Афин как оплота свободы. Но пока в этом направлении ничего не было предпринято.
А Каллисфена царь в оковах потащил за собой в Индийский поход. Как сообщает Харес, Александр заявил, что предъявит ему обвинение перед собранием Коринфского союза в присутствии самого Аристотеля. Мучения несчастного продолжались семь месяцев, а потом, ничуть не смягчившись за это время, Александр велел убрать его. Официально сообщалось, что узник скончался «от ожирения и от вшей» [256]256
Plut. AL, LV, 9; ср.: Arr. IV, 14, 3.
[Закрыть].
За фасадом права опять скрывалось насилие. Впрочем, царь руководствовался не только гневом, но и расчетом. После истории с проскинезой всем было известно, какие чувства он питал к Каллисфену; но трезво поразмыслив, он пришел к выводу, что разочарованному и ожесточенному Каллисфену уже нельзя вернуться на родину живым. Именно потому, что он так ревностно прославлял Александра среди эллинов, перемена его взглядов имела бы самые печальные последствия для царской политики в Элладе. Вот почему он. должен был исчезнуть, и не как мученик, а как преступник, узник и просто больной человек. Для всех греков это послужило бы уроком, а Аристотелю – предупреждением. Во всяком случае вместе с Каллисфеном Александр хотел победить и национализм эллинов; под знаком этого национализма Александр несколько лет назад отправился в поход как гегемон греков; теперь приспело время и грекам и македонянам отказаться от нелепой гордыни и от привычки иметь свое мнение. Эллинский дух должен был покориться воле царя.
ЗАВЕРШЕНИЕ БОРЬБЫ АЛЕКСАНДРА С ПРИБЛИЖЕННЫМИ
Процесс против Каллисфена завершил целую серию мероприятий, которые для будущего империи означали не меньше, чем битвы при Гранике, Иссе и Гавгамелах. Тогда решалась судьба Персии, теперь же процесс Филоты, убийство Клита, спор о проскинезе, заговор «пажей» и смерть Каллисфена оказались вехами не менее ожесточенной борьбы, целью которой было сломить то духовное сопротивление, которое нарастало в македонской и греческой среде.
Создать подлинную империю означало между тем преодолеть не только иранский, но также македонский и эллинский национализм, устранить «предрассудки», которые Александр считал лишь глупой помехой. Теперь пришло время ввести чуждое Западу деспотическое единовластие, ничем не ограниченное самодержавие. Этого требовала не только сущность мирового господства, но и не признающая преград натура Александра.
Навязать такую позицию македонянам или идеалистам из эллинов было нелегко. Поэтому вводить новый курс надо было, начиная с непосредственного окружения царя; придворный лагерь, в сущности, возглавлял всю державу. Если бы удалось сломить оппозицию в самом лагере, то прекратилось бы сопротивление во всей империи и даже в самой Македонии.
Недовольство в собственном кругу было гораздо опаснее персидского оружия. Ведь оно базировалось на гордости победителей, на свойственном эллинам чувстве интеллектуального превосходства и любви к свободе. Фронду интеллектуалов нельзя было разбить конной атакой.
Преимущество Александра перед его противниками состояло в том, что у царя имелись союзники, на которых он мог положиться, – ветераны, составлявшие войсковое собрание. А на нем решались судебные дела. С помощью ветеранов Александр добился осуждения Филоты, приговорил к смерти «пажей», легализировал свое преступление после ссоры с Клитом. Бой за проскинезу Александр проиграл как раз потому, что был лишен этих мощных союзников.
И все-таки именно этот провал привел его к окончательной победе. После 327 г. до н. э. мы не слышим больше ни о каких заговорах, ссорах или хотя бы пассивном сопротивлении. Противники вряд ли согласились с Александром, но беспрекословно ему подчинялись. Как это могло случиться? Почему никто не противопоставил царю своих убеждений, в чем была причина такой покорности?
Мы полагаем, что причина – в отказе Александра от желания ввести проскинезу. Как ни горестно было для него отступление от своих планов, он не замедлил использовать неудачу в интересах дальнейшей политики. Потерпев поражение в первый и единственный раз в жизни, Александр вышел из него более мудрым и уверенным в себе, чем когда-либо. Если в те дни, когда «пажи» вступали в сговор, можно было предположить, что царь вернется к своему ненавистному плану, то с течением времени стало очевидно: Александр склонил голову перед сопротивлением окружающих. Приближенные должны были признать, что он не тиран, неподвластный каким бы то ни было влияниям, что он не считает своих сподвижников рабами, лишенными собственной воли. Все знали, как трудно дался Александру этот отказ, и именно поэтому царское смирение было оценено особенно высоко. Теперь, когда все наглядно убедились, что и владыка способен уступить, стало легче подчиняться его воле. Не приходилось сомневаться, что сила была на стороне Александра, но то обстоятельство, что был, пусть всего один, бесспорный прецедент, когда сподвижники сумели отстоять свою свободу, успокаивало совесть.
В результате произошел решительный поворот. Люди успокоились. И вообще, как это умно и полезно – покориться. Пусть ненасытный делает, что хочет. Если он зайдет слишком далеко, его в конце концов можно и остановить. Да и в интересах собственной безопасности стоило отказаться от сопротивления. Теперь царь еще больше возвысился в общественном мнении и в конечном счете вышел снова победителем. Отказ от проскинезы принес ему абсолютный авторитет в лагере. Правда, этот авторитет не получил мистического освящения, но зато воля Александра стала единственной силой в лагере.
Это было очень важно для последующего хода событий. В ближайшие годы суждено было возникнуть новому фронту сопротивления – простых воинов, – охватившему со временем все войско. Дела сложились бы очень скверно, если бы на реке Гифасис или в Описе к войскам присоединились и военачальники. Теперь Александр мог рассчитывать по меньшей мере на пассивное подчинение своего ближайшего окружения и, таким образом, легче справляться с мятежами в войске.
Итак, период от смерти Дария до похода в Индию завершился полным успехом не только в военном, но и во внутриполитическом отношении. И только судебные убийства – смерть Пармениона, гибель Клита – напоминали о том, что абсолютная власть есть власть насилия и в конечном счете она обязательно приносит то, что отвечает ее природе, – произвол и торжество силы. Из этого мрачного круга не мог выйти даже такой человек, как Александр.
СКИФИЯ ИЛИ ИНДИЯ?
Дойдя до Яксарта, царь оказался на границе Персидской державы – дальше шла ничья земля. Если он действительно был тем, за кого его принимали, – завоевателем мира, переступающим любые границы, то следовало ожидать, что и в данном случае он проявит свою всеобъемлющую волю и захватит эти земли. Александр, конечно же, взвесил такую возможность, но заветные мечты вели его в другую сторону, и пустыня, граничащая с Согдианой, не смогла заставить его изменить прежнее решение. Ни на одну пядь не расширил в эту сторону Александр принадлежавшие ему отныне владения Ахеменидов: Бактрия и Согдиана остались провинциями, а кочевники пограничных областей признали свою зависимость от него. Лишь однажды Александр перешел реку, но это было сделано в ответ на скифскую провокацию. На самом краю области Александр основал Александрию, однако этот город предназначался исключительно для защиты. Плодородная земля на Верхнем Яксарте (Фергана) осталась невозделанной, ибо даже персы отказались от этого пограничного края, который нелегко было бы защищать. Александр принял знаки поклонения от дахов, массагетов, хоразмиев и других скифов, не вступая, однако, на их земли. Он отказался от продолжения похода в северном направлении [257]257
Arr. IV, 15, 4; Curt. VII, 9, 15.
[Закрыть].
Итак, на Яксарте царь вел себя так же, как когда-то на Дунае. Ему достаточно было только показать македонское оружие племенам севернее пограничной реки, явить его блеск и славу перед кочевниками, чтобы заставить себя бояться. О систематическом завоевании евразийских просторов он думал сейчас не больше, чем в 335 г. до н. э.
Эта сдержанность происходила отнюдь не от мрачного впечатления, которое производила даже самая южная область северо-востока, а от общего представления, шедшего от географических воззрений, которых придерживалась тогдашняя наука, и в частности Аристотель.
Полагали, что сколько-нибудь заселена лишь умеренная зона и она-то является подлинной ойкуменой. Холод на севере, жара на юге делают невозможным какое-либо существенное заселение этих областей. Александру казалось, что его опыт подтверждает это положение. На юге он всюду встречал пустыню: в Египте, в Аравин, далее в Иране. На севере же – как в Парфии, так и ка Яксарте – он видел бесконечные и бесплодные пространства, невозделанные, овеваемые холодными ветрами, не имеющие долговременных поселений и лишь изредка пересекаемые беспокойными кочевниками.
Поэтому он считал, что достиг северной и южной границ культурной, обитаемой земли. Отсюда – его решение: оставаться пока в рамках умеренной зоны. Зона эта простиралась на восток и на запад. Зачем же отклоняться на север, когда уже и так его армия далеко продвинулась на восток? Гораздо естественнее идти в однажды избранном направлении вплоть до Мирового океана, чтобы закончить покорение умеренной зоны хотя бы на востоке, а затем то же самое сделать на западе, дойдя до Геркулесовых столпов (Гибралтар). Что касается арктической и тропической зон, то ими можно будет заняться позже, когда будет окончательно завоеван умеренный пояс. В конце концов задачи там не завоевательные, а исследовательские, которые для создания мирового государства не были первоочередными.
От географических представлений шло еще одно соображение: завершить создание «Азийского царства». В самом деле, разве Ахемениды владели всей Азией? Нет. Александру нужен не титул, ему нужен весь материк. Но как далеко простирается Азия? Сколько еще придется присоединить земель к владениям Ахеменидов?
По представлению Аристотеля, Азия лежала в умеренном поясе, а холодные области к северу от нее относились уже к Европе. Границей этих частей света Аристотель, по-видимому, считал реку, которая, как он полагал, брала начало на самом дальнем восточном горном массиве; в верхнем течении ее называли Араксом, а в нижнем – Танаисом (Доном), который впадал в Меотиду (Азовское море). Александр полагал, что Яксарт – это и есть тот самый Аракс-Танаис, а сходство названий «Араке» и «Яксарт» говорило в пользу этого предположения, тем более что Яксарт действительно начинался в горах Гиндукуша. Значит, Персидская дерлсава доходила до Яксарта и до него же простиралась Азия. По ту сторону лежал уже другой материк – Европа.
Теперь всякий знает, что Яксарт впадает в Аральское море и не имеет ничего общего с Доном. Однако принятое в то время предположение вполне устраивало Александра. Ведь на север он все равно не собирался, а благодаря такому взгляду получалось, что он, как царь Азии, может и не трогать северные области. Другой берег реки был вполне официально объявлен европейским; европейцами стали называть историки похода Александра и тамошних скифов [258]258
Arr. IV, 11; III, 8, 3; ср.: Curt. VII, 6, 12.
[Закрыть]. Именно поэтому основанный здесь город назван был Александрией-на-Дону. Более того, пошел в ход научный, хотя и довольно шаткий аргумент: распространение пихты севернее Яксарта свидетельствовало якобы о принадлежности этих мест к Европе, ибо только в этой части света произрастают такие деревья. Подобная точка зрения была опровергнута: у скал Хориены, а впоследствии и у отрогов индийских гор были обнаружены эти деревья. Однако оказалось предпочтительнее не выяснять вопрос до конца. Гипотеза устраивала Александра больше, чем истина.
Тем настоятельнее представлялась ему необходимость завоевания Индии. Персы не овладели ею, а она принадлежала к Азии, относилась к умеренной зоне и была, таким образом, частью ойкумены. Привлекали к тому же хотя и чуждая, но в высшей степени исключительная культура страны и ее богатства. Наконец, там кончался мир, ибо Аристотель рассматривал Индию как восточный край земли. А дальше начинался океан. Азия представлялась не такой уж огромной частью света: по распространенному представлению, она охватывала только Персидское царство, Арабскую пустыню и Индию с относящимися к системе Гиндукуша Гималаями. Такая Азия вряд ли казалась больше Европы.
Что касается северо-восточных пространств, то Александр удовольствовался тем, что отправил туда вместе с посетившими его скифскими посольствами македонских представителей с целью получить сведения о стране, людях и особенно о военном потенциале кочевников. Разумеется, в лагере дискутировались географические вопросы, в особенности соотношение Танаиса и Каспийского моря. Вероятно, от скифов узнали, что Яксарт (принимаемый за верхнее течение Танаиса) впадает в большое море, но какое – Аральское или Каспийское? Как рассуждали тогда ученые? То обстоятельство, что воды Каспийского моря благодаря испарениям не нуждаются в стоке, не было еще известно. Поэтому Аристотель предположил, что излишки воды подземными путями уходят в Черное море. Однако в лагере Александра родилась и более правдоподобная гипотеза: Яксарт сначала впадает в какое-то внутреннее море, а вытекает оттуда уже как Танаис и течет далее на запад, где наконец впадает в Меотиду (Азовское море). Таким образом, представление о тождестве Яксарта и Танаиса оставалось в силе. Сам Александр был, по-видимому, как-то причастен к этим предположениям [259]259
Plut. AL, XLIV, 1; Polykleitos, frg. 7.
[Закрыть]. Возможно, в эту пору он уже задумал прояснить вопрос с помощью исследовательской экспедиции, однако отложил осуществление замысла. Исследователь в то время уступал еще в его душе азартному завоевателю.
Как видим, Александр спокойно относился к северо-востоку, не питая никаких романтических иллюзий. Но поскольку большинство авторов, повествовавших о его походе, не могли обойтись без романтических деталей, они придумали занятную историю: в лагерь к македонянам будто бы прибыли царица амазонок и с нею триста дев, влекомых страстным желанием иметь потомство от македонских героев [260]260
Историю об амазонках в литературу ввел Онесикрит (см.: Plut. AL, XLVI, 1; Curt. VI, 5, 24; Arr. IV, 15, 4; VII, 13, 4; Lukian. Quomodo hist, conscribenda, 40).
[Закрыть]. Желанию их суждено было сбыться, по одним источникам, в Гиркании, а по другим – на Танаисе. В сущности, это была смешная выдумка, и ни один серьезный человек ей не верил. Поводом могло послужить предложение какого-нибудь вождя кочевников выдать скифских девушек замуж за царя и его полководцев. Зато цель рассказа не вызывает сомнений. Постоянные расспросы на родине, не повстречались ли войску на пути к краю земли амазонки, должны были наконец получить ответ. Если народ так упрямо хотел басен, надо было ему эти басни придумать. По-видимому, это понял и создатель этой истории Онесикрит. Более того, он имел неосторожность рассказать ее Лисимаху, постоянному спутнику Александра, а впоследствии наместнику и царю Фракии. Тот не сдержал улыбки и спросил: «Где ж тогда был я?»
Пока мы остановились на рациональных соображениях, руководивших царем. Однако для Александра важнее были внезапные вдохновения и мечты. Когда на него находило это «нечто», царь называл его потосом (наваждением). Его потосом стала Индия.
В ряд всякого рода спонтанных побуждений Александра следует поставить еще одну иррациональную и характерную для него черту – чувство исторического величия. Это трудно описать. Его влекло всегда невероятное, небывалое, а о тех «гекатомбах», которые он походя приносил этому величию, задумывались другие, а не он. Однако тот, кто понимал его, мог быть счастлив уж тем, что сопереживает с ним величайшие исторические события.
Александр чувствовал, что завоеванию чудесной страны Индии присуще это историческое величие. За нею находился восточный океан; он сиял в лучах солнца, манил, он был сродни духу Александра. Это было намного привлекательнее, чем идти по скучным равнинам, сражаться с не представляющими никакого интереса скифами и оказаться наконец у берега убогого северного моря. Да и с государственной точки зрения вряд ли целесообразно покорять местных жителей, которые «полгода спят».
Так все смешалось: расчет и безрассудство, явное и тайное, высказанное и сокровенное, произошел тот синтез реального и ирреального, который привел наконец к тому, что летом 327 г. до н. э. Александр двинулся в Индию.