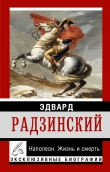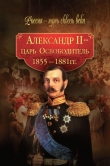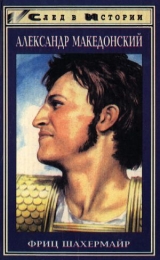
Текст книги "Александр Македонский"
Автор книги: Фриц Шахермайр
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 36 страниц)
Царь достиг успеха. Недовольство в армии было решительно преодолено, и военачальники смирились: никто уже не решался выступать против планов царя. Путь к осуществлению нового курса был свободен. Цена победы? Не духовным оружием завоевал ее Александр, а механической силой, поддержанной исключительным влиянием его воли на войско. В жертву были принесены не более и не менее как основополагающие человеческие права, с которыми считались даже цари: нерушимость закона и свобода нравственного суждения. В данном случае решение царя означало признание им того, что он не может достичь успеха иными, более приемлемыми способами. Это был также и отход от глубочайших основ греческой культуры, что, однако, не отвратило царя от однажды избранного им пути. То невероятное для всего мира, то новое, что он замыслил, не могло быть создано без полного отказа от всех прежних ценностей.
БЕСС
Мы оставили армию Александра на высотах Гиндукуша Так как Бесс занял, должно быть, узкое ущелье севернее Шибарского перевала, расположенного на высоте всего 3000 метров и весьма удобного для перехода, да еще, пожалуй верховья реки Бамиан, то Александру пришлось использовать один из довольно трудных и высоких перевалов, лежащих восточнее. Подъем с южной стороны в это время года не представлял особой трудности. Снег стаял, и на высокогорные пастбища выгнали скот. Однако там, где не было леса, возникла нужда в топливе, а по ту сторону перевала спуску мешал еще не стаявший мягкий, липкий снег [215]215
Arr. III, 22, 8 и сл.; ср.: Strabo XV, 725.
[Закрыть]. Но самое худшее ожидало войско в открывшихся ниже ущельях. Там не было никакого провианта, так как противник угнал стада с горных пастбищ. Бесс, кажется, позаботился об этом не только у Шибарского перевала, но и повсюду, где проходило войско Александра. Выход из положения был один – питаться мясом собственных лошадей. Переход через высокие перевалы занял, по свидетельствам древних авторов, не менее пятнадцати дней. Войско мерзло, голодало, роптало, но все же продвигалось вперед по склонам и ущельям, пока не вышло к открытым долинам.
Вид, который открылся воинам на Иранском плато, не шел ни в какое сравнение с тем, что они увидели теперь. С одной стороны склоны высочайших, упирающихся в небеса гор с долинами, заросшими буйной растительностью; с другой – печальная пустыня с небольшими островками, холмами, покрытыми растительностью, редкими источниками и очагами человеческой цивилизации. Самые полноводные реки, текущие там, в конце концов иссякают в песках. Страну, занимающую обширный склон горного массива, называют Бактрией, а расположенный далее среди моря песков огромный полуостров – Согдианой. Пустыня, начинающаяся отсюда, казалась бесконечной. Про иранское обширное высокогорье уже знали, что его можно пересечь, а о том, что находится по ту сторону этих пространств на северо-востоке, ничего не знал никто.
Тем не менее эта величайшая из пустынь не сулила покоя. Господствовали в ней не только песок и ветер, но и кочующие племена. Их называли скифами, саками или – по названиям их племенных союзов – массагетами, дахами, хоразмиями. Они появлялись со своими шатрами на окраинах возделываемых земель, потом исчезали и где-то вдали лелеяли мечты о новых захватах. Они были опасны не только для Согдианы и Бактрии, но и для всего Ирана. Поэтому в этой пограничной зоне иранский элемент был монолитнее, чем где бы то ни было: поселения крупнее (Мараканда и Кирополь имели крепости), воля к защите от злонамеренных варваров сильнее, наконец, местные жители считали, что власть Ахеменидов – владычество близких по крови персов – все-таки меньшее из зол. Правда, и кочевники говорили большей частью на иранских наречиях, но различие образов жизни оказалось слишком велико, подозрительность жителей богатейших земель слишком оправданна и зависть обитателей пустыни вполне понятна.
Вот почему вопреки своему окраинному положению и Бактрия и Согдиана были опорными пунктами Ирана, более того, средоточием иранцев. Именно отсюда Александру угрожала народная война со стороны тех, для кого по самому их положению она была привычным занятием. Но сможет ли Бесс, правильно распорядившись этими силами, организовать новый мощный отпор?
Что касается Александра, то он и на этот раз решил дать сперва созреть готовящемуся сопротивлению: победа над сильным кажется особенно внушительной, и тогда слабые сдадутся сами. После Гавгамел враг так и не мог собраться с силами, хотя времени у него было достаточно. Ну, а что успел сделать Бесс за зиму и весну? Использовал ли он время, окрепло его войско или ослабело?
Бесс стал жертвой собственной выжидательной политики. Это был человек, склонный к красивому жесту, громким речам и показной самоуверенности, человек, который умел привлекать к себе людей, но не умел их удерживать. Его хватило на убийство Дария, на захват царского венца и на назначение сатрапов, которым он не мог предоставить сатрапий (так, он послал Барзана в Парфию, а Сатибарзана в Арию). Все это он делал под влиянием минуты, в крайнем возбуждении. А зима принесла раздумья, и тут Бесс сник. Ему явно не хватало подлинной цельности и сколько-нибудь убедительного плана действий, который увлек бы и колеблющихся. Если бы он был одним из тех великих организаторов, чья непрестанная деятельность не оставляет места и мысли об отдыхе, то как бы успешно использовал он это время! Между тем создается впечатление, будто Бесс жил робкой надеждой, что Александр обойдет Бактрию стороной и направится в Индию. Когда Александр все-таки явился сюда летом 329 г. до н. э., он не нашел ни полководца, ни войска, готовых сразиться с ним; вражеское сопротивление рассеялось само собой.
Правда, Бесс мешал передвижениям македонян разорением страны, но он и не думал о нападении на врага, находившегося в довольно жалком состоянии и сильно ослабленного нехваткой лошадей. Как легко было запереть в опасном ущелье утомленного маршем противника! Что же предпринимает Бесс? Он без боя оставляет Бактрию и, перейдя разлившийся Оке (Амударью), удаляется в Согдиану. Александр следует за ним туда, и Бесс упускает свой второй шанс – занять труднейшую переправу. На что надеялся теперь Бесс, угадать нетрудно: уйти в глубь пустыни и в союзе с кочевниками систематическими набегами изматывать войско Александра [216]216
Arr. III, 25, 3; 28, 8; Curt. VII, 4, 32.
[Закрыть]. Это означало сдать не только Бактрию и Согдиану, но и вообще все обжитые земли. К тому же союз с кочевниками походил на союз с Вельзевулом против дьявола. То, что он без боя отдавал родную землю врагу, лишило его соратников. Бесс не учел того, что готовность к жертвам рождается только из подогреваемой воинской доблести, что ему необходимо было обороняться наступательно, что даже и небольшие успехи, которые мало что решают, способны ощутимо подбодрить войско. Отказавшись от военных действий, он потерял доверие. Сперва отпали бактрийцы: они просто вернулись домой. Вскоре согдийцы предали его, указав дорогу особому отряду, которому Александр велел разыскать Бесса. Он был схвачен в каком-то селении, оставленный почти без защиты. Не оказав сопротивления, Бесс, цареубийца и вероломный мятежник, трусливо сдался. Обнаженного, в железном ошейнике его заставили ждать Александра на обочине дороги. Царь дал приказ сперва бичевать его, а затем отправить в Бактры для последующего суда.
Казалось, больше не было нужды продолжать войну и можно в мирных условиях осваивать завоеванную территорию. Еще в Бактрах Александр возобновил связь с Арией и назначил сатрапом Бактрии и Согдианы Артабаза, что было воспринято местной знатью как дружественный жест и вызвало чувство благодарности к царю. Аорн пришлось укрепить, а в Арии заменить ненадежного Арсака Стасанором: в этой провинции и после военных успехов требовалась твердая рука. Что касается усмирения Согдианы, то здесь символично было поведение мага Магодара, перебежавшего от Бесса к Александру, которое было похоже на предательство местной знати, выдавшей Бесса. Теперь войско могло без затруднений двигаться по персидской царской дороге до Марканды, столицы этой провинции [217]217
Arr. III, 30, 3.
[Закрыть]. Конницу пополнили без труда и дошли до Яксарта (Сырдарьи), нигде не встретив противника. На этой реке, которая была границей между персами и скифами, царь решил основать очередную Александрию. Здесь, на краю света, предстояло возникнуть городу, населенному эллинскими наемниками [218]218
Arr. IV, 4,1 Curt. VII, 6, 27; Justin. XII, 5, 12.
[Закрыть], македонянами, а также местными жителями; отсюда должна была исходить дальнейшая эллинизация иранского Востока.
НАРОДНАЯ ВОЙНА В СОГДИАНЕ
Чтобы лучше понять мятеж, который на два года отвлек все силы Александра и нанес ему больший урон, чем какая-либо другая война, нужно остановиться подробнее на местных условиях. Уже описанное выше географическое положение Согдианы давно приучило жителей культурных оазисов к разнообразнейшим способам самозащиты. Каждое селение было огорожено стенами: там, где не хватало камня, они строились просто из дерева, но благодаря сухости климата были настолько крепки, что могли устоять перед легкой атакой. К тому же многие селения находились под защитой собственных цитаделей. Гористая часть Согдианы давала возможность укрыться в горных гнездах, неприступных или казавшихся неприступными – во всяком случае тем, кто держал там оборону. Ну, а если существовал дружеский союз с кочевниками (это, разумеется, в самом крайнем случае), открывалась и еще одна возможность – ускользнуть в пустыню. Наконец, защитой страны служило и то обстоятельство, что оазисы перемежались территориями, совершенно лишенными источников; пришельцев пугали также болезни, возникавшие от скверной питьевой воды.
Когда Кир покорил Согдиану, он не стал ничего там менять. Он приветствовал строительство крепостей, но и это дело предоставил на усмотрение местных жителей. Отдельной сатрапией Согдиана не стала: ее просто присоединили к Бактрии. Управление каждой местностью, согласно обычаю, поручалось кому-нибудь из знати. Тут играли роль и принадлежность к одному из знатных семейств, прямое наследование, богатство, отвага, честность (разумеется, в сугубо сословном смысле), воинские доблести и дарования – все это имело значение и по-разному сочеталось в этих людях. Только серого чиновничества не было в этом, быть может, слишком пестром, но и ослепительном местном нобилитете. К тому же здешние правители оставались всегда лишь первыми среди равных, так что окружающая их более мелкая знать была заинтересована в их процветании.
Когда Александр наступал, а Бесс все явственнее обнаруживал свою несостоятельность, согдийская знать заняла выжидательную позицию. Было решено выдать Александру убийцу Великого царя, но отказаться от подчинения персам. Если бы Александр позволил им жить так, как они привыкли при Ахеменидах, они, пожалуй, охотно приняли бы вместо старой власти новую и, возможно, даже стали бы союзниками македонян, дабы воинской доблестью снискать себе славу. Но Александр решил оккупировать всю территорию, основать новый город и заселить его своими наемниками в целях обороны от кочевников и ради будущей эллинизации края. Не исключалась возможность, что в дальнейшем здесь появятся и другие подобные поселения, а это означало отчуждение земель у местных владельцев и передачу их новым поселенцам. Это вызвало сильное возмущение местной знати.
Уже само прохождение по стране войск с их фуражирами, реквизиторами, с постоем воинов и мародерством потребовало от этого не слишком богатого края тяжелых жертв.
Такого «кровопускания» ждали раньше только от кочевников, а теперь явился новый «покровитель», который отбирал запасы продовольствия, лошадей, скот и бесчинствовал иной раз не хуже каких-нибудь дахов или массагетов. А этот новый, насильственно созданный у них город! Теперь ясно, что чужестранцы расположились надолго; пришельцы будут все прибывать, принося с собой свои обычаи и чужих богов, свое непомерное высокомерие и неоправданное чувство превосходства. Пожалуй, под угрозой окажется далее местная знать. Нет, лучше уж объединиться с кочевниками – путь, на который еще раньше вступил Бесс.
В Согдиане Александр, несомненно, надеялся добиться взаимопонимания. Но рука, которая держит меч, не слишком пригодна для рукопожатий. Александр хотел, с одной стороны, чтобы его принимали дружественно, а с другой – чтобы ему слепо подчинялись и склонялись перед его державными замыслами. Противоречивость ситуации, надо полагать, осложняла его отношения с персами, но те давно были приучены слепо подчиняться Великому царю, а Согдиана пока еще не была готова благословлять чуждую интересам края государственную волю.
Позиция выжидания сменилась возмущением, а затем знать решила вступить в борьбу. Теперь нужен был человек, вдохновленный идеей сопротивления, готовый на все и способный быстрым успехом раздуть искры недовольства в пламя всеобщего восстания. Такого человека Согдиана обрела в лице Спитамена, подлинного защитника свободы и вместе с тем самого значительного из всех когда-либо противостоящих Александру полководцев.
Спитамен, как и Датаферн, Катан, Гаустан, Ариамаз, Хориен и Оксиарт, принадлежал к местной знати. Уже при Бессе он занимал заметное положение и, вероятно, даже играл некоторую роль при выдаче последнего. Но сила проявляется в испытаниях; ведущая роль сама пришла к Спитамену вместе с успехами в борьбе.
Мятежникам очень помогло то обстоятельство, что Бесс успел привести кочевников в состояние боевой готовности, а Александр недооценил эту опасность. Он не разглядел и первых ее симптомов, хотя серьезность положения была уже видна после столкновения, во время которого царь был ранен. Дело обстояло следующим образом: местные жители убили нескольких македонян, отправившихся за фуражом, и Александр сразу же поспешил к месту происшествия, где и был ранен в голень вражеской стрелой [219]219
Arr. IV, 3, 1; ср.: Plut. AL, XLV, 5; Curt. VII, 6, 22.
[Закрыть]. Это, однако, не очень занимало его мысли, он больше думал об основании нового города, чем о своей ране.
Восстание разразилось примерно в сентябре 329 г. до н. э. и охватило сразу всю Согдиану. К восставшим присоединилась и часть бактрийской знати, заподозрившей хитрость в объявленном Александром собрании знати, на которое они побоялись приехать. Спитамен напал на Мараканду. Македонские подразделения, находившиеся поблизости от новой Александрии, были перебиты. Сам Александр на первых порах не мог оценить размах и значение начинавшегося восстания.
Понимая, что не следует делить войско, и без того ослабленное демобилизацией и отпусками многих воинов, он решил проучить и покарать тех мятежников, которые были к нему ближе всего. Умелой осадой он взял несколько крепостей, мужчин перебили, а женщин и детей обратили в рабство. Для тысяч воинов, которых он намеревался поселить здесь, Александру необходимо было много плодородной земли. Ее-то он и добыл, уничтожив прежних владельцев. Сам царь неоднократно подвергался в этих боях опасности, а во время штурма Кирополя совершил один из своих самых отчаянных поступков [220]220
Arr. IV, 2, 2 и сл.; III, 3, 5. Cp: Curt. VII, 6, 19 и сл.
[Закрыть].
Подведя к стенам осадные машины, он с небольшим отрядом телохранителей проник в город через отверстие в стене, сделанное для ручья, несущего воду в город. Отворив ворота, он дрался с превосходящими силами защитников до тех пор, пока город не был взят. Сам царь сильно пострадал от камней. Кратер был ранен, но это оказалось не столь большой платой за отважное предприятие, воодушевившее македонян примером личного мужества.
Но вот на другой стороне Яксарта появились скифские орды. Тут же царю сообщили, что Спитамен взял Маракаиду и осаждает тамошнюю цитадель. И все-таки Александр, по-видимому, не понимал серьезности положения, направив туда только 60 гетайров, 800 всадников и 1500 пехотинцев-наемииков. Во главе их был поставлен многоопытный военачальник, какой-то левантийский дипломат, которому, по всей видимости, поручалось уладить дело дипломатическим путем.
Сам Александр оставался пока во вновь основанном городе, который он отстраивал силами своих воинов. Прибегнув к местным методам строительства из лёсса, он сумел воздвигнуть стену вокруг города за двадцать дней и таким образом укрепить этот новый оплот своей державы [221]221
Arr. IV, 4, 1; Curt. VII, 6, 25.
[Закрыть]. Между тем скифы не желали уходить с противоположного берега, и Александр ответил на их вызов. Уже самой организацией переправы через реку он продемонстрировал превосходство своей тактики, а затем, освоившись со скифскими методами ведения войны, обратил кочевников в бегство. Александр гнал их далеко в глубь страны, не обращая внимания на болезнь, которую приобрел из-за неосторожного употребления скверной местной воды [222]222
Там же.
[Закрыть].
В это время решилась судьба воинских подразделений, посланных на помощь осажденной Мараканде. Когда они приблизились к городу, Спитамен снял осаду и отступил в район Нижнего Политимета [223]223
Одно из названий современной реки Зеравшан. В древности ее называли также Сого, откуда и произошло название «Согдиана».
[Закрыть], сумев мастерски завлечь противника. На краю пустыни македоняне наткнулись на скифов-кочевников. Спитамен, соединившись с их конницей и выбрав удачный момент, перешел в наступление и напал на усталое войско, только что совершившее марш-бросок от Яксарта, не имевшее ни лучников, ни свежих коней. То-то было удовольствие испробовать на измотанном противнике всю скифскую тактику: неожиданные атаки и отступления, сопровождаемые смертоносным обстрелом лучников. В полной растерянности македонянам пришлось отступить к Политимету. Единого командования не было, и колонны потеряли между собой связь, многие подразделения охватила паника. У реки и в самой реке началась резня. Нечто подобное произошло позднее с римлянами в битве при Каррах. По сообщению Аристобула, только 300 пехотинцам да четырем десяткам всадников удалось спастись. Одержав победу, Спитамен сразу же вернулся под Мараканду и вновь вынудил македонян укрыться в крепости.
Дольше медлить было нельзя. Престижу македонян был нанесен тяжелый удар, а крепость Мараканда с минуты на минуту могла пасть. Поэтому Александр поспешил к согдийской столице, взяв с собой самые подвижные части. Когда Спитамен узнал о приближении царя, он тотчас оставил Мараканду и вместе с конницей исчез в пустыне. Александр бросился за беглецом, но не догнал его. Пришлось довольствоваться разорением обширных областей Согдианы, особенно низовий Политимета, и наказанием местного населения. Оборудовав несколько крепостей и передав командование ими Певколаю, Александр до наступления зимы вернулся в Бактрию. Здесь тоже вспыхивали мятежи, но связи с Западом были надежнее, и армия снабжалась лучше.
Так кончился 329 год. Горные районы на востоке Согдианы, где укрылись многие повстанцы, остались недосягаемы. Все жители Согдианы были на стороне Спитамена, все еще не побежденного, успехи которого вселяли отрадную надежду. Попытка достичь взаимопонимания с мечом в руках обернулась первой серьезной неудачей.
Александр перезимовал в Бактрах, столице провинции, занимаясь пополнением войска. В это же время решилась и судьба Бесса: собранный в лагере совет вождей признал его виновным. По персидскому обычаю, царь распорядился отрезать ему нос и уши и отправил его в Экбатаны, где ему предстояло принять смерть на глазах собрания персидско-мидийской знати.
Интересно отметить, что этот карательный акт должен был произойти не в Сузах или какой-либо другой резиденции собственно Персиды, а именно в Экбатанах, древней столице Мидии. Очевидно, Александр и после смерти Пармениона по-прежнему намеревался создать восточный центр своей империи в Экбатанах.
На следующий год царь начал постепенно покорять северо-восточную часть страны. В Бактрии и Согдиане он хотел упрочиться окончательно. Требовалось укрепить обратные коммуникации через Арию и Парфию, для чего следовало овладеть Маргианой. Необходимо было также закрыть Спитамену и его союзникам-кочевникам доступ в богатые районы страны и вынудить их к обороне. Что касается оседлого населения Согдианы, то царь решил править им строго, но милостиво; собирался ли он при этом использовать трения между мирным крестьянством и воинственным всадничеством, установить трудно. Но уж, конечно, он мог надеяться ка то, что старая вражда между кочевниками и оседлым населением в конце концов сыграет свою роль, даже если сейчас они и в сговоре. И еще одно стало ясно Александру за последний год: бесперспективно надеяться на взаимопонимание, основываясь лишь на своих правах на персидский престол, и искать симпатии, потворствуя персам. Выдав Бесса, Согдиана сама отвернулась от идеи Ахеменидской державы, так что если уж договариваться с согдами, то надо стараться найти с ними общий язык, минуя персов.
Весной 328 г. до н. э. мы застаем Кратера с большим войском уже вне Бактрии, на западе. Вероятнее всего ему в сотрудничестве с сатрапами Парфии и Арии было поручено обеспечить обратные коммуникации и с этой целью прежде всего завоевать Маргиану. Эта местность, расположенная между Парфией и Согдианой, своими пустынями вдавалась глубоко на юг и на протяжении сотен километров примыкала к царской дороге. Посреди этих песчаных равнин располагался плодородный оазис Мерв. Кому принадлежал он, тому принадлежала и Маргиана. Тут-то, нужно полагать, Кратер по поручению царя и основал новую Александрию, а заодно несколько укрепленных пунктов вдоль реки [224]224
Plin. N. H., VI, 47, ср.: Curt. VII, 10, 15; Arr. IV, 18, 1
[Закрыть].
Для завоевания бактрийской территории Александр выделил четыре полка фалангистов, поручив каждому из военачальников усмирить население на отведенной ему территории. В пограничных местечках по краям пустыни были размещены гарнизоны; возможно, уже тогда была основана и бактрийская Александрия, местоположение которой нам неизвестно.
Что касается Согдианы, то зимой события там развивались весьма неблагополучно. Певколай располагал лишь несколькими опорными пунктами; Артабаз, хоть и был назначен сатрапом не только Бактрии, но и этой провинции, авторитетом здесь не пользовался. Страна подчинялась в основном возвратившемуся Спитамену; значительная часть непокорного населения засела в укрепленных городах и крепостях. Тогда Александр решил устранить всякое сопротивление, тщательно прочесав страну. Сам он направился в Мараканду, чтобы навести там порядок, а четыре других полководца занимались усмирением провинции. Поскольку они располагали превосходящими силами, обещали милость сдавшимся, усмирение не потребовало больших усилий, тем более что сам Спитамен снова ушел к кочевникам.
Когда наконец вся армия объединилась в Мараканде, Александр поручил Гефестиону основывать и укреплять новые города, так как прежние почти все были разрушены войной [225]225
Strabo XI, 517; Arr. IV, 16, 3; Justin. XII, 5, 13.
[Закрыть]. В этих городах наряду с местными жителями должны были селиться ветераны-наемники, создавая опору против кочевников, а заодно и против местного согдийского сепаратизма; они должны были способствовать проведению в жизнь общегосударственных планов. Сам Александр совершил в это время еще несколько небольших походов.
Между тем Спитамен готовился к новому удару. Он постоянно отыскивал самое слабое место у противника и всегда был превосходно информирован о его передвижении. Когда Спитамен в союзе с массагетами внезапно ворвался в Бактрию из Туркменской пустыни, никто не ожидал его там. Ему легко удалось выманить из-за стен ни о чем не подозревавший гарнизон и уничтожить его. Затем он прорвался до самых Бактрийских ворот. Но тут ему пришлось столкнуться с алчностью своих союзников, пожелавших вернуться домой с богатой добычей. Горстка оставшихся в Бактрии македонян бросилась за ними в погоню, отбила награбленное, однако на обратном пути попала в засаду, устроенную Спитаменом, и была почти полностью перебита. Теперь массагеты снова были обременены добычей. «Скифские» кочевники всех времен оказывались в таком положении – совершенно беспомощными, как переваривающие пищу змеи. Это впоследствии губило и парфян и персов. Вот и теперь массагеты неожиданно наткнулись на Кратера, который явился, по-видимому, из Маргианы и смял их колонну. Разумеется, захватчики тут же побросали все и обратились в бегство, однако были настигнуты и втянуты в довольно тяжелое для них сражение. Наконец им удалось достичь пустыни и рассеяться в ней.
В конце лета Александр снова в Мараканде. Мы узнаем о поездке царя на охоту, возможно, в верховья Политимета, где он ждал Гефестиона и Артабаза. Артабаз стал просить освободить его от поста наместника. Он не хотел больше оставаться в своей беспокойной провинции. Просьба была удовлетворена, причем царь решил не назначать преемником Артабаза перса. Персов здесь уже не уважали, а согдам нельзя было доверять, так что лучше всего было назначить македонянина. Выбор пал сначала на Клита, а после его смерти, о которой мы расскажем позднее, на Аминту.
Наступающую зиму Александр намеревался вместе с войском провести в глубине Согдианы, в Навтаке, а для защиты от набегов из пустыни выделил находившуюся в постоянной готовности армию Кена. К этой армии впервые были присоединены контингенты из Бактрии и Согдианы – признак того, что проводимая Александром политика взаимопонимания возымела наконец действие.
Желая восстановить свой пошатнувшийся авторитет, Спитамен вместе со своими союзниками-массагетами решил нанести удар по армии Кена. Однако Кен не только его отразил, но и нанес противнику ответный удар. Это был конец. Согдийское и бактрийское всадничество, до сих пор упорно сопротивлявшееся, утратило мужество и сдалось Александру. Лишенный какой-либо поддержки, Спитамен присоединился к обращенным в бегство массагетам. Кочевники безжалостно грабили согдийских беженцев и не скрывали своего разочарования. Их надежды на поживу не сбылись; теперь стало рискованно селиться даже вблизи богатых областей (это было насущной потребностью многих кочевников), ибо в столкновениях сказывалось явное превосходство македонской конницы. На следующий год можно было ожидать нападений македонян, которые прогонят скот с последних пастбищ и обрекут людей на голод. Так приблизительно размышляли массагеты, когда решили выдать Спитамена и попросить мира. Зимой 328/27 г. до н. э. Александру в знак покорности была прислана отрубленная голова этого мятежника [226]226
Curt. VIII, 2, 13 – 3, 16; Arr. IV, 17, 4 и сл.
[Закрыть].
По мере развития событий Спитамен стал настоящим государственным деятелем, и следует признать, что он использовал все свои возможности умело, энергично и осмотрительно. Он терпел поражения, но, несмотря на это, был отличным бойцом, более того, гениально умел использовать малейшую слабость и ошибку врага. Поражением своим он обязан численному и военному превосходству противника, своему мезальянсу с кочевниками и несоизмеримости собственных сил с мощью империи, управляемой Александром.
Во время зимовки Александр предпринял некоторые перестановки среди управляющих провинциями. Фратаферн блистательно проявил себя в Парфии, и теперь царь передал под его начало также область амардов и тапуров, так как сатрап этих областей совершенно не справлялся со своей задачей. Атропат, управлявший Мидией еще при Дарии, вновь получил эту провинцию вместо ненадежного Оксидата. В Вавилонии после смерти Мазея Александр поставил перса. По всему видно, что царь старался выделить тех своих иранских помощников, которые действительно удовлетворяли его требованиям. И надо признать, что среди них нашлись-таки опытные, вполне лояльные и безупречные в отношении административного управления. Все это имело особое значение, так как Александр мог тогда в последний раз обстоятельно заняться вопросами управления своей империи.
Действительно, зимой 328/27 г. до н. э. положение радикально изменилось: капитуляция согдийского всадничества, группировавшегося вокруг Спитамена, убийство последнего и мир с массагетами – все это позволяло надеяться на скорое окончание мятежа и давало простор новым планам. Мы еще расскажем о том, как мало привлекала Александра мысль блуждать по бесконечным просторам северных пустынь. Сейчас ему было важно освоить ойкумену, т. е. всю заселенную территорию. При этом его, конечно, больше привлекал загадочный Дальний Восток, земля чудес – Индия. Об этом он думал, еще когда основывал Александрию под Гиндукушем. Вот куда устремлялись его мысли, пока он оставался в Навтаке. Но предстояло еще уничтожить последние очаги согдийского сопротивления. Располагались они на юго-востоке горной области и, служа прибежищем недовольным князьям, всегда могли стать опасными. Чтобы нанести по ним последний удар, Александр снялся с зимних квартир слишком рано по согдийскому климату. Поэтому экспедиция была связана с серьезными испытаниями для воинов: сперва весенние грозы, а затем снег в горах, холод и голод. И все-таки за короткое время удалось невозможное, и самому неприступному оплоту непокорных пришлось отказаться от сопротивления перед лицом несомненного технического превосходства македонского войска [227]227
Arr. IV, 18, 4 и сл.; ср.: Strabo XI, 517; Polyaen. IV, 3, 29; Curt. VII, 11, 1.
[Закрыть].
Когда Александр, подойдя к Ариамазу, одному из таких горных гнезд, пообещал помиловать сдавшихся, защитники крепости подняли его на смех, так как им казалось, что их вознесшаяся к небу крепость доступна лишь крылатому противнику. Тогда царь призвал к действию своих специалистов по горной войне, которых у него насчитывалось около трехсот. Опытные скалолазы под покровом ночи с помощью веревок и топоров поднялись на отвесную скалу, возвышавшуюся над крепостью. Правда, при этом человек тридцать сорвалось в бездну, но на следующий день крепости Ариамаз ничего не оставалось, как капитулировать.
Вторая, такая же как будто неразрешимая задача возникла при взятии крепости Хориена, защищенной со всех сторон ущельями. Здесь могло выручить только саперное и инженерное мастерство. Используя имеющийся в изобилии хвойный лес, строители соорудили лестницы, с помощью которых спустились на дно ущелья. После этого там был возведен своего рода помост, под которым мог протекать ручей. На помосте неустанно изо дня в день воздвигался настил, который в конце концов должен был заполнить все ущелье. С него и намеревался Александр штурмовать крепость. Если учесть, что одновременно с этими работами приходилось сооружать еще и стены, защищающие от непрерывного обстрела врага, то трудно переоценить высокое техническое мастерство строителей. Того же мнения были и защитники крепости, которые почли за лучшее просить пощады, не дожидаясь окончания этих работ.
Вместе с военным пришел и значительный моральный успех. Александр вообще был склонен к милосердию; случай проявить его представился царю и на этот раз. В крепости Ариамаз была захвачена семья влиятельнейшего из местных владык – Оксиарта, а к этой семье принадлежала Роксана, слывшая первой красавицей в Персии. Александр тотчас же воспылал страстью к этой девушке и принял ее отца с почестями. Пренебрегая правом победителя, Александр решает сделать Роксану супругой и царицей своей громадной державы. Дочь Артабаза, Барсина, сопровождавшая его последние годы и незадолго до этого родившая ему сына, была отпущена. Свадьбу отпраздновали прямо в крепости Хориена торжественно и согласно иранским обычаям. Вполне возможно, что тут сказалась и унаследованная от Филиппа склонность отдаваться без малейшего промедления едва зародившемуся любовному чувству.