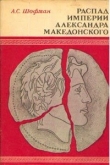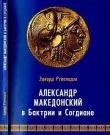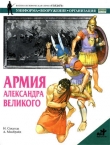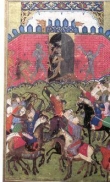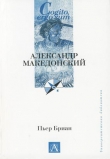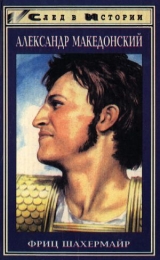
Текст книги "Александр Македонский"
Автор книги: Фриц Шахермайр
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 36 страниц)
Так или иначе, задача покорения не только страны, но и ее хозяев была в основном достигнута. Когда Александр наконец понял, что недостаточно учел особый уклад жизни местного населения, он попытался исправить свою ошибку. Уже в 329 г. до н. э. Александр помиловал тридцать осужденных на смерть представителей местной знати, взяв с них обещание сохранять ему верность [228]228
Curt. VII, 10, 4 и сл.; Diod. XVII, ep. 22.
[Закрыть]; с 328 г. впервые были введены в войско согдийские и бактрийские контингенты. Теперь родовые привилегии местных князей были подтверждены, а один из сыновей Оксиарта принят в эскадрон гетайров, приближенных к царю. Но решающее значение имело возвышение Роксаны. Александр так любил ее, что эта любовь распространилась на всю Азию, на весь Иран, в особенности на согдов и бактров. Нет сомнения, что на Александра произвело впечатление сопротивление, ему оказанное: он признал их лучшими среди иранцев. А потому согды и бактры должны были получить соответствующее уважение и почести в его державе. Сколь бы сильным ни было чувство царя к Роксане, эта торжественная свадьба имела одновременно и государственное значение: так символически воплощалась идея взаимопонимания и взаимопроникновения народов. Сам царь служил образцом будущего единения македонян и иранцев, европейцев и азиатов. Свадьба в крепости Хориена подготовляла будущие свадебные торжества в Сузах.
Оставалось, правда, несколько непримиримых местных владык, скрывшихся в окраинных восточных пределах провинции, однако Александр сам не удостоил их внимания. Он послал Кратера ликвидировать эти очаги сопротивления. Александр же направился прямо в Бактрию, чтобы там готовиться к Индийскому походу.
Таким образом, война в Согдиане закончилась вполне успешно. Жертвы, правда, были немалые. Александр потерял ближайших помощников: Эригия (умер от болезни), Карана (пал при Поллтимете), Клита (о нем речь впереди).
Сперва царь наделал ошибок, послуживших причиной неудач, но впоследствии подтвердилась сила всего того, что составляло достоинство македонского войска и его командования: мужество и решительность, неожиданность нападений и выдержка, техническое превосходство во всех родах оружия и, наконец, главное – способность находить выход в самой необычной обстановке. Успехи в ведении малой войны, выпавшие на долю отдельных воинских соединений, были удивительными. Однако особенно высоко следует оценить победы, одержанные македонской конницей под началом Александра, Кратера и Кена. Именно она сумела противостоять неизвестной прежде тактике боя скифских кочевников. Ее успехи имели и политическое значение, далеко превосходившее непосредственное подчинение Согдианы: теперь орды кочевников, обитающих в глубине пустынь, беспрекословно признали авторитет Александра и его оружия.
Дела налаживались. Согдийцы поняли, что, потерпев поражение, они не могли уже сами защитить страну от кочевников и что эллинизированные города были им защитой. Их устраивало признание царем местных князей, льстила женитьба его на Роксане. Что касается кочевников, то им никто не запрещал жить по-прежнему. Словом, если кто и был недоволен, так это люди самого Александра, которых он насильно оставлял здесь, на краю земли,
Непригодными для похода или же штрафниками оказывались чаще всего греческие наемники, изредка – сами македоняне; число штрафников особенно возросло после дела Филоты. Теперь эти люди очутились на краю света без всякой надежды на возвращение. Правда, они были обеспечены землей, в городах причислялись к аристократическим кругам, служили образцом и носителями культуры. Но все это совершилось не по их воле; согласие их, если и не было вынужденным, не может считаться и добровольным: царь внушил им это согласие, но лишь на время. И вот им пришлось жить здесь, среди туч пыли и мух, довольствуясь гнилой водой. Правда, весной можно было радоваться буйному цветению растительности, летом наслаждаться редкими плодами, но всегда их мучил вопрос, как и почему они здесь остались.
Нетрудно представить себе, какую радость испытали охваченные такими настроениями поселенцы, когда в 325 г. до н. э. до них дошла ложная весть о смерти Александра. 3000 самых нетерпеливых восстали сразу, захватили Бактры и решили с оружием в руках добиться своего возвращения на родину [229]229
Ср.: Curt. IX, 7, 3; Diod. XVII, 99, 5 и сл.
[Закрыть]. И даже после того как выяснилось, что известие о смерти царя – ошибка, покой в провинции восстановился не сразу; когда же в 323 г. до н. э. Александр действительно умер, уже десятки тысяч поселенцев готовы были отвоевывать силой право на возвращение [230]230
Diod. XVIII, 4, 8; 7, 1 и сл.
[Закрыть].
ПЕРЕСТРОЙКА АРМИИ
С тех пор как Дарий был убит и Александр все глубже проникал в Восточный Иран, способ ведения военных действий совершенно переменился. Время крупных сражений прошло, ибо уже никто не решался встретиться с Александром в открытом бою. Теперь от него ускользали, ему сдавались – иной раз лишь для того, чтобы затем поднять мятежи, от него укрывались в крепостях и пустынях, с ним вели войну на необозримых просторах страны.
Поэтому и Александру понадобились новая армия и новая тактика. Вместо крупных соединений нужны были отдельные подразделения войск, способные совершать мелкие операции и руководимые решительными и самостоятельными военачальниками. Еще острее, чем прежде, вставала задача охраны завоеванного, освоения огромных пространств с точки зрения организации и культуры.
Если Александр в предшествующие годы удивлял нас прежде всего как стратег в крупных сражениях, то теперь мир дивился ему как организатору и реформатору армии. Александр провел крупные преобразования в армии в самых тяжелых условиях, когда со всех сторон угрожали враги и на какое-то время он был лишен всех коммуникаций.
Обстоятельства не позволяли осуществить какой-либо план единым духом. Первые, еще незначительные перемены были произведены уже в 331 г. до н. э., а более важные изменения потребовали четырех лет – до лета 327 г. Царь занимался этим на зимних квартирах, так как остальное время войска постоянно вели военные действия.
Были отменены главные штабы, а именно: штаб тяжеловооруженной пехоты (так называемых педзэтайров), которой сначала командовал Парменион; штаб аристократической конницы (гетайров), некогда руководимый сыном Пармениона – Филотой; штаб легкой кавалерии (продромой), главой которого прежде был Гегелох, друг Пармениона, впоследствии Никанор, второй сын Пармениона; штаб так называемых гипаспистов. Полки тяжелой пехоты и соединения гипаспистов были организационно обособлены и значительно увеличены; каждый эскадрон тяжеловооруженной конницы получил полную самостоятельность; кроме того, ему придавались подразделения легкой конницы, а также греческих конных наемников, в результате чего получались отдельные соединения конницы – гиппархии. Не говоря уже о том, что Александр, уничтожив былое единство служившей в коннице знати с ее вечным недовольством, выиграл в политическом отношении, он получил и чисто военное преимущество: теперь за сутки он мог, если возникала необходимость, создавать небольшие самостоятельные подразделения (своего рода «карманные армии»), укомплектованные несколькими гиппархиями с тем или иным числом полков тяжелой пехоты или подразделений гипаспистов.
С 331 г. до н. э. прекратилось пополнение войска из Македонии, зато появились крупные контингенты греческих наемников, так что названные выше рода войск, прежде чисто македонские, теперь оказались насыщенными греками. Это, по-видимому, вполне отвечало желаниям властелина. Свежие македонские силы могли бы оказать сопротивление его новой политике терпимости к иноземцам. Что же касается иранцев, то Александр до сих пор не решался вводить их в македонские соединения. Правда, с 328 г. до н. э. при его армии находилась бактрийская и согдийская, а затем скифская и дахская конница, но это были только отдельные, локально обособленные и вспомогательные контингенты; македонской пехоте или гиппархиям иранскую конницу не придавали. Исключение составлял лишь находившийся под непосредственной командой Александра его личный эскадрон, в котором служили отдельные представители восточной знати. Это было связано не с военными, а с политическими соображениями. Что касается, наконец, персидской дворцовой охраны, которую Александр, по-видимому, унаследовал от Дария, то она вообще принадлежала не к армии, а ко двору.
Мы видим, таким образом, что реформа, принятая в 330–327 гг. до н. э., еще не превратила греко-македонскую национальную армию в имперскую. Очевидно, Александр считал, что время для этого еще не наступило, да и не подобало проводить такие радикальные преобразования во время похода, находясь к тому же на северо-востоке империи. Помимо этого Александру приходилось считаться с тем, что введение иранцев в ряды ветеранов оскорбило бы македонян. В момент, когда он собирался искать где-то в Индии границы ойкумены, ему нельзя было отваживаться на подобную реорганизацию. Другое дело – греки: македонянам привычно было видеть их в своем войске. И уж если можно использовать их как сановников и военачальников, то нет причины отвергать их и как боевых товарищей.
Одно мероприятие проливает неожиданный свет на план Александра ввести иранцев во все воинские соединения на равных правах со старыми воинами. Отправляясь в Индию [231]231
Curt. VIII, 5, 1; ср.: Diod. XVII, 108, 3.
[Закрыть], он поручил наместникам восточных провинций вооружить 30 000 молодых иранцев македонским оружием и обучить их греческому языку и письму, – по-видимому, как принятому официальному языку уже сейчас и будущему государственному языку всей империи. Нет сомнения, что Александр подготовлял таким образом решающую реформу, которая в конце концов уничтожила бы монополию западного элемента в армии, а возможно, и роль македонского войскового собрания. Это был фундамент тех преобразований, которые царь начал осуществлять позже, в 324 г. до н. э., но pie успел довести до конца.
Отсюда вытекали и нововведения стратегического порядка. У Александра издавна было стремление разрешать сложные ситуации с помощью различных военных соединений. Но лишь теперь у него появилась возможность систематически применять тактику раздельного марша и объединенного удара.
Некоторые исследователи отказывают Александру в таланте полководца. Это выглядит довольно нелепо, если учесть его крупные победы в предшествующие годы, и вдвойне нелепо, если рассматривать его последующий поход в Индию. Разумеется, в Согдиане у царя не было подходящего случая показать себя организатором великого сражения. Однако все схватки, любая осада дают возможность убедиться в его ярчайшем тактическом мастерстве. Что же касается похода в Индию, то комбинации с использованием раздельно действующих воинских соединений показывают такую зрелость стратегического замысла, которая представляется нам почти беспримерной, особенно если принять во внимание новизну театра военных действий и отсутствие карт этого региона. Уже одного этого достаточно, чтобы назвать Александра величайшим полководцем мировой истории.
Если Александру удалось создать первую «современную» армию, которая по своей внутренней подвижности и гибкости превосходила даже воинские соединения нового времени, то никоим образом не следует забывать, что в его распоряжении не было в то время примеров применения разработанного им нового способа ведения войны. Силой собственного духа, приспосабливаясь к новым условиям, Александр создал новую идею, силой своего духа он и осуществил ее.
Для проведения операций раздельно действующими группами войск Александру нужны были энергичные военачальники. Его стратегия оказалась своего рода школой для полководцев, тем более, что царь, резко пресекавший любую самостоятельную инициативу в политической сфере, прямо-таки благоговел перед творческими проявлениями военного таланта у своих приближенных. Именно в его армии выросли многочисленные полководцы будущих сражений между диадохами, но надо признать, что, какова бы ни была впоследствии их слава, в сравнении с чародеем-учителем они остаются лишь учениками, которым неподвластны вызванные ими могучие силы.
СМЕРТЬ КЛИТА
С незапамятных времен было принято, чтобы македонский царь приглашал на свои пиры вельмож. При этом нередко случалось пили лишнее. В походе это было тем более естественно, что тело иссыхало от восточной жары, а вода была скверная. Вино привлекало уже тем, что утоляло жажду. Тут можно было забыться, но веселье иной раз переходило в ссору: как-то полководцы Кратер и Гефестион кинулись с оружием друг на друга [232]232
Plut. AL, XLVII, 9 и сл.
[Закрыть]. Мы знаем только один случай, когда Александра, опьяненного вином, охватил приступ гнева. Но дарю самому пришлось более всех других жалеть о последствиях. Это была страшная ночь в Мараканде, стоившая жизни Клиту.
Давно опровергнуто мнение, что этот печальный случай произошел вследствие пьяной ссоры, что у него нет никакой предыстории и что он не имел исторического значения. Теперь доказано, что пары вина только вытащили на свет старые противоречия, загнанные вглубь процессом Филоты, но никоим образом не забытые. Оставалось немало таких людей, кому совершенно не нравился Аммон как царский отец или политика терпимости, проводимая Александром; эти люди чувствовали, что новый курс каким-то образом ведет к ущемлению основных человеческих прав. Тем не менее ветераны, служившие еще при Филиппе и помнившие прошлое, понимали, что надо молчать. Молчать! Каждый остерегался, как бы не выдать себя.
Александр знал, конечно, об этих подводных течениях, он всегда находил преданных помощников по той степени воодушевления, которую они проявляли в отношении его планов и намерений. Те, кто лишь повиновался и сохранял верность, не очень ему подходили, зато проявлявшие восторг, готовые отказаться от своих собственных мыслей и со всей страстью стремившиеся разделить его мысли заслуживали его признание, становились друзьями. Процесс Филоты послужил пробным камнем. Получили знаки царской милости, в основном в виде ответственных военных постов, те, кто поощрял бесповоротное осуждение как подозреваемого, так и его почтенного отца. Это относится, в частности, к Гефестиону и Кену, военная карьера которых началась как раз с этого момента. Но и Птолемей, видно, отличился преданностью на процессе, потому что вскоре после его окончания был назначен в личную охрану царя и мы встречаем его среди ведущих военачальников. Что касается Кратера, то ему, самому надежному полководцу Александра, некуда было уже подниматься.
Предпочтение, отдаваемое слепой преданности, отодвигало на задний план немало воинских дарований. Это хорошо заметно на примере Клита, который хоть и продвинулся после процесса Филоты, но командования над всей аристократической конницей не получил. После разделения конницы одной половиной командовал он, а другая досталась Гефестиону. Александр, наверное, охотно назначил бы последнего военачальником всей конницы, но решил пока пойти навстречу недовольным и уделить долю власти Клиту, настроенному на старинный лад, известному военачальнику времен Филиппа. При этом он, безусловно, оставался преданным Александру. К тому же царь находился в самой сердечной дружбе с семьей Клита, особенно он любил Ланику, его сестру, которая когда-то была его кормилицей. Сам Клит спас царю жизнь при Гранике. Вот почему Александр все-таки разделил конницу. Назначение Клита должно было удовлетворить всех.
Вскоре выяснилось, что Александр отнюдь не намерен подходить к обоим командующим с одинаковой меркой. Спустя несколько месяцев разделение конницы было отменено и это войсковое подразделение вообще реформировано. По сообщению Курция, Клит должен был сменить Артабаза в качестве сатрапа Бактрии [233]233
Curt. VIII, 1, 19.
[Закрыть]. Было ли это, как полагают многие современные исследователи, проявлением особой царской милости? Пост сатрапа действительно облекал большой ответственностью, подразумевавшей командование значительными воинскими соединениями. Но кого назначил Александр на это место после печальной кончины Клита? Какого-то Аминту, ничем не отличившегося и не выступавшего прежде в качестве самостоятельного военачальника. Не следует также забывать, что в последние годы царь никогда не назначал сатрапов из высшего руководства армии. Так что назначение Клита было весьма примечательным исключением, не коснувшимся никого, кроме бывшего начальника личной конной охраны царя, т. е. привилегированнейшей части войска. Александр, может быть, и выдавал это назначение за доказательство своего доверия, однако на деле это означало удаление из круга наиболее приближенных лиц и из армии, т. е. изоляцию и своего рода опалу. Напрашивается сравнение с оставленным в Экбатанах Парменионом, вспоминается и Менандр, который воспротивился подобному назначению в момент, когда Александр отправлялся в Индию. Царь не остановился тогда перед тем, чтобы казнить непокорного [234]234
Plut. AL, LVII, 3.
[Закрыть].
Нетрудно почувствовать напряженность в отношениях, даже если об этом избегают говорить. Не исключено к тому же, что Клит слишком подчеркивал свою заслугу при Гранике; наконец, Александру, может статься, тягостно было видеть рядом человека, который молча его осуждает. Немудрено, что царь решает удалить его из армии под благовидным предлогом. И Клит понял это. Как настоящий солдат, он подчинился приказу и совладал со своей обидой. Он держался твердо, пока вино не развязало ему язык. А уж тогда прорвалось наружу все: и его гнев против нового курса в целом, и недовольство своим собственным положением.
События празднично начавшейся и трагически завершившейся ночи лучше всего описаны у Хареса, который в качестве гофмейстера наблюдал всю сцену собственными глазами. Его рассказ утрачен, но он лег в основу повествования Плутарха. Нам кажется справедливым, что современные исследователи предпочитают Плутарха. Мы также будем опираться на него в нашем рассказе [235]235
Plut. AL, L–LI.
[Закрыть].
Сперва представим гостей. Прежде всего здесь были личная охрана царя и высшие военачальники. Люди дельные, отчаянные смельчаки в бою, гордые своими заслугами. Те, что постарше, похвалялись участием в сражениях еще при Филиппе; молодежь гордилась своими подвигами в походах Александра. Среди них были и ворчливые «медведи», и алчные «волки», и хитрые «леопарды». А какое разнообразие греков, как бы отражавшее всю пестроту представителей этого народа. Здесь были и способные военачальники, и опытные чиновники, и, конечно же, краснобаи-лицемеры, шутники и льстецы. Именно эти последние и нужны были царю за ужином: это они приносили с собой остроумие и обаятельные шутки, превращая попойку в симпозиум и придавая ей необходимый блеск. Хитрые лисы и насмешливые сороки, они всегда знали что-нибудь новенькое. Их преимущество заключалось в том, что они не говорили постоянно о собственных подвигах (правда, они этих подвигов и не совершали); они говорили о деяниях царя и с восторгом грелись в тучах его славы. Александр не мешал им и милостиво выслушивал их. Наконец, здесь присутствовали и иранцы, потому что нельзя было обойти их приглашением. Среди македонской грубости и эллинской болтовни они вряд ли чувствовали себя уютно. Трудности начинались уже с языка, но особенно загадочными казались им литературные, мифологические примеры и отрывочные фразы какого-то Еврипида, которого на диво хорошо знали даже македонские рубаки, почитавшие его словно своего национального поэта. Персам оставалось вести себя сдержанно; видимо, именно поэтому источники о них не упоминают.
Вот каково было это общество гетайров и «царских гостей», которое собралось теперь в маракандской крепости. Была осень 328 г. до н. э., Клит не так давно получил свое новое назначение.
Выпито было уже порядочно. И вот когда вино разгорячило гостей, Эрида бросила среди них яблоко раздора. Сначала речь зашла, кажется, о Диоскурах и Геракле, деяния которых льстецам представлялись ничтожными по сравнению с успехами Александра. Царь одобрял высказывания такого рода, так как их распространение позволяло ему требовать от войска крайних усилий. Эта лесть являлась для него существенной частью моральной подготовки армии к дальнейшим действиям. Однако недовольным македонским патриотам грубая лесть не понравилась настолько, что Клит, и без того обозленный, высказал в конце концов прямое неодобрение [236]236
Arr. IV, 8, 1 и сл.; ср.: Curt. VIII, 1, 19.
[Закрыть].
Впрочем, нам точно известно, что прямой повод к ссоре появился позже: им послужили насмешливые куплеты греческих стихоплетов, намекавшие на поражение македонского вспомогательного корпуса при Политимете. Царь и сам был причастен к этому поражению, потому что именно он выделил недостаточно крупные соединения и не позаботился назначить толковых военачальников. Поэтому, видимо, ему нравилось, что в неудаче винили только военачальников, участвовавших в этом деле. Но ведь они сражались до последнего и все пали смертью храбрых, так что нельзя не подивиться тому, как Александр допустил, чтобы грек-куплетист насмехался над памятью этих людей. Должно быть, причиной послужило крепкое согдийское вино: это оно примирило царя с неподобающими шутками.
Военачальники постарше начали шуметь. Они громко выражали неудовольствие и сочинителем и певцом. Несмотря на это, захмелевший царь вместе с послушными ему друзьями ободряли грека и просили его продолжать.
Это задело Клита. Признанный смельчак, самый безупречный из всадников, он счел необходимым защитить честь павших товарищей.
– Недостойно во вражеской стране, среди варваров смеяться над македонянами, которые и в беде выше греческих шутов.
Александр и трезвый не терпел никаких возражений, теперь же обозлился сильнее обычного. Уязвленный, он уже не разбирал слов и хотел одного: уязвить в ответ.
– Сам себя изобличает тот, кто называет трусость бедой.
Обвинить в трусости человека, спасшего его в пылу боя, было чудовищно. Возмущенный до глубины души, Клит, вскочив, ответил безрассудному царю:
– Не этой ли трусости, отпрыск богов, обязан ты своим спасением в тот час, когда ты уже повернулся спиной к персидским мечам? Только кровь македонян и эти вот рубцы сделали тебя, Александр, тем, чем ты являешься сейчас, когда напрашиваешься в сыновья Аммону и отрекаешься от твоего отца Филиппа.
Ответ был злой; необоснованный упрек в трусости возвращался к Александру. Но Клит задел тут и святая святых царя – его мистическое причисление к сану богов. Теперь ни тот, ни другой не могли остановиться. Царь с ожесточением спросил:
– Негодяй, ты думаешь, мне приятно, что ты всегда безнаказанно ведешь такие речи и призываешь македонян к неповиновению?
На что Клит ответил:
– Мы и без того достаточно наказаны за наши усилия. Позавидуешь мертвым, которые не видели, как македонян бьют мидийскими розгами и как им приходится обращаться к персам-придворным, чтобы получить доступ к тебе.
Теперь уже Клит коснулся того, что запрещалось строго-настрого: критиковать мероприятия, служившие политике слияния народов. Тут вмешались сотрапезники. Приближенные царя резко осадили Клита, между тем как старшие благоразумно старались погасить ссору. У Александра была даже минута отрезвления, когда он отвернулся от Клита и с горькой иронией обратился к двум грекам, сидевшим поблизости от него:
– Эллины должны чувствовать себя среди македонян, как полубоги среди хищных зверей, не правда ли?
На этом ссора могла бы прекратиться, однако Клит решил воспользоваться моментом и высказать все, что у него накипело на душе. Долго сдерживаемые слова хлынули из его нетрезвых уст.
– Царю, конечно, незачем стесняться, пусть он говорит что вздумается, но пусть знает, что не стоит ему приглашать к своему столу свободных и привыкших к свободным речам людей. Ему лучше жить среди варваров и рабов, которые будут падать ниц перед его персидским поясом и персидской одеждой.
Дольше царь не мог сдерживаться. С неудержимой яростью он метнул в Клита яблоком, и рука его стала искать кинжал. Нож, однако, кто-то позаботился убрать подальше. Рука нащупала пустоту. Между тем приближенные окружили Александра и осторожно старались удержать его от необдуманного поступка. Их поведение придало его мыслям неожиданное направление. Оружие украдено, он окружен. Не то же ли было с Дарием, когда Бесс напал на него? Опасность! Охваченный неожиданным страхом, Александр позвал стражу и велел дать сигнал большой тревоги [237]237
Plut. Al., LI, 6; ср.: Arr. IV, 9, 1; Curt. VIII, 1, 28 и сл.
[Закрыть]. Поскольку трубач медлил, царь бросился на него и стал избивать.
Благоразумные придворные воспользовались этой минутой, чтобы силой выставить упиравшегося Клита из зала. Птолемей, сохранивший ясную голову, вывел его за пределы крепости и только после этого вернулся. Оставшись один и еще больше захмелев от ночного воздуха, Клит вбил себе в голову мысль, совершенно его захватившую. Ему вспомнились стихи Еврипида, которые так подходили к моменту и так метко били по Александру. С упрямством пьяного он вернулся во дворец, миновал стражу и оказался снова перед царем. Направляясь к нему, он наглым тоном прочел стихи из «Андромахи», в которых говорится о самомнении владык, приписывающих себе победы, одержанные другими: «Какой дурной обычай есть у эллинов…» [238]238
Eurip. Androm., 693.
[Закрыть]. Тогда, не владея собой, Александр выхватил у стражника копье и пронзил им Клита.
Кровь и молчание окружавших отрезвили царя. Он понял, что совершил. Вырвав копье из тела Клита, он направил его на себя. Копье отняли у него силой. Мертвого унесли. Всю ночь и последующие дни Александр провел в раскаянии. Его терзал стыд, он искренне жалел былого товарища, а еще больше – свою добрую Ланику, которую собственной рукой лишил любимого брата. Но горше всего было сознание того, что он поступил не по-царски. Александр, ощущавший себя почти богом, стыдился теперь показаться на людях. Он вновь занялся делами только после того, как войсковое собрание услужливо вынесло решение, что царь действовал справедливо, в столкновении виноват сам Клит и в этом ужасном деле вообще были замешаны сверхъестественные силы. Это произошло под влиянием Диониса, грозный облик которого известен по «Вакханкам» Еврипида, а также по таинственному воздействию вина на души людей. Александр действовал по воле Диониса, а Клит пренебрег предзнаменованиями – все это можно считать проявлением воли богов.
Не следует, однако, думать, что раскаяние Александра привело к изменению его политики. Александр был неумолим, и всякое сопротивление только ожесточало его. В гибели Клита он усматривал нечто символичное. Конечно, гнев и опьянение Александра сделали свое дело. Но создается впечатление, что в своем возбуждении Александр лишь утратил выдержку, а из глубины его души поднялись инстинктивные, стихийные силы. Возможно, даже само раскаяние Александра выражало охвативший его ужас перед бездной, таившейся в его душе. Как бы то ни было, царь продолжал стремиться к осуществлению своих целей с еще большей настойчивостью. Александр считал себя выше людей, выше их прав и обязанностей. Клит не просто упрекнул царя. Он высказал самое сокровенное желание Александра, по поведению которого уже можно было догадаться о его ближайших планах. Пройдет всего несколько месяцев, и царь потребует, чтобы приближенные приветствовали его коленопреклонением. Он хотел слыть среди всех вершителем мировых и человеческих судеб. О том ожесточенном сопротивлении, которое вызовет это новое, столь важное для царя требование, будет рассказано в следующем разделе.
ОБРЯД КОЛЕНОПРЕКЛОНЕНИЯ
С самой смерти Дария политика Александра была направлена на пробуждение разнообразных сил Востока, поскольку ему это было необходимо для создания будущей империи. Идея империи, тесно связанная с личными устремлениями царя, привела к тому, что в придворный ритуал стали проникать восточные элементы. Мы уже писали выше, что Александр стал надевать персидские одежды и ввел персов в охрану дворца. По-видимому, к нему перешел и гарем Великого царя, хотя он и не воспользовался своим приобретением. Даже способ, каким его теперь подсаживали на коня, был заимствован у персов [239]239
Diod. XVII, 77, 4 и сл.; Curt. VI, 6, 8; Arr. IV, 13, 1.
[Закрыть].
Александр вообще чувствовал склонность к образу жизни персидских владык, и при всей своей простоте и осторожности у него становилась заметной склонность к деспотизму. Она была еще сильнее из-за того, что ей способствовали также необузданный темперамент, исключительная самоуверенность и властная натура Александра. Царь и наказания стал заимствовать с Востока: он широко применял порку, а в отношении местных жителей не гнушался даже членовредительством.
Среди мероприятий, направленных на ориентализацию, оказалась и попытка Александра ввести для своей свиты проскинезу, т. е. принятый в Персии обряд коленопреклонения перед владыкой с последующим поцелуем. Затею эту нельзя считать лишь гротескной и чисто подражательной.
Однако сначала несколько слов о смысле проскинезы на Востоке. Больше чем кто-либо жители Азии до самого последнего времени склонна были страстно и даже с каким-то восторгом подчеркивать различие между высшими и низшими. При этом согнутая спина вовсе не означала отказа от чувства собственного достоинства, не была признаком рабства, а скорее лишь формулой вежливости. Человек «принижал» себя, отвечая правилам «хорошего тона»: преклоняющий колена выражал одновременно свое достоинство и страстное желание засвидетельствовать свое уважение и преданность. Требование определенной дистанции между высшими и подданными шло не от высших, а сами подданные выражали таким способом свое отношение; ни о каком насильственном унижении не могло быть и речи. Да и не нужно было никакого принуждения там, где выражался своего рода стихийный порыв: поклоняющийся сам возвышался в акте поклонения и оказывался причастен к тому величию, перед которым благоговейно склонялся. Подобная логика не ограничивалась одним Востоком, но там она была особенно ярко выражена и последовательно осуществлена как в политической, так и в общественной сфере. Неудивительно поэтому, что тут не возникла мысль о властителе как «первом среди равных», и там, где не было панибратства, на проскинезу решались без труда. Ведь счастье лично предстать перед царем от этого становилось еще более полным.
Вот как надо понимать персидскую проскинезу, принятую у Ахеменидов еще при Кире. При этом поцелуй отвечал, кажется, иранской традиции, а падение ниц – древневосточной, пришедшей через Вавилон и Ассирию из Египта. Этот заимствованный из разных стран ритуал у персов должен был означать величие царя. С его обожествлением ритуал этот не имел ничего общего. Как мы уже подчеркивали, ни в Персии, ни в Нововавилонском царстве, ни в Ассирии царя не обожествляли; более того, во всей Передней Азии в течение целого тысячелетия не было необходимых для этого предпосылок. Правда, владыки считались любимцами богов, их благочестивыми избранниками и жрецами.