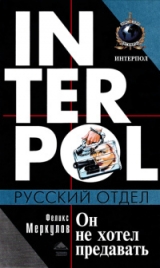
Текст книги "Он не хотел предавать"
Автор книги: Феликс Меркулов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
Мыл посуду, ишачил грузчиком, неплохо овладел английским – языком, далеким от оксфордского, но для общения сходило. Зарабатывал восемь фунтов за смену плюс питание – по его тогдашним представлениям, огромные деньги! Обитал в дешевой эмигрантской гостинице, по сравнению с совковыми общагами – почти комфорт, если бы не соседи-арабы. Вот когда на своей шкуре прочувствовал, что «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись», а он – русский – тяготеет все же к Европе. Арабские представления о гигиене: в каждом сортире вместо рулона привычной туалетной бумаги – бутылка с водой. Поначалу он не врубался. Пару раз, наткнувшись и опрокинув бутылку, выставлял ее за дверь, но бутылка появлялась снова. Потом объяснили: это вместо туалетной бумаги, средство личной гигиены. Его перекорежило – сколько раз он пожимал соседям руки!
Но как не подать руки?
На него тоже смотрели как на дикаря: как можно протягивать гостю чаи левой рукой?! Левой – не правой. Значит, не уважаешь…
Восток – дело тонкое…
Но ведь он же не на Востоке! И, одурев от его избытка. Гольцов выходил подышать Европой – в бар, где у официантки зеленые кошачьи глаза и медные проволочные кудри… Жене он старался регулярно звонить, хотя понимал, что телефон прослушивают. «Экономь деньги!» А он тосковал по ней, как щенок, оторванный от теплого материнского живота. Наверное, никогда – ни раньше, ни потом – он так крепко не любил жену, как в то время, когда встречался с Ройзен. И как только стало возможным вернуться в Россию, он собрался моментом, в один день, и уехал без сожалений, без объяснений, не простившись. Ему казалось, что ему нечего Ройзен сказать.
Что говорить? Как в песне Челентано: «Чао, бамбино, сорри…»?
И оттого что Георгий никогда никому о ней не рассказывал, образ Ройзен спустя годы остался непотускневшим. Хотя он знал, что в его теперешней тоске по ней огромная доля тоски по самому себе прежнему и по своей прежней любви к жене.
Из-за чего стреляются в двадцать шесть лет? Из-за любви.
«И я бы мог?»
«Да, мог бы», – не дала соврать совесть.
Яцек тихо захрипел голосом Высоцкого:
У наших могил нет заплаканных вдов,
И дети на них не р-рыдают,
К ним просто приносят букеты цветов
И вечный огонь зажигают!
– Однако не вижу ни заплаканных вдов, ни вечного огня, – мрачно пошутил он, трогая острые пики чугунной ограды. – Хотя все остальное по высшему разряду. Шикарно хоронят в нашем ведомстве, а, Гольцов? Ты уже думал о том, что благодарные потомки напишут на твоем памятнике?
– Нет.
– Тебя оденут в серый гранит, – с чувством произнес Михальский. – Суровая мужественность гранита тебе к лицу. На твоей плите будет высечено: «Бонд, запятая, Джеймс Бонд». И ни слова больше.
– Ну спасибо.
Гольцов постучал по деревянной скамейке, спросил:
– А себе что напророчишь?
Яцек взмахнул руками, как птица крыльями.
– О, меня вполне устроит что-то скромное…
– …Что-то беломраморное, – язвительно уточнил Георгий.
– Что-то скромное, – настоял на своем Михальский. – И мелким шрифтом неброская надпись: «Яцеку М. – благодарное человечество». Смерть, между прочим, придает осмысленность человеческой жизни. Если бы смерти не было, жизнь была бы бессмысленной.
Этот цинизм Михальекого иногда был просто необходим, как необходим, к примеру, рыбий жир: отвратительно, но укрепляет кости скелета, не давая прогнуться под тяжестью жизненных катастроф.
А вот покойному цинизм не был свойствен. Ни в малейшей степени, ни при каких обстоятельствах. Он пропускал сквозь себя чужие эмоции как стекло: сочувствовал, огорчался, радовался, сопереживал, но при этом оставался самим собой, не теряя внутренней цельности.
– Скажи тогда, раз ты такой умный, какой смысл в смерти этого парня?
– Во-первых, я неумный, – ответил Яцек. – Во-вторых, ты его лучше знал.
– Вот именно. Потому и не вижу никакого смысла в его смерти.
Георгий усмехнулся:
– Обычный, нормальный парень, как ты да я. Без отклонений в психике, не истерик, не психопат, с таким я лично хоть в разведку.
– У всех свои тараканы в голове, – заметил Яцек.
– Да, у всех, но не все стреляются!
– Согласен.
– Тогда почему?
– А почему один спивается, другой нет? Нервы покрепче? Пофигизма больше? Совесть не мучит или, наоборот, живет по совести и спит спокойно? Хотя таких я, честно говоря, не видел. Не знаю, Гошка, не знаю! Это из разряда вечных проблем. А я недостаточно пьян, чтобы спорить о смысле жизни.
– Еще по одной? – предложил Георгий.
– Давай.
В это время в конце аллеи появились люди. Мужчина вел под руку пожилую даму в черной шляпе. Дама двигалась осторожно, как человек, выздоравливающий после тяжелой болезни. Рядом с ними шла девушка в темпом пальто, она несла букет белых роз.
– Кажется, гости к нашему покойнику, – заметил Яцек, и не ошибся.
Это были Малышевы. Не в силах привыкнуть к жизни без сына, они бывали «у Юры» почти каждый день.
Никогда и никого они не встречали у его могилы, а сегодня – вот неприятность! – какие-то жлобы, хоть и приличные с виду, не нашли лучшего места, чтобы «раздавить» бутылку водки, как это у них говорится.
Вероника Николаевна занервничала в ожидании неизбежного в таких случаях скандала. Андрей Виссарионович не выдержит, заведется, и неизвестно еще, как все обойдется. Господи, какая пошла страшная жизнь! Даже на кладбище нет покоя…
Третьей с ними была Ольга, Юрина девушка, на которой Юра собирался жениться, что делало ее сейчас человеком если не родным, то очень близким.
Ольга тоже рассматривала мужчин, стоявших у знакомой ограды с пластиковыми стаканчиками в руках, с неприязненным любопытством. У одного, рослого и плечистого, физиономия совершенно бандитская: бритая голова и очень смуглая кожа. Другой ничем особо не выделялся, разве что одет как-то уж слишком для алкаша прилично. Да разве сейчас отличишь по внешнему виду приличного человека от отморозка?
К счастью, «отморозки» сообразили, что заняли неудачную позицию, и ретировались, забыв на бордюре аллеи недопитую бутылку. Оля покосилась на Веронику Николаевну. Юрина мать заметно успокоилась. Слава богу, кажется, обошлось без скандала…
Они поравнялись с чугунной оградой. Андрей Виссарионович специально задел носком туфли водочную бутылку, и она заскользила по каменной плитке аллеи с режущим нервы, дребезжащим звуком. Взглядом победителя Андрей Виссарионович окинул коротко стриженных парней и громко заметил: «Нашли место!..»
– Не связывайся, – умоляюще одернула супруга Вероника Николаевна.
Юрин отец открыл калитку в ограде своим ключом. У подножия памятника лежали свежие цветы. Чужие… Оля внутренне содрогнулась. Кто?! Неужели та, другая, которая разлучила их с Юрой? Букет совсем свежий, белый гофрированный креп не успел испачкаться, на цветах остались капельки влаги.
Ольга резко огляделась по сторонам, ожидая увидеть загадочную разлучницу. Но поблизости не увидела никого постороннего, кроме ретировавшихся незнакомцев.
Георгий никак не ожидал встретить сегодня родителей лейтенанта и теперь пребывал в нерешительности: стоит ли подойти, поговорить, или лучше тихо уйти, сохраняя инкогнито?
Яцек вопросительно взглянул на друга: ну что? уходим?
Неожиданно девушка в темном пальто сама подошла к ним:
– Простите, это случайно не вы цветы принесли?
– Мы, – ответил Георгий.
– Вы знали Юру?
– Мы вместе работали.
– Где?
– В Интерполе.
– А!
Девушка кивнула и, вернувшись к родителям Малышева, о чем-то с ними заговорила. Судя по реакции, вряд ли она их обрадовала своим сообщением. По лицу Юриной матери пробежало темное облачко. Ни слова не говоря, она отвернулась, опустилась на скамейку.
– Я подойду, – сказал Георгий.
Яцек засомневался:
– Стоит ли?
– Я подойду.
Он решительно подошел к Малышевым:
– Здравствуйте. Это я вам сегодня звонил. Примите мои соболезнования. Я понимаю, как вам больно.
Он протянул руку Малышеву-отцу. Тот сделал вид, будто не замечает протянутой ему руки. Вероника Николаевна, сглотнув комок, прошептала:
– Вы ничего не понимаете…
– Да, – повернувшись к ней, согласился Георгий, – вы правы. Я ничего не понимаю, но от всей души вам сочувствую. Юра был замечательным человеком и, наверное, таким же замечательным сыном. Если нам больно потерять его как товарища, то каково же вам?..
Отец Малышева поднял с земли принесенный Гольцовым букет, с яростным хрустом стал комкать бумажный креп и целлофановую обертку вместе с цветами, словно вымещая на них накопившуюся злость.
– Нам от вас ничего не нужно! Ничего! От вас! Не нужно! Запомните это навсегда!
На землю осыпались листья и лепестки цветов. Малышев-старший с сердцем швырнул цветы в урну для мусора.
– Ни от вас, ни от вашего иуды Полонского! – выкрикнул он, вызывающе глядя на Гольцова. – Так ему и передайте!
Казалось, он ждет, чтобы ему набили морду, и разочарован неожиданным спокойствием врага.
– Это не вам. Это Юре, – сказал Георгий.
Лицо Малышева исказилось.
– Не нужны моему сыну ни вы, ни ваши цветы, ничего ему от вас не нужно! Это наша беда, наша боль, а вы здесь зачем? Водку пить? Больше выпить негде? Забирай свою бутылку и катись, гаденыш, чтобы я тебя здесь не видел!
Обычно вскипавший при малейшем ущемлении самолюбия, сейчас Георгий не чувствовал ни злости, ни желания оправдаться. Пусть его! Несчастный старик… Выговорится – легче станет. Наверное, он бы не разозлился, если бы даже отец Юры набросился на него с кулаками.
– Зачем вы так? – только и сказал он.
– Вы отняли у меня сына, вы и такие, как вы, и еще спрашиваете – зачем?!
– Я не знаю, что вы имеете в виду. Я только хотел сказать, что разделяю вашу боль…
– А я говорю: убирайся со своей холуйской демагогией! Хватит заливать, хватит! Я не этот двадцатилетний мальчик, – Малышев потряс указательным пальцем в сторону памятника, – который поверил в красивые слова, красивые идеалы. Вы поломали ему жизнь, вы изуродовали его, понимаете вы это или нет? Вы его погубили, и у вас еще хватает совести приходить на могилу, соболезновать семье? Какая чудовищная наглость! Что прячете глаза? – злорадно воскликнул Андрей Виссарионович, заметив жест Гольцова. – Стыдно? Бросьте, холуям стыдно не бывает. Идите, холуйствуйте дальше, а нашу семью оставьте в покое! Больше у нас отнимать нечего!
Мать Юры сидела молча, обхватив голову руками. Девушка в темном пальто кусала губы.
Георгий вспомнил солдатских матерей, встречавших гробы из Буйнакска. Они набрасывались с воем и проклятиями на всех стоявших поблизости офицеров. Даже на тех, кто вытаскивал тела их погибших сыновей из-под обстрела. Кто, рискуя быть сбитым, в вертолетах перевозил тела в Буйнакск, чтобы их могли опознать и похоронить, а не просто «зарыть в шар земной», что очень пафосно звучит, но очень подло выглядит в реальной жизни.
– Простите, – сказал Георгий. – Не продолжайте. Мы уже уходим.
Яцек, не вмешиваясь в разговор, прогуливался поодаль. Когда Гольцов поравнялся с ним, он не выдержал, съязвил:
– Что, сходил в народ?
– Отвали.
Яцек не обиделся, хотя ему вовсе не был чужд, как он говорил, панский гонор. Панский гонор имел порой место быть, но, кроме всего прочего, Яцек еще умел по-настоящему быть другом.
В молчании они возвращались к выходу с кладбища, когда сзади послышался стук каблучков и девичий голос окликнул их:
– Подождите! Пожалуйста, подождите!
Девушка подбежала к ним. Запыхавшись, произнесла:
– Подождите. Я хочу извиниться.
Георгий с Яцеком переглянулись.
– Извиниться? За что? – сказал Георгий. – Ничего не произошло. Все в полном порядке.
– Да, все нормально, – подтвердил Яцек.
Девушка закинула на плечо сползающий ремешок сумочки.
– Нет, то, что произошло сейчас, несправедливо. Ужасно! Андрей Виссарионович наговорил ерунды. Он стал невыносимым, с тех пор как умер Юра. Себя мучит и всех измучил. Простите его, не принимайте его слова на свой счет.
– Это он вас послал? – спросил Георгий.
– Он? Нет, конечно. Это Вероника Николаевна, Юрина мама. – Девушка вспыхнула, словно невольно проговорилась о том, о чем ее просили умолчать, и постаралась исправить оплошность: – Но я бы и сама… Простите, так уж вышло. На самом деле Вероника Николаевна рада, что вы пришли. Она мучилась от мысли, что ее сына все забыли. Почему никто из вас не приходил к Юре раньше?
В голосе девушки, во взгляде темных глаз под строго сведенными бровями было горестное недоумение.
– Вы очень хорошие слова сказали про Юру, – обратилась она к Гольцову, откидывая непослушную челку со лба. – Вы были его другом?
– Не таким близким, как хотелось бы, – ответил Георгий.
– У всех у нас такое же чувство, у всех, кто близко знал Юру. Он был таким человеком, которого до конца узнать невозможно. Я знаю, некоторых это отталкивало. У него было мало друзей, но были люди, которые его любили… Вот вы, сразу видно, его любили.
– И вы, наверное, тоже?
Девушка просто кивнула: да.
Они стояли посреди аллеи. Начал накрапывать дождь. Георгий рассматривал подругу Малышева: красивая, серьезная… Когда она смотрела на свет, ее темные глаза становились золотистыми, как густой гречишный мед.
– Вы уже уходите? – спросила она.
– Да, – кивнул Георгий. – А вы?
– Пожалуй, я тоже пойду. Не хочу туда возвращаться. Когда вы ушли, они стали ссориться. Как всегда… Постороннему присутствовать при этом тяжело. Не понимаю! Два самых близких Юре человека, каждый его по-своему любил, а почему-то общее горе их не сблизило, а только разделило.
Они медленно пошли по аллее к выходу.
– Скажите, почему Юра уволился с работы? – неожиданно спросила девушка.
– Не знаю, – честно ответил Гольцов. – Просто взял однажды и уволился.
– Юра не делал ничего просто так, – сказала она, задумчиво глядя себе под ноги.
– Простите, я не спросил, как вас зовут…
– Меня? Ольга.
– Георгий.
Яцек, не вмешиваясь в разговор, молча шел рядом, но Гольцов знал, что он не упускает ни одного слова.
– Вы были его невестой?
– Была.
Ольга опустила голову. Темная челка упала на глаза.
– Мы с Юрой встречались три года и расстались несколько месяцев назад, – сказала она, поправляя на плече сумочку. – Его родители не в курсе. До того как Юра умер, я не считала нужным им рассказывать. Я так долго числилась в невестах, что привыкла считать Веронику Николаевну своей свекровью. А теперь… Теперь тем более не могу ничего им рассказать. Как-то двусмысленно получается, да? Мы расстались, и Юра покончил с собой. Логично подумать, что из-за меня. Хотя на самом деле инициативу в нашем разрыве проявил он.
– Что-то случилось?
– То, что обычно: появилась другая. Юра был такой человек, он не мог долго скрывать, лгать. Однажды он просто сказал: «Между нами все…» И вернул мне свой билет – мы должны были вместе куда-то пойти, я купила билеты, – он вернул мне билет и сказал, что я могу вместо него пригласить кого-нибудь другого…
Ольга вытерла набежавшие на глаза слезы. Голос ее сорвался в хрип.
– Порой мне хочется отыскать ее. Узнать, кто она. Увидеть ее своими глазами. Знаете, что бы я сделала, если бы ее нашла? – Во взгляде Ольги загорелся мстительный огонь. – Если бы я ее нашла, то за волосы приволокла бы на Юрину могилу и колотила, колотила башкой о постамент: смотри, любуйся, что ты наделала… Потому что, я уверена, Юра застрелился из-за нее. Это она довела его. Понимаю, нельзя винить человека, если он кого-то не любит. Но тогда почему она сразу прямо не сказала ему: нет! Юра очень искренний, прямой человек, он бы все понял, смирился, переболел, перемучился – но это было бы лучше. Нет, она его держала при себе, не любила, но держала, как вещь… Может, вам тяжело представить, как такое возможно, но женщине легко понять другую женщину, у нас одинаковые змеи в сердце живут. Она его не любила и в то же время держала при себе, не отпускала. Он истерзался весь, я это видела. Это она виновата в его смерти!..
Гольцов и Михальский смотрели вслед уходящей девушке в темном пальто.
– Ну что скажешь? – первым нарушил молчание Георгий.
– А что я должен сказать?
– Ты ей веришь?
– В смысле?
– В смысле «шерше ля фам». Что здесь замешана женщина?
– Я верю, – кивнул Михальский. – А ты что, нет?
– Не знаю. Застрелиться из-за бабы?!
– А чем тебя не устраивает такое объяснение?
Георгий молчал.
– Что, для тебя это недостаточно веская причина?
– Лично для меня – нет, – сухо ответил Гольцов, глядя в сторону.
Михальский посмотрел на друга, хотел сострить в ответ, но вовремя вспомнил, что в доме повешенного не говорят о веревке. Больное место Гольцова – его семейные неурядицы – не тема для дружеских подначек. Он посмотрел на часы.
– Слушай, Гошка, мне пора бежать. Дон Горец Альварец Быстрый ждать не будет.
Георгий понял, что он имеет в виду кубинца.
– Я вспомнил этого подполковника Карпентера. Сволочь. Тебе он нужен?
– Не знаю, пока думаю.
– Не верь ему.
– Ты же знаешь, Гольцов, я никому не верю, – сказал Яцек и, выдержав паузу, добавил: – Кроме тебя…
– И на том спасибо, – усмехнулся Георгий.
– Так ты едешь или нет?
– Нет. Побуду еще немного.
– Только не мучься над вечными вопросами жизни на трезвую голову, понял?
– Ты что советуешь мне, напиться?
– Не совсем так. Советую не пить в одиночестве. Я свободен после семи. Звони!
Глава вторая
Зеленые глаза беды
1
Когда журнал «Форбс» включил фамилию Завальнюка в список «Сто самых богатых людей России», ее обладатель пережил нечто вроде кризиса среднего возраста. Так уж случилось, что за шумом жизненных битв сорокалетний миллионер – основатель холдинга «Угра» – Егор Ильич Завальнюк так и не успел расслышать нежный шепот любви, первый лепет ребенка, зов бескорыстной дружбы… Вскарабкавшись на вершину мира, он вдруг с разочарованием увидел, что стремиться, кроме как вниз, больше некуда, а неутоленная жажда получить все то, чем обделила жизнь в юности, в до отказа заполненной делами зрелости, с каждым днем нарастала, требуя неких сильных решений.
И ключиком к таким решениям оказался Стас Беняш. Литсекретарю Завальнюка отводилась роль Санчо при Дон Кихоте и Лепорелло при Гуане, хотя на самом деле он, скорее, исполнял роль блудного сына, которого у Егора Ильича на самом деле никогда не было.
Нельзя сказать, чтобы эти двое понравились друг другу с первого взгляда. Некоторое время литературный секретарь был для хозяина всего лишь «странной игрушкой безымянной», безличным существом, про кого в очереди говорят: «Я вон за тем мужчиной в пальто». Впрочем, в день их встречи он был вовсе не в пальто. Это был молодой человек в голубых вельветовых брюках, который сидел в кожаном кресле, по-ребячьи болтал ногой, и на острых носах его лакированных туфель играли отсветы пламени в камине.
Стас Беняш очутился в загородном имении Завальнюка в Жуковке специально ради интервью с хозяином. Был понедельник, а уже в четверг интервью кровь из носу должно было появиться в журнале, с которым Стас в ту пору сотрудничал. Его редакторша месяц договаривалась и утрясала время и дату интервью, но в конце концов произошло именно то, чего больше всего не любят в своей работе репортеры: все в сборе, а персона грата неожиданно заявляет, что у нее внезапно изменились планы и сегодня интервью не состоится. И чего ради, спрашивается, они перлись в тмутаракань, в Жуковку, когда Стас мог бы сидеть в теплой квартире перед своим любимым «ньютоном» и писать заметку о доме Майкла Джексона на острове Сен-Мартен в Антильских Нидерландах? Там поп-звезда и домище на берегу залива с пеликанами, а тут какой-то Завальнюк и какая-то Жуковка. Как говорится, что он Гекубе, что ему Гекуба? Сижу и плачу…
Фотограф и редакторша из отдела оформлений рассредоточились по усадьбе в поисках диковинок, достойных внимания своих читателей. Хозяин дома, не обращая на Стаса ни малейшего внимания, перебирал бумаги на своем столе. Глядя в лицо Завальнюка, лишенное всякого выражения (если не считать сосредоточенно сдвинутых бровей), репортер думал: «Вот передо мной тип, которому неведома мучительная проблема выбора. Он всегда знает, как следует поступить и что для него на первом плане, что на втором, а что на последнем… Ничего против не имею, вообще-то я даже уважительно отношусь к таким людям, если бы не одно «но»: в данный момент для него на последнем месте нахожусь именно я со всеми своими мелкими и незначительными (по масштабам глыбищи Завальнюка!) личными интересами».
И от этих мыслей Стасу захотелось вывести «радушного» хозяина из равновесия. Словом, в кабинете миллионера Завальнюка назревал «бунт «маленького человека».
Метод для своего бунта Стас выбрал неоригинальный, хрестоматийный. Зацепившись взглядом за первое попавшееся – за картину в багетной раме, висевшую за спиной хозяина, молодой человек в голубых вельветовых брюках задиристо спросил:
– Что это за мазня там у вас за спиной?
Завальнюк всем корпусом по-медвежьи грузно развернулся в кресле. Несколько секунд Завальнюк смотрел на картину, затем, мельком взглянув на репортера, занял прежнее положение. Хотя теперь он все так же перебирал бумажки, но видно было, что тон вопроса его покоробил.
– То есть я хочу сказать, что на измайловском вернисаже подобной халтуры навалом, – нагло продолжил Стас, – но если это память о вашем покойном обожаемом дядюшке, тамбовском живописце-самоучке, то миль пардон. Чувствуется влияние парижского модерна с примесью арт-нуво, но в провинциальном преломлении это звучит девственно-свежо, как девушки у пруда Борисова-Мусатова… Кстати, как вы относитесь к творчеству представителей русского модерна?
Завальнюк посмотрел на краснобая долгим взглядом, наверняка не предвещавшим ничего хорошего.
Не выдержав этого прищуренного, стального взгляда, Стас отвел глаза от его лица и переключился на дальнейшее изучение интерьера кабинета, не отказав себе в удовольствии разбомбить кабинет в пух и прах (в переносном значении), обозвав его купеческим гнездом и темным царством и ехидно заметив, что в углу не хватает только портрета предка – купца первой гильдии, написанного каким-нибудь ярославским богомазом.
Затем, не сбавляя темпа, он поделился сплетнями о распределении наград Русского Пен-клуба. Попутно вкратце пересказал содержание новой книги Эдички Лимонова, автора, как оказалось, абсолютно неизвестного Завальнюку. На бойкий вопрос репортера: «Читали?» – Егор Ильич буркнул: «Не слышал, нет»…
Засим он разругал Лимонова за претенциозность и заигрывание с плебсом и заявил, что слово «убогость» имеет слишком положительную окраску для того, чтобы употреблять его преимущественно к новому мюзиклу «Норд-Ост».
– Смотрели?
– Послушайте, сколько вы получаете в месяц? – перебив его, неожиданно задал не вполне тактичный вопрос хозяин кабинета.
Вообще-то вопрос нельзя было назвать неожиданным – Стас сам его спровоцировал.
Решив, что отныне он обречен искать место подметальщика в метро, Стасик хотел остановиться, но уже не мог: Остапа, что называется, несло. Мысленно простившись с насиженным стулом в редакции журнала и коллегами по перу, он назвал сумму, вполне соответствующую скромной должности репортера светской хроники, и с любопытством висельника стал ждать, что будет дальше.
И тут Завальнюк впервые его удивил, снизойдя до нормальных человеческих эмоций. Неожиданно улыбнувшись, Егор Ильич сказал, что ни купца первой гильдии, ни его портрета не существует, зато есть дагеротип 1863 года, который на стену вешать жаль – выгорает, поэтому семейная реликвия хранится под спудом.
– Завальнюки – польский дворянский род. Под Тобольском они очутились при Николае I за участие в вооруженном восстании. Кого расстреляли, кому-то удалось бежать за границу, а мой прадед после семилетней каторги осел в Тобольске. Работал земским врачом… Когда-нибудь я вам покажу его дагеротип.
Станиславу Беняшу впервые за многие годы репортерства стало стыдно.
– У меня к вам предложение, – сухо добавил Завальнюк.
Предложение оказалось по-деловому кратким: ему было предложено занять должность литературного секретаря господина Завальнюка с окладом, почти в два раза превышающим месячный заработок в журнале.
– При условии никогда не говорить со мной в подобном тоне, – добавил хозяин.
Придерживая рукой слегка отвисшую челюсть, Стасик все же нашел в себе силы ответить, что иным тоном разговаривать с людьми у него не получается. От дурной привычки дерзить старшим по званию его не отучили ни слезы матери, ни зуботычины армейского прапора, так что вряд ли это сделают тридцать сребреников Завальнюка.
Тот сдержанно усмехнулся и кивком выразил свое согласие терпеть литсекретаря таким, каким он уродился. Сунув руки в карманы, Стас поинтересовался, чем конкретно он должен заниматься в новом качестве:
– Писать за вас доклады о состоянии целлюлозной промышленности на данном этапе развития мировой экономики?
Завальнюк, продолжая усмехаться, спросил:
– Вы разбираетесь в вопросах мировой экономики?
– Ни черта! – гордо признался новоиспеченный литсекретарь.
– Тогда не садитесь не в свои сани. Доклады напишут и без вас. К четвергу составьте план культурной жизни Москвы. Когда и что происходит. Выставки, концерты, спектакли… Что стоит посетить. Что стоит почитать.
– Попса, классика, авангард? – деловито осведомился литсекретарь, делая быстрые пометки в блокноте. – Музыка, живопись, литература, театр? В каком жанре будем повышать культурный уровень?
Завальнюк на мгновение запнулся, и Стас с удивлением увидел, как этот большой во всех смыслах человек, огромный, тяжеловесный и сильный, может быть застенчивым и сомневающимся.
– Во всех, – наконец ответил хозяин.
Деньги как стимул давно утратили в его глазах свою ценность. Политических амбиций Завальнюк был начисто лишен, и слава богу! Семья… Все эти годы он привык задвигать семью на задний план – и добился своего: жена и дочь давно научились обходиться без него. На периферии мировых экономических катаклизмов они выстроили свой мирок и жили в нем своей мелкой, тихой, кухонной жизнью, не мешая отцу жить своей. Московская квартира и загородная резиденция были устроены ими на свой вкус и лад. Пока рабочий день Егора Ильича составлял десять-двенадцать часов, он этого не замечал, как не замечал и того, что дочь незаметно выросла, а жена постарела. За двадцать лет совместной жизни Егор Ильич настолько привык к облику подруги жизни, что не испытывал к ней никаких волнующих чувств. Случайные связи не заполняли пустоту, потому что были бессодержательны. Но и заполнить внутренний вакуум приобщением к великому и вечному оказалось делом непростым. Поначалу Стасу казалось, что Завальнюк вообще лишен каких-то эмоциональных переживаний. Бывают же люди, начисто лишенные музыкального слуха, про которых говорят, что им медведь на ухо наступил, или дальтоники, которым что на Сикстинскую мадонну смотреть, что на плакат «Не болтай!»
После двух-трех выходов с Завальнюком в свет литсекретарь даже возроптал на судьбу, решив, что Завальнюку медведь не то что на ухо, а на всю душу наступил и здорово по ней потоптался. Как в народной песне поется «убита дорожка каблучками», так у него «убита» душа, вытоптана, выжжена, и ничего на ней не растет и не всходит.
Тем не менее Стас составил ему культурную программу, и Егор Ильич начал обстоятельно, как все в своей жизни делал, «повышать культурный уровень».
Доповышался до того, что однажды Стас увидел, как этот человек плачет…
Они ездили в «Иллюзион» на итальянский фильм «Кинотеатр «Парадизо». Стас не сразу уговорил Завальнюка посетить кино – почувствовать разницу между фильмом, посмотренным по видео, и фильмом, увиденным на большом экране. Как раз незадолго перед тем между ними произошла баталия по поводу того, как отсматривать программную киноклассику: Егор Ильич настаивал на том, что будет смотреть фильмы дома на видео, в свободное от работы время, по методу: «Полчасика перед ужином, завтра досмотрю конец». Стас доказывал, что это так же неприемлемо, как питаться «Завтраком туриста» и уверять, будто знаешь вкус настоящего шницеля по-венски. И говорить не стоит, кто вышел победителем из баталии: Егор Ильич, кто же еще! Спорить с ним то же самое, что добровольно кинуться под танк, удовольствие не из приятных. Но на посещение «Иллюзиона» Завальнюк все же согласился – продемонстрировал снисхождение победителя к проигравшему.
Шеф не был в кино с той самой поры, когда еще студентом ухаживал за своей будущей женой. Оказавшись в зале, он почувствовал знакомое каждому с детства волнение: когда же погаснет свет? Фильм оказался длинный, и Стас запереживал, что история про маленького мальчика из послевоенного итальянского городка не удержит Завальнюка от дум о работе. Когда шеф ерзал в кресле, литсекретарь опасался, что сейчас он поднимется и по ногам зрителей попрется к выходу, – с него станется!
Наконец – финал. Знаменитый финал «Кинотеатра «Парадизо». Главный герой получает в наследство от старого киномеханика обрезки пленок со сценами поцелуев, вырезанных по соображениям морали из послевоенных кинофильмов. И вот, сидя в кинозале, герой смотрит фильм, склеенный из одних поцелуев, фильм со старыми, давно забытыми послевоенными кинозвездами, и жалеет о своей внешне успешной, но духовно загубленной жизни.
Стас осторожно покосился на Завальнюка, проверяя, не уснул ли шеф в кресле? Что-то подозрительно тихо он себя ведет, не пыхтит и не ерзает. И совершенно неожиданно для себя в отсвете экрана он увидел, что по щекам Егора Ильича бегут слезы.
По пути домой они молчали. Стас старался угадать, о чем шеф думает. Наверняка переживает собственный грустный опыт первой любви (у каждого есть такой опыт), и ему, как и главному герою фильма, кажется сейчас, что в своей жизни он не нашел самое главное. Нечто вечное, чистое, прекрасное и невинное, как поцелуи Греты Гарбо и Ингрид Бергман…
Когда Завальнюка не стало, Стасик не раз, думая о причине его трагической смерти, приходил к выводу, что тот вечер в кино в каком-то смысле определил ход дальнейших событий. И таким образом он сам стал невольным виновником и участником смерти своего хозяина Егора Ильича.
2
В галерее Марата Гельмана выставлялись работы питерской «Мастерской речников». Случай эксклюзивный. Обычно эти ребята выставляются в Роттердаме или в школе Баухауз, а их шедевры разбросаны по многочисленным клубам обеих столиц. Тимофея Арамова Стас знал лично, работы Тимы всегда ему нравились. Среди них по каталогу проходила «Любовь», которую Стас видел раньше на передвижной выставке в клубе «Титаник» и знал, что это – вещь. За качество остальных Тимофей ручался, и Стас уговорил Завальнюка поехать посмотреть, хотя предполагал, что шизофреническое творчество ребят в стиле low-tek дорогому шефу пока не по зубам.








