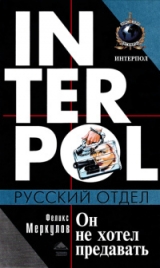
Текст книги "Он не хотел предавать"
Автор книги: Феликс Меркулов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
Теперь Георгий знал про полковника ровно столько же, сколько знал о нем прошедшей зимой Юра Малышев. Знал, что служака, что звезд с неба не хватал, по солдатским костям в генералы не выполз, хотя возможности такие представлялись. Перед пенсией дослуживал в 14-й армии под командованием генерала Лебедя в Приднестровье. Там и сошелся с генералом и уже в Москве вместе с ним некоторое время поиграл в большую политику. Потом генерал Лебедь поменял тактику, сменил мундир на итальянский костюм с галстуком, а бывших сослуживцев стал понемногу менять на гражданских лиц, привычных к кабинетным маневрам, что в общем и целом понятно: подковерная борьба и танковый бой не одно и то же. Хотя и обидно.
Полковник хлопнул дверью, заполз в свою нору. Сидел там, плюнув на всех. Остервенело грыз свои тридцать соток. Гордился тем, что знает, кто на самом деле правит в России. Слушал новости, любил за бутылкой собеседнику «раскрыть глаза» на то, «кто есть ху». Соседи его уважали.
Что еще раскопал про него Малышев?
Ничего в ночь аварии отставник не видел. Он вообще в свидетели не годился. К нему на объект, мягко говоря, ходила баба, и хотя сторож и прибежал на место аварии первым, но не за минуту, как можно было предположить, исходя из расстояния от вагончика до места аварии. Когда, услышав шум, полковник выглянул в окно и издали увидел, что произошло, он по-военному четко сориентировался. Поняв, что сейчас понаедут и станут разбираться, он сначала выпроводил из вагончика спою бабенцию и уже только после этого рванул на место происшествии. Значит, никого он видеть на шоссе не мог. Это первое.
Второе: то, что полковник рассказал Мочалову про потерянную визитку Лежнева, вообще оказалось враньем, – то сеть не совсем враньем: свидетелем ползаний Лежнева на коленках вдоль дороги был не сам отставник, а его напарник. Но каким причинам полковник приписал себе ого показания – трудно сказать. Можно лишь предположить, что напарник, как человек уже один раз отсидевший, с ментами ни за что на контакт бы не пошел, даже если бы видел своими глазами, как Лежнев фугас на дороге закапывает. Полковник ничем не рисковал: какая, по сути, разница, кто видел – он, другой? Главное – видел.
Можно еще предположить: полковник наверняка рассчитывал, что семья Завальнюка за ценную информацию может и раскошелиться. Тем более ему было вы годно завладеть монополией на бесценные сведения. Мочалов же поверил отставнику с первого взгляда, и к напарнику его с вопросами своими даже не совался. А Малышев, не будь дурак, съездил.
Но это все дела давно минувших дней, и не было в них Гольцову никакой пользы, петому что полковник в ответ на его разоблачения только презрительно усмехался. Когда Георгий попытался надавить на него сильнее, отставник рявкнул, что от своих показаний на суде не отказывается, что сказал – то сказал, и всякому дерьму отчитываться не собирается.
И понять, почему Малышеву удалось уложить отставника на лопатки, а ему это никак не удается, Георгий так и не смог.
На Троекуровское сегодня Гольцов приехал, как и полковник, при полном параде – хоть на кремлевский прием. Кроме прочих регалий на парадной форме Гольцова поблескивала медаль «За отвагу», полученная в Чечне. Идя по аллее к участку Малышевых, он слышал тихое клац-клац-клац в такт их шагам и замечал, как на них с полковником оборачиваются люди. Странное это ощущение, когда твоя трудовая биография вывешена на груди, на всеобщее обозрение. Вот взять, например, хирурга, если бы он…
– Так все-таки куда мы идем? – нарушил молчание полковник.
Георгий объяснил: два месяца назад здесь похоронили его сослуживца. Полковник с пониманием спросил:
– Чечня?
– Нет. Москва.
– Бандиты?
– Нет. Его ты убил.
Полковник дернулся всем телом, словно налетел на камень, обернулся на Гольцова.
– Выбирай выражения, – зло бросил он. – Кого это я убил?
Гольцов кивнул на мраморный крест в знакомой ограде, ответил:
– Вот его. Старшего лейтенанта Юру Малышева.
Отставник посмотрел на крест, побагровел и, сжав кулаки, двинулся на Гольцова.
– Слуш-шай, майор, – он сгреб Георгия за грудки, так что затрещала ткань, – не знаю, за какие такие дела ты цацками обвешался, но я тебе скажу: ни на земле, ни под землей никто не скажет, что полковник Кутепов виноват в смерти хоть одного русского офицера или солдата! Я на крови карьеры не делал и перед Богом чист. Слово офицера!
Георгий спокойно отвел его руку.
– Вот цена твоему слову офицера, – кивнул он на могилу Малышева. – Матери его хочешь в глаза посмотреть?
На скулах полковника заходили желваки.
– Я не одной матери в глаза смотрел!
Гольцов отпустил его руку:
– Что ж, гнида, живи и помни: ты помог убить русского офицера.
Удара Георгий не почувствовал, но в следующую минуту его подбородок занемел, как после укола в стоматологическом кабинете. Полковник потряс ушибленной рукой, с невольным уважением глядя на Гольцова. Тот спокойно поймал его руку за запястье, отвел в сторону и предупредил:
– В следующий раз сломаю руку.
Полковник усмехнулся.
– Ну знал я твоего лейтенанта, – с вызовом сказал он. – Ну и что? Хочешь знать, почему я на суде солгал? Этого я тебе не скажу. Это наше с ним дело.
Он кивком указал на крест.
– Малышев тебя попросил, я знаю, – ответил Георгий. – Малышев не одного тебя просил, а еще… пару человек.
Полковник нервно дернул щекой. Наверное, о существовании других он не догадывался. Гольцов продолжал:
– Я не знаю, почему ты согласился. Но те, другие, кого Малышев просил, те просто продались.
Отставник зверем посмотрел на Гольцова, но, помня об обещании сломать руку, от физических аргументов на этот раз воздержался.
– Полковник Кутепов не б…, собой не торгует! – И уже тише добавил: – Твой лейтенант слово ей дал, что вытащит ее из тюрьмы. Он любил ее. Крепко любил, без памяти, поклялся, что спасет, а сам ничего не мог сделать. От бессилия он с ума сходил.
– И ты решил ему помочь? – усмехнулся Гольцов.
– Понимай как хочешь. Я все сказал.
– Если бы ты не солгал на суде, Кричевская получила бы срок за убийство мужа, и Малышев сейчас был бы жив.
– Как он умер? – спросил полковник. – Застрелился?
Георгий не успел ответить – Кутепов утвердительно кивнул сам:
– Я так и понял. Из-за нее. Я видел ее на суде. Такая, как он и рассказывал: красивая, нежная, настоящая женщина. Таких мало. Редкая порода.
– Редкая сука! – не выдержал Гольцов. – Если бы ее посадили…
Полковник перебил его:
– Если бы ее посадили, Юра бы все равно застрелился. Он так мне и сказал: твои показания все равно ничего не изменят, а я для себя все решил. Он жизни без нее не представлял, жил только ради нее, словно бредил. Хотел лишь одного – чтобы она вышла. Мучился, что не может даже поговорить с ним. Письма ей часто писал. Он не трепач, о своем личном не рассказывал. Пришел однажды, представился и выложил все напрямую как есть. Сказал: люблю человека, которому грозит приговор, а я знаю, что ее подставили. Поклялся, мол, ей, что спасу, а если не смогу ей помочь и ее посадят – покончу с собой.
– И ты ему сразу поверил?
– Да.
– Почему?
Полковник молчал.
– Почему?! – повторил Георгий.
Полковник пожевал губами, словно пробуя слова на вкус. Ответил:
– Не знаю. Наверное, потому что видел: он правда любит. Не блефовал твой лейтенант. Да такое разве можно придумать? Вот ты поставь себя на его место. Едешь к незнакомому человеку и должен всю душу перед ним наизнанку вывернуть. Рассказать о таком, что для него – святыня. Слышал бы ты, майор, как он имя ее произносил! Как у него кровь к лицу приливала, когда он говорил, как губы кусал от бессилия. Я для него в ту минуту был судьей и Господом Богом! Я для него в ту минуту решал, жить ему или нет. Ты это понимаешь, майор? Хотел бы ты оказаться на моем месте в ту минуту, а? А если бы Малышев к тебе пришел? Что бы ты ему ответил? О своих высоких принципах в ту минуту думал бы? Когда он с побелевшим лицом всего себя перед тобой наизнанку…
Георгий проглотил комок. Ответил тихо:
– Я думаю, если бы ее посадили, Юра был бы жив. Он бы перестрадал, переболел, но у него осталась бы надежда. Он бы пытался спасти ее, а так… Она вышла на свободу по его костям.
– Он сказал, что ее подставили! Что она невиновна.
Георгий жестко оборвал оправдания:
– Кричевская – убийца. И Юра узнал это. И не смог пережить…
Глава пятая
Устричный пруд
1
Любовь сидели в кресле с ногами, читала книгу и грызла зеленое прованское яблоко. Видимо, книга казалась ей увлекательнее действительности, потому что ни звук шагов, ни стук двери не отвлекали Любовь от чтения. Зато она, сидевшая молча и неподвижно, привлекала к себе внимание тех, кто находился в помещении.
Входя, все по привычке смотрели в ту сторону, где обычно подозреваемые дожидались выдачи представителям Интерпола. В этом кресле женщины сидели редко. Такие, как Любовь, – никогда. Взглянув на нее, мужчины поспешно отводили глаза, словно в лицезрений такой женщины уже было нечто запретное, осуждаемое. Менестрели и прочие воспеватели прекрасных дам не с потолка взяли выражение «ослепительная красота»! Умели, шельмецы, называть вещи своими именами… Быстро отведя взгляд, словно боясь ослепнуть, вошедшие обращались к своим коллегам и некоторое время оживленно болтали, одновременно приглаживая волосы и поправляя галстук, словно приходили в себя, осмысляя произошедшее с ними чудо, а затем… Затем их взгляд снова, будто невзначай, натыкался на женщину, сидящую с книгой в кресле. Любовь чувствовала себя под перекрестным огнем мужских взглядов совершенно естественно. У нее была такая спокойная, какая-то особо уютная поза, словно женщина находилась у себя дома, словно она присела в это кресло отдохнуть и вольна встать и уйти когда ей вздумается.
Некрасивая, мужеподобная женщина-комиссар наблюдала за происходящим с критической усмешкой, означавшей: ну конечно, мужчины есть мужчины!
В помещение наконец вошли сотрудники Интерпола, которых давно ожидали присутствовавшие, – несколько французов и русский. Голоса зазвучали громче. Женщина-комиссар прикрыла стеклянную дверь на ту половину помещения, где собрались официальные лица.
Доев яблоко, Любовь поднялась выбросить огрызок в корзину для бумаг и поздно вспомнила, что ее правая рука прикована к ручке кресла, которое в свою очередь привинчено к полу. От рывка стальной браслет наручника больно врезался в запястье. Любовь ойкнула от боли и неожиданности, обратив на себя внимание. Все замолчали и посмотрели в ее сторону. Она виновато улыбнулась и развела свободной рукой (хотя разводят обычно обеими руками): простите, совсем забыла.
– Я хотела выбросить… – объяснила она по-французски, обращаясь к мужчинам.
Женщина-комиссар, ни слова не говоря, подошла к ней, что-то сделала с наручниками, и стальное кольцо немного расширилось, освободив запястье. Любовь поблагодарила ее и снова опустилась в кресло. Подула на запястье – на коже краснела большая ссадина. Завтра на этом месте будет синяк.
В комнате, где ее содержат, окон не было, но Любе казалось, что снаружи идет дождь. С самого утра хотелось спать. Хотелось принять ванну с лавандовым маслом! Хотелось крепкого кофе с коньяком и сигарет! Кофе в тюрьме готовили отвратительный – не кофе, а коричневая жижа. И это во Франции, с тоской сказала она себе, а что будет в России? Но об этом она старалась не думать. От тяжелых мыслей появляются морщины. И какой смысл переживать из-за того, что еще не произошло и что ты не в силах ни исправить, ни изменить? Раньше надо было думать! – раздался в душе гаденький шепоток, но Любовь его старательно задавила. Не время паниковать. Поздно. Сейчас надо думать, как выбраться.
В той книжке, по которой она в детстве учила французский язык, была басня про двух лягушек, упавших в кувшин молока. Одна лягушка сложила лапки – все равно ведь не выбраться! – и утонула, а другая лягушка (оптимистка, наверное) хоть и знала, что не выбраться, но продолжала упрямо дрыгать лапками. И сбила из молока масло! И выкарабкалась из кувшина. Отсюда мораль… В память с детства запала картинка из той книги: на краю глиняного кувшина сидит зеленая лягушка, и девочка в средневековом платьице и деревянных башмачках удивленно всплескивает ручонками.
Стало быть, все ясно… Будем упрямо дрыгать ножками.
Любовь перевернула страницу и, рассеянно улыбаясь своим мыслям, посмотрела поверх голов мужчин. Приехали. Кто из них по ее душу? Надеюсь, не этот лысый карлик, похожий на Мишеля Клана?.. Брат не поможет. Побоится связываться. Жена ему не даст портить карьеру из-за взбалмошной сестрицы. Родители… Они ничего не понимают, какой от них толк? Им даже ничего не расскажешь. Если бы они знали, то с ума бы сошли. Нет, от них только лишняя суета и пустые истерики. Попросить Тимофея? Безнадежно, Арамов совсем спился, пользы теперь от него что от козла молока.
Никого нет, подумать только, до чего докатился этот мир! То отбиться невозможно от преданных обожателей, а то и руку подать попросить некого. У-у, какая тоска! Только не поддаваться эмоциям, спокойно, Любочка, спокойно…
Она всегда смотрела на людей с точки зрения своей корысти: выгоден ей лично этот знакомый или нет? Знакомый «или нет» моментально отпадал. Надо признать, что в своих отказах Любовь была демократична и вполне могла сказать «нет» королю, если сию минуту ее интересам отвечал какой-нибудь кровельщик. Она привыкла никого ни о чем не просить. Того, кого все равно не упросишь, бесполезно упрашивать, а тот, кто готов прийти на помощь, сам придет, и просить его не надо. Так было всегда.
В восемнадцать ей захотелось поскорей вырваться из дома, обрести самостоятельность и повидать мир, и тогда она ответили «да» Раулю Алькальде. В двадцать Рауль ей осточертел. Не мужчина, а клуша навозная, кто бы мог такое подумать о широкоплечем, двухметровом брюнете с чеканным галльским профилем? В Рауле был лишь один плюс: на нем шикарно сидел смокинг, как ни на одном другом ее знакомом. Проклятая врожденная аристократичность. А ей пришлось намучиться, пока она научилась небрежно носить вечерние платья за пять тысяч долларов. Сеньора свекровь, оценивая Любовь с ног до головы, уничижительно-любезным тоном цедила сквозь фарфоровые зубы:
– Керида, ты не должна двигаться так, словно боишься поставить на платье пятно.
Наверное, эта мысль читалась у нее палице.
А ее еще обвиняют, что она превратилась в лицемерку! Было у кого поучиться. Ни одной мысли напоказ.
– Керида, твоя непосредственность очень мила, но не нужно комментировать каждый свой шаг мимикой. Твои действия не должны отражаться на лице. Следи за собой. Если ты шла и вдруг вспомнила, что тебе нужно зачем-то вернуться в свою комнату, не нужно поднимать брови, морщить нос и делать такое лицо. Невозмутимо повернись и возвращайся, и пусть остальные не понимают, зачем и почему ты это делаешь.
Нет, не ради этого она выходила замуж… Атмосфера посольских приемов и коктейлей: «О да!» «О нет!», «Как мило!», «Неужели?».
Обрыдло! Хотелось расслабиться. Не думала она, что быть женой дипломата так утомительно скучно. Если бы только скучно… А то еще и утомительно. Устала. Хотелось жить полной жизнью. На всю катушку.
Тимофей Арамов увидел ее на парижской вечеринке, куда Любовь случайно попала часа в три ночи вместе с компанией, с которой проводила вечер после театра. Компания была шумная, свободная и типично французская, поэтому ее тоже приняли за француженку. Вечеринка, куда ее случайно привели, происходила у Шарля. Пили мартини с водкой, закусывали тартаром из лангустин с черной икрой и сашими из лосося. Танцевали, галдели на трех языках, веселились до упаду. В центре фуршетного стола, утопавшего в цветах и яствах, возвышалась ледяная фигура обнаженной женщины. Над ней вдохновенно трудился ваятель в черном свитере. Не обращая внимания на толпу гостей, он наводил последний глянец на ледяную бабу. Это и был Тима Арамов, хозяин бала, которого никто, кроме Шарля, не знал по имени.
К пяти утра вечеринка сошла на нет. Любовь решила, что пора возвращаться. Покидая квартиру, она столкнулась на крыльце с тем самым парнем в черном свитере. На жутком французском языке он пытался выпросить у Шарля в долг до утра пятьсот франков. Разумеется, Шарль качал головой и разводил руками: увы, увы, ни сантима. Посыльный из ресторана переводил взгляд с шикарного Шарля на богемного иностранца и не понимал, с кого ему требовать деньги по счету.
Люба простилась с хозяином, подставив ему щеку для поцелуя, и пошла через двор к своей машине. Воспользовавшись заминкой, Шарль улизнул за дверь. Парень в черном попытался на своем странном французском объясниться с посыльным, но тот ничего не понимал и только твердил как заведенный: «С вас пятьсот тридцать один франк, мсье». Тимофей швырнул под ноги посыльному собранную по карманам последнюю мелочь и сочно выматерился, обращая к серому небу свои мысли по поводу тупости и жлобства местного населения.
Люба остановилась как вкопанная. Вернулась к дому, достала из сумочки кредитку и расплатилась, накинув посыльному щедрые чаевые. Тимофей смотрел на свою спасительницу в немом восторге.
– Мерси боку! Жё вёдир кё… – Он запнулся, взъерошил волосы, воскликнул: – Черт, да как же это сказать?!
– Не напрягайся, я все понимаю, – по-русски ответила она. – Ты откуда?
Он просиял.
– Из Питера. А ты?
– Местная, – уклончиво ответила она. – Как тебя зовут?
– Тимофей.
Он пожирал свою спасительницу восхищенным взглядом:
– А тебя?
– Любовь.
Так начался их роман, трогательный и красивый вначале, когда встречи были редки, а расставания длительны.
Тима прилетал к ней в Париж. Любовь летала в Санкт-Петербург, чувствуя себя героиней романа «Соль на нашей коже». Когда ей нужны были деньги, она без зазрения совести переводила через оконное стекло подпись Рауля на банковском чеке и снимала деньги с его счета. Однажды вышла неприятность – банковский служащий заподозрил подделку и задержал ее. Но Любовь сумела выкрутиться. Хуже то, что пришлось объясняться с семейкой Алькальде. Судя по их вытянутым физиономиям, она совершила нечто выходящее за все границы, и их приводило в смущение, как объясниться с человеком, который искренне не понимает, что плохого он совершил. Сделали скидку на загадочность славянской души и не стали досаждать ей долгими нотациями, но Рауль с того дня стал прятать чековую книжку в сейф.
А в Питере Тимофей дарил ей картины и розы. Называл ее своей музой, своей Галой, и рисовал ее как сумасшедший. Любины анфасы и профили заполняли стены его мастерской на шестом этаже дома на Литейном. А главное – с ним она проникла в тот мир, который завораживал своим блеском. За короткое время она познакомилась с массой знаменитостей. Это было счастливое время, и Любовь не собиралась ничего менять в своей жизни. Но однажды все изменилось само собой. Она поняла, что беременна. Никому ничего не сообщая, она самостоятельно решила, что ребенок ей не нужен. Врач, просматривая накануне операции ее медицинскую карту, спросил, приняла ли она это решение вместе с мужем? Разумеется, Любовь без запинки ответила: «Да», сочтя вопрос чисто риторическим, а согласие или несогласие Рауля – его проблемой.
Скандал разразился внезапно. Проклятии эскулап проговорился мужу. Вообще-то во Франции врачебная тайна нерушима, но врач действительно поверил, что Любовь не солгала и решение об аборте принято с обоюдного согласия супругов. Именно поэтому врача нельзя было привлечь к суду за разглашение служебной тайны, а уж как ей хотелось сорвать на ком-нибудь злость! Узнав обо всем, Рауль впал в прострацию. Для него, хоть и нерадивого, но все же католика, аборт казался воплощенным убийством. Он изменился. Он стал смотреть на жену как смотрят на красивую, но опасную змею: со смесью отвращения и любопытства. И все допытывался:
– Но как ты могла? Как ты могла?
Она думала: день-два, и Рауль успокоится, но прошел месяц… Часто, особенно когда она ела, или пила, или смеялась, Любовь ловила на себе его осуждающий взгляд и догадывалась, о чем он думает: он думал, как она может есть, пить, и смеяться после того, что сделала?
У-у, как он достал ее этими взглядами. К тому же он внезапно охладел к ней как к женщине.
– Да что ты все ноешь?! – однажды выкрикнула Любовь в сердцах, забыв об осторожности. – Это был даже не твои ребенок!
Рауль молча смотрел на нее минут пять. После чего жалобным голосом сказал:
– Давай разведемся.
Любовь подумала и ответила:
– Нет.
Через год, когда ее брат Сергей женился, получил место в русском представительстве в Найроби и улетел в Африку с женой и двухмесячным ребенком, они все же развелись. Инициатором бракоразводного процесса был Рауль, И ему пришлось выплатить бывшей жене приличную компенсацию.
После развода Любовь получила полную самостоятельность.
Потомок конкистадоров напоследок удивил Любовь своим благородством, сделав ей роскошный прощальный подарок – брошь из белого золота в виде стрекозы со вставками из модных самоцветов. Вручая подарок, он по-отечески поцеловал Любу в лоб. Раулю это шло – он был выше ростом почти на голову и старше ее на десять лет. Больше они не встречались. Теоретически он мог бы ей помочь, но практически к нему бессмысленно даже обращаться.
Парадокс: первый муж может помочь, но не захочет, второй наверняка захочет помочь, но не сможет. Значит, бессмысленно просить обоих. Значит, остается надеяться на себя.
Как хочется кофе!
…Наверняка по-русски это звучало бы как «Мадам, пройдемте!». Любовь сразу поняла, что это обращаются к ней. От усталости черты ее лица разгладились и стали мягче, беззащитнее, нежнее.
Чувствуя это, она с кротким вздохом закрыла книгу и поднялась. Казалось, все находящиеся в комнате провожали ее взглядами сожаления. Даже мужеподобная комиссарша ободряюще кивнула ей на прощание.
На своих спутников Любовь специально не смотрела. Она шла понурив голову, утомленно глядя под ноги. Само собой вырвалось легкое покашливание, как у сиротки из приюта, и совершенно натурально закололо в правом виске.
Она ничего не придумывала, просто исходила из ситуации. Еще четыре часа – и она окажется в Москве. Говорят, там просто ужас. Разумеется, ей не грозит попасть в общую камеру, но… Ладно, об этом лучше не думать, сопливый нос и красные от слез глаза не лучшие союзники. Подумать только, четыре часа относительной свободы, неужели судьба не пошлет ей ни одной соломинки, за которую можно ухватиться?
О том, как вести себя во время полета, ее проинструктировал француз – сотрудник Интерпола. Любовь кивала с серьезным видом, глядя ему прямо в глаза до тех пор, пока француз, дрогнув, не стал смотреть куда-то в сторону. «Потому что нельзя… Потому что нельзя… Потому что нельзя быть красивой такой»…
Ха-ха, черный русский юмор.
Француз удивленно посмотрел на арестованную, не понимая, отчего она вдруг заулыбалась.
– Простите, – кашлянув, сказала Любовь. – Я задумалась. Продолжайте, продолжайте.
Француз не сразу нашелся что ответить.
Чем дальше от дома ушел, тем труднее возвращаться. Чем выше вскарабкался, тем головокружительнее кажется спуск…
2
В отделе технического развития горел нижний свет. В приятной для глаз полутьме Эдик (для своих – Винчестер) играл в компьютерную игру со сложной трехмерной графикой и реалистическими спецэффектами. Любого другого сотрудника, застуканного в рабочее время на рабочем месте за таким занятием, ожидали бы неприятности. Винчестеру все прощалось, потому что – голова.
На вид Эдику можно было дать лет двадцать, не больше: тощий, длинный, нескладный подросток с гнездом вьющихся белокурых волос на голове. Взгляд отсутствующий, реакция замедленная, осанка разболтанная, одет как огородное пугало. Но – гений…
– Ты дома хоть иногда ночуешь? – спросил Гольцов, разглядывая его хорошо поношенную джинсовую куртку.
Эдик скривился, словно воспоминание о доме навевало на него уныние и тоску.
– А родители?
Вопрос наугад. Подозрение о существовании у Эдика какой-нибудь семьи было чисто теоретическим, по принципу: ну какая-то семья у человека все же должна быть? Сам Винчестер о своих предках не распространялся.
– У других в твоем возрасте дискотеки, девушки, – намекнул Гольцов.
Эдик пренебрежительно хмыкнул.
– Ты говорить еще не разучился?
Вместо ответа Эдик предложил:
– Хотите анекдот? – И, не дожидаясь реакции потенциального слушателя, рассказал: – Сегодня мама грохнула об пол мой любимый компьютер. Горестно гляжу на разлетевшиеся детали: «Вот она, материнская плата за сыновнюю любовь!»
Аплодисментов он не дождался.
– Тупой, – определил Георгий характер анекдота.
– Вы не поняли, – печально покивал головой Винчестер.
Гольцов перешел к делу:
– Держи, это список координат, по которым ты должен проверить разыскиваемого.
Георгий вручил ему запрос и свой сводный лист, в котором суммировал исходные данные водителя Лежнева-Леже. Винчестер просмотрел листы. Взял маркер и пометил кое-что желтым цветом.
– Да, это срочно, – согласился Георгий, читая ход его мыслей.
Винчестер написал на полях: «2 ч.» и обвел кружком. Почерк у него был корявый, как у двоечника. Георгий понял, что его задание будет выполнено в течение двух часов.
Винчестер пометил информацию о водительских правах, номере кредитной карточки и других документах водителя красным маркером. Написал: «7 с.» и тоже обвел.
– Я понял, в течение семи суток, – кивнул Георгий, – но ты не забывай, это надо обязательно сделать. И еще: обрати внимание на транспорт.
Винчестер поднял на Гольцова затуманенный взгляд серых глаз.
– Я еще не знаю, по каким параметрам делать перекрестный анализ, – ответил на немой вопрос Гольцов и раздраженно прикрикнул: – Слушай, Эдик, общайся по-человечески! Если что не ясно – я не обязан читать твои мысли!
– Нету, – произнес Винчестер.
– Чего нету?
– Мыслей.
– Что, вообще? Не телись, говори нормально!
– Нету мыслей по поводу… – Эдик кивком указал на запросы.
– Ладно, может, потом что в голову придет. Я подожду. Как только что разыщешь – звони, я подскочу.
Эдик утвердительно кивнул.
Столовая в соседнем здании уже не работала, был открыт только бар, прозванный в пароде «Лес», за то что располагался под одной крышей с редакцией «Лесной газеты». Георгий заказал яичницу с жареной картошкой. Про Малышева он старался не думать.
В баре было тесно и шумно. В табачном дыму витал дух необременительного общения, застольного братства. «Победить вампиров может только Баффи! – вызывающе вещал голос из телевизора в углу над стойкой. – Она избранная. Днем она обычная школьница, а ночью – победительница вампиров…»
– Пачку «Парламента» и стакан боржоми, – услышал он рядом знакомый голос.
Повернул голову и увидел секретаршу генерала Полонского Зиночку. Она тоже пришла в «Лес» проветриться. Села рядом на вертящийся табурет, спросила:
– Бдишь?
– Бдю, – подтвердил Георгий, забирая у бармена сдачу.
Зиночка кивнула и уставилась в ящик. В баре о работе говорить не принято. Георгий рассматривал ее с минуту – она не повернула головы. Она привыкла привлекать взгляды и не замечала их.
Хорошо, думал Гольцов, быть журналистом «Лесной газеты» – собралось вон в углу полредакции, пьют без отрыва от производства. «Нет, постой! Я тебе докажу, что к органике новейшего времени подмешан здоровый цинизм: современные демиурги моды играют категориями «мягкий – твердый»! – доносилось из того угла.
– Это что, подкуп? – засмеялась Зиночка, когда Георгий протянул ей шоколадку.
– Журнал верну позже.
– А! – кивнула она, забирая шоколад. – Пригодился?
Она развернула фольгу и протянула плитку – угощайся. Георгий отказался – и так в последнее время стал набирать вес.
– О Юре что-нибудь слышно? – спросила Зиночка.
– А что, в его биографии возможны изменения? – цинично пошутил Георгий и тут же пожалел, что ляпнул глупость.
Но Зиночка не возмутилась и не расстроилась, только пожала плечами.
– Все возможно, – серьезно ответила она. И без видимой связи добавила: – К Полонскому приехал его отец.
– Чей отец?
– Юрин.
– Андрей Виссарионович?
Зиночка удивилась:
– Ты его знаешь?
– Встречались. Когда приехал?
– Да минут сорок назад. Когда я уходила, он еще оставался в кабинете у шефа.
Георгий задумался. Ему показалось, что визит старшего Малышева в НЦБ имеет отношение к нему лично. Зиночка делилась впечатлениями: ее потрясло, что на пиджаке Малышева посверкивала Звезда Героя и была широкая орденская планка.
– А мне почему-то казалось, что Юра не из военной семьи.
Георгий объяснил, что у Малышева-отца Звезда Героя Социалистического Труда, то есть мирная, а не военная.
– Оказывается, Владимир Сергеевич его хорошо знает, – перейдя на шепот, сообщила секретарша. – Когда я доложила, что приехал Малышев и просит принять, шеф даже вышел в приемную, говорит: «А, Андрей, заходи-заходи!» А тот… Просто трясся весь от гнева. Едва вошли в кабинет и закрыли дверь, такой крик поднялся.
– Из-за чего крик?
Зиночка всегда была в курсе, о чем говорят за закрытой дверью, но на этот раз она не смогла ответить.
– Честно признаться, я сбежала.
Георгий вышел на улицу. Уже темнело. Стало свежо, как ранней весной. Обещали заморозки – и не соврали. Георгий на ходу застегнул плащ. Посмотрел на часы, подумал, что надо бы позвонить жене, предупредить, что задержится. Он набрал на мобильном домашний номер. Жена ответила сразу, – наверное, смотрела телевизор, сидя в кресле рядом с телефоном.
– Привет, это я, – сказал Георгий. – Часа через два буду дома. Тут кое-что случилось, надо срочно разобраться.
Жена вздохнула и, ни слова не говоря, повесила трубку. Это было в ее манере, но всякий раз действовало на Георгия одинаково: казалось, если бы в ту минуту жена оказалась перед ним, он размозжил бы ей голову телефоном.
Как всегда бывает вечером, в холле высотного здания гулко раздавались звуки шагов. Все лифты оказались заняты. Наконец двери одной кабины разъехались в стороны – и из лифта вышел отец Малышева. Георгий поздоровался. Андрей Виссарионович, не отвечая на приветствие, прошел мимо, посмотрев сквозь Гольцова ледяным взглядом.
Отчего-то эта встреча Георгия расстроила. В общих чертах он представлял себе разговор Малышева-отца с Полонским: проходимец врывается к ним в дом, терроризирует его жену, копается в личной жизни их сына… А все из-за того, что вчера вечером Георгий снова был у Малышевых и говорил с Вероникой Николаевной, но на этот раз беседа у них вышла не такая задушевная и чаем с вареньем Юрина мать его не угощала. Плохой у них вышел разговор, что скрывать…
А теперь, после визита Малышева-старшего к Полонскому, не избежать еще и плохого разговора с шефом. Можно только оттянуть – до завтра…








