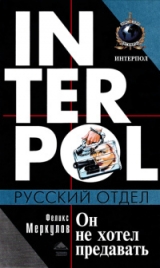
Текст книги "Он не хотел предавать"
Автор книги: Феликс Меркулов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
Люба предложила домработнице вернуться домой, но Алена сказала, что дождется возвращения Егора Ильича.
– Я почитаю в соседней комнате, Любовь Сергеевна. Дверь я оставлю открытой. Если что-то понадобится, позовите меня.
Через несколько минут Люба услышала доносящееся из соседней комнаты похрапывание. Домработница постоянно жаловалась на бессонницу, но отключилась, едва присела на диван. Завтра наверняка скажет: «Ох! опять всю ночь проворочалась и не уснула». А вот она точно не уснет без снотворного, а спать необходимо, потому что, во-первых, завтра предстоит тяжелый день, а во-вторых, человек с чистой совестью должен спать крепко. Например, Завальнюк спал как убитый, даже не шевелился, а Леже спал нервно, метался во сне и болтал то по-русски, то по-французски.
Люба пошарила в ящике тумбочки, вытряхнула на ладонь круглый шарик, не имеющий ни вкуса, ни запаха. Но даже французское снотворное действовало плохо. Она выключила свет, накрыла глаза рукой и стала ждать, когда подействует лекарство, а перед глазами проносились ужасные картины: шоссе, бульдозер, машина Завальнюка… Она уснула, но спала некрепким, нервным сном, наполненным мучительно-бессмысленными картинами сновидений, о которых сквозь сон думала: «Что за ерунда!» Даже во сне Люба ощущала, как тяжело стучит сердце, а по всему телу проходит покалывание, словно волны электрического тока.
В четыре часа утра у ворот усадьбы резко просигналила машина. Люба резко вскочила, села на постели и невидящим взглядом уставилась на окно. За светлыми гардинами колебался утренний свет. Сигнал повторился. Люба поняла, что это к ней… Домработница тоже проснулась и побежала, спросонья наткнувшись на горшок с араукарией, стоящий на лестничной площадке. Судя по звуку, она перевернула его и расколотила вдребезги. Когда Алена пыталась сделать что-нибудь тихо, грохот слышался по всему дому. Люба услышала, как внизу хлопнула стеклянная входная дверь. Как застучали металлические подковки на туфлях Алены, когда домработница торопливо семенила к калитке.
Люба накинула халат и подошла к окну. Раздвинула жалюзи и посмотрела на улицу. Утро выдалось туманное, серое, как непогожий осенний день. Наверное, рассвело недавно. В березовых кронах шипел ветер, как пузырьки в шампанском.
Алена, ежась от холода, разговаривала у калитки с людьми, приехавшими на белой «Волге» с проблесковым маячком на крыше. До Любы донесся ее тихий испуганный вскрик:
– Ах!
Домработница прижала руки к лицу в немом выражении ужаса, затем отперла калитку и пропустила приезжих. Пока они шли по каменной тропинке между газонами к дому, Люба посмотрела на себя в зеркало и приготовилась отвечать на вопросы. Она собрала волосы в жгут и небрежно заколола на затылке. Закуталась в длинную шаль и вышла на лестницу:
– Алена, кто там?
– Любовь Сергеевна… Это к вам, Любовь Сергеевна, – лепетала домработница.
Официальные лица переминались с ноги на ногу в прихожей. Им предстояло сообщить овдовевшей женщине страшную новость…
Еще несколько дней Любовь не могла поверить, что все позади. Все кончено. И все сошло им с рук. Ей казалось – не может быть, они должны о чем-то меня спрашивать, подозревать, задавать разные вопросы с уловками, как это бывает в кино.
Никто не задавал ей вопросов. В Жуковку и на адрес офиса в Москве на имя Любы стали приходить письма и телеграммы со стандартными фразами соболезнований: «Сочувствуем. Переживаем. Скорбим».
Ей хотелось спросить: как, и это все?!
Но спросить было не у кого.
Леже находился в больнице. С ним разговаривал следователь. Любе об этом кто-то донес. Она не запомнила – кто… После похорон Завальнюка она навестила Леже в больнице. Ей хотелось поговорить с ним с глазу на глаз, но, как только она переступила порог хирургического отделения, сразу поняла – это невозможно. Водитель лежал в общей палате на десять человек. Его перевели туда из реанимации, где он провел первые сутки после аварии.
Люба с трудом его узнала. Если бы медсестра не указала… У Леже было черное, опухшее лицо, как у больного проказой. Фу! Какая гадость. Она видела шокирующие снимки южноамериканского лепрозория в каком-то французском журнале. Врежется же такое в память!
Она сказала Леже:
– Как вы себя чувствуете?
Леже ответил ей, она не поняла, что именно он сказал. У него был сломан нос и выбиты передние зубы.
«Какой ужас, – думала она. – Какой ужас!»
– Поправляйтесь, – произнесла она, чувствуя, что ноги подкашиваются, и поставила на тумбочку рядом с его кроватью пакет с минеральной водой и фруктами.
Оказалось, это чужая тумбочка. У Леже не было своей. На десять коек в палате стояло всего три тумбочки, и между больными за них шла война. Люба извинилась и забрала пакет. Кто-то шепнул ей про подоконник. Она догадалась поставить пакет на подоконник в изголовье кровати Леже.
Ее тошнило от тяжелого запаха разлагающейся человеческой плоти. На соседней кровати лежал умирающий от рака старик в сером больничном халате. Из его живота торчали трубки, к которым были привязаны обыкновенные бутылки из-под молока. Через трубки в них из тела старика выводились физиологические отходы организма.
– Поправляйтесь, – машинально сказала старику Люба, покидая палату.
За ее спиной перешептывались больные: «Это вдова!»
Они уже знали, что Леже был личным водителем Завальнюка, что он попал в аварию и что его хозяин погиб.
С тяжелой головой Люба вышла во двор. Ей дали понюхать нашатыря. Больше она в больнице у Леже не бывала. Сразу после похорон она уехала в Ниццу, затем – в Неаполь, но почувствовала себя одиноко и вернулась в Париж. Это был ее родной город, единственный, где она чувствовала себя дома, гораздо роднее Москвы. В Париже у нее была своя квартира. На седьмом этаже, практически на чердаке старинного дома в Сен-Жермен-де-Пре гениальный проектировщик-англичанин устроил по заказу Завальнюка настоящее любовное гнездышко для отдыха и свиданий. Студия оказалась забавной. Например, широкую кровать под прозрачным балдахином из органзы проектировщик интерьера поместил на подиуме, словно на сцене. Над кроватью висело венецианское зеркало. К кровати вела широкая дубовая лестница с низкими ступенями. На ступенях, будто фрейлины, сопровождающие в опочивальню свою королеву, стояли старинные портновские манекены на гнутых ножках, обряженные в старомодные шляпы с вуалями и платья на обручах… Только сейчас Люба обратила внимание, что все ее манекены носят траур. Эти черные шелковые платья и соломенные шляпы скупались, должно быть, на блошиных рынках провинциальных городков, где вдовы долго хранят верность черному цвету.
Люба примерила один наряд, покрасовалась в нем перед зеркалом и вздохнула, что совершенно некуда в этом пойти. Но ночью, когда дождь забарабанил по жестяной крыше, а по стенам студии потекли черными полосами струи воды, отраженные от оконного стекла, у Любови не хватило нервов уснуть в окружении траурных дам. Она зажгла свет, раздела манекены и заперла их наряды в индийский сундук. Обнаженные манекены смотрелись непрезентабельно и были сосланы до лучших времен в ссылку в чулан.
На Рождество она навестила семью брата, работавшего секретарем российского посольства в Найроби. Впервые она встречала Новый год в Африке. Они сидели на лужайке перед домом под пальмами. На гриле жарились свиные ребрышки. Пили шампанское, которое Люба привезла из Франции. Лед в ведерке таял так быстро, что его не успевали приносить из морозильника. Племянникам Люба подарила на Новый год гигантскую железную дорогу.
– Ты уже немного пришла в себя, – определила жена брата, внимательно разглядывая новое Любино платье. – На похоронах ты выглядела просто жуть.
Жена брата приперлась в августе в Москву, «поддержать Любу от имени семьи в скорбную минуту утраты». Вот дура! Втайне они всегда друг друга недолюбливали. Люба училась с женой брата в русскоязычной школе при посольстве и уже в детстве терпеть не могла эти жиденькие белобрысые косы и писклявый голосок: «Ага-а! Я все расскажу твоей маме!» Они недолюбливали друг друга и теперь, хотя явных причин для неприязни не находилось. Люба догадывалась почему: ее непутевая личная жизнь таила угрозу для прочного семейного очага. Глядя на нее, жена брата начинала подозревать в своем муже тайные страсти и пороки, хорошо скрываемые за маской добропорядочного семьянина. «Яблоко от яблоньки недалеко падает» и тому подобная чушь… Люба же считала свою невестку просто занудной клушей с претензией на аристократичность. Брат нашел себе подходящую пару!
В Найроби за ней все ухаживали как за больной или человеком, пережившим тяжелую моральную травму. Ей подавали чай с молоком в постель и уступили лучшую комнату в доме – самую прохладную. Из Африки она привезла в Париж деревянных жирафов, заменив ими манекенов на лестнице.
В конце февраля Любовь вернулась в Москву, потому что адвокат бомбардировал ее сообщениями: приближалось ответственное время сбора урожая. Наследство покойного Завальнюка было взвешено, сосчитано и разделено, как вавилонское царство: мене, текел, фарес.
2
После ссоры с мужем Вероника Николаевна возвращалась домой одна. Сколько раз повторялось одно и то же: они приходили к Юре вдвоем, а уходили порознь, словно чужие.
Чужие… Хуже! Ольга тоже чужая, но с ней Веронике Николаевне легче. С ней можно говорить о Юре, забыться в воспоминаниях. Плохо, что Ольга так редко к ней заезжает. Вертихвостка… Хотя чего от нее требовать? Что Ольга? – ни жена, ни сестра. Вывшая невеста. Сколько еще она будет помнить Юру? Год, от силы два, а потом выйдет замуж и исчезнет из жизни Малышевых и оставит Веронику Николаевну совсем одну.
Одиночество – вот чего страшилась мать. Пустоты, которую нечем заполнить. Двое чужих друг другу, старых людей в одной квартире, как в клетке. Говорить им не о чем, и, чтобы не ругаться, они молчат, разойдясь по разным комнатам. Был жив сын – было связующее звено, тема для разговоров, общий повод для беспокойства… Теперь Юры нет.
По дороге с кладбища Вероника Николаевна зашла в церковь Николая Чудотворца, поставила свечи, думая о своей беде, своем непоправимом горе и своем одиночестве. Выйдя из храма, она пошла в сторону метро, без всякого желания возвращаться домой просто потому, что идти больше некуда.
Молодой человек с короткой стрижкой, один из тех двоих, что приходили к Юре на кладбище, сидел на скамейке в парке. Вероника Николаевна сначала прошла мимо, но вернулась, подошла к нему и села рядом. Ей было необходимо с кем-то говорить о сыне.
– Осторожно, скамейка грязная, – предупредил молодой человек.
– Как вас зовут? – спросила мать.
– Георгий.
– Спасибо за цветы, Георгий, – глухим, словно охрипшим голосом сказала она. – Юра любил цветы. Когда он был маленьким, у него была своя грядочка на даче, где мы проводили лето. Когда Андрей Виссарионович приезжал на выходные из Москвы, он просил: «Папочка, привези мне из города маленькую тяпочку, я буду цветы тяпать»…
Голос ее сорвался. Она замолчала, потом снова заговорила о сыне, словно не могла остановиться:
– А пионы Юра не любил, особенно красные. Вообще все огромные, с тарелку размером, цветы он не любил, а только маленькие, самые незаметные: фиалки, подснежники, незабудки, колокольчики… Он и сам был такой по характеру – нежный, незаметный. Несовременный, я бы сказала.
– Я вас отвезу домой, если хотите, – предложил Георгий.
Вероника Николаевна кивнула.
За Малым Каменным мостом через Москву-реку Вероника Николаевна попросила свернуть с Большой Полянки в одну из прилегающих тихих улиц.
– Здесь можете остановиться.
Георгий притормозил возле арки.
– Поднимитесь со мной, выпьем чаю? – предложила Вероника Николаевна, и по тону ее можно было догадаться, каким кошмаром кажется матери возвращение в пустую квартиру.
– Спасибо. С удовольствием.
Она благодарно улыбнулась. На мгновение ее сходство с Юрой усилилось.
Во двор крупноблочного дома послевоенной постройки вела арка, украшенная памятными мемориальными досками. Гольцов успел прочесть надпись на одной из них: во время революции 1905–1907 годов на этом месте участвовали в боях рабочие типографии Кирстена и Латкова.
Вероника Николаевна вошла в подъезд, Георгий за ней. В молчании они поднялись в кабине антикварного лифта на пятый этаж.
– Проходите, – сказала хозяйка.
Двустворчатая деревянная дверь, окрашенная облупившейся коричневой краской, вела в квартиру с номером 35. Вероника Николаевна открыла дверь своим ключом и пропустила гостя вперед.
Георгий вошел в обширную полутемную прихожую.
– Не снимайте обувь, ни в коем случае! – жестом удержала его хозяйка. – Подождите меня в гостиной. Я сейчас приготовлю нам чай.
Вероника Николаевна провела гостя через темный и пыльный холл. Вдоль стен возвышались застекленные стеллажи с книгами, поблескивавшими тиснеными корешками. Хозяйка распахнула перед Георгием двери полукруглой гостиной, расположенной в эркере, тремя окнами выходящей на набережную Водоотводного канала. Сдернула со спинки стула забытую шаль, кивнула Георгию:
– Присаживайтесь, обождите меня.
Гольцову показалось, будто он оказался в доме-музее. Пока Вероника Николаевна гремела на кухне чашками, Георгий переходил от стены к стене, рассматривая картины и фотографии в рамках под стеклом. Обои на стенах были старые, из эпохи соцреализма: тисненые, темно-бордовые с позолотой. Кое-где на обоях выступали яркие прямоугольники, – там когда-то висели картины. Можно представить, какой роскошной казалась эта комната лет пятнадцать назад.
«Куда исчезли картины со стен?» – думал Гольцов.
Он поднял голову и посмотрел на тусклую единственную лампочку в шестьдесят ватт, горевшую в массивной бронзовой люстре с хрустальными подвесками.
На одном рисунке, напоминавшем театральный задник, стояла размашистая подпись, соответствующая звучной фамилии: «Мессерер». Это имя ничего Гольцову не говорило. Георгий вовсе не причислял себя к знатокам живописи, просто за долгие годы работы в Интерполе пришлось понемногу овладеть «смежными специальностями». Тем более в одном кабинете с ним, за соседним столом, работала сотрудница-искусствовед, занимавшаяся преступлениями, связанными с хищениями культурных ценностей.
Зато человека на фотографии в другой рамке под стеклом он сразу узнал: Высоцкий! Да, точно он. А рядом, в шляпе с обвислыми полями по моде семидесятых годов, – молодую Марину Влади. А вот еще любопытная фотография: Элизабет Тейлор в Москве на Красной площади, в компании с кем-то из наших артисток, имени которой Георгий с ходу не мог вспомнить, хотя когда-то очень даже ее любил. (В смысле – платонически.)
А вот фотография молодого Марчелло Мастроянни с его автографом. А этот парнишка в белых колготках – знаменитый танцор балета, как же его фамилия? Сбежал из Советского Союза… Нуриев! Точно, Рудольф Нуриев…
М-да!
«А из нашего окна – площадь Красная видна! – А из нашего окошка – только улица немножко…» – подумал Гольцов, выглядывая в окно.
Сквозь плотную подушку облаков пробились лучи алого, предзакатного солнца, осветив дома напротив и голые кроны деревьев на бульваре насыщенным ярким светом. Темное зеркало Водоотводного канала порозовело, в нем мелькали облака.
– Вы меня заждались, – входя, сказала Вероника Николаевна. – К нам сейчас редко кто приходит. И сахара в доме не оказалось, вы уж извините.
– А я пью без сахара, – солгал Гольцов.
– Да? Что ж, но у меня нашлось вишневое варенье. Будем пить чай с вареньем.
Георгий взял из ее рук поднос. Вероника Николаевна смахнула пыль со стола, вздохнула, но не стала оправдываться перед гостем за беспорядок в доме. Как есть, так есть… Все это мелочи.
Они сели за стол.
– Может быть, вы голодны? – спохватилась Вероника Николаевна. – Хотите пообедать?
– Нет-нет! – наотрез отказался Георгий.
Они оба замолчали. Лишь слышно было, как тихо звякают чанные ложечки о тонкие стенки фарфоровых чашек. Наверное, Вероника Николаевна использовала чашки из парадного, а не будничного сервиза. На чашке Вероники Николаевны глазастый Гольцов приметил ломаную ниточку-трещинку.
И чтобы нарушить неловкую тишину, оба одновременно заговорили и запнулись на полуслове, уступая друг другу:
– Продолжайте, продолжайте!
– Нет, вы что-то хотели спросить?
– Ничего важного.
– Нет-нет, говорите!
Георгий спросил, указывая на одну из картин:
– Похоже на Левитана.
Вероника Николаевна оглянулась, кивнула:
– Это и есть Исаак Левитан. Вы разбираетесь?
Георгий отрицательно покачал головой:
– Случайно угадал. Просто похоже…
– У вас цепкий взгляд, – похвалила Вероника Николаевна.
Георгий зачерпнул ложкой варенье.
– Знаете, я вас вспомнила, – неожиданно призналась Вероника Николаевна. – Юра о вас говорил. Вы были его непосредственным руководителем на работе, так?
Георгий смутился:
– Так.
– Я вспомнила. Юра отзывался о вас с большим уважением. Мне кажется, он вами восхищался.
– В самом деле? – пробормотал Георгий, чувствуя себя неловко.
– Я привыкла доверять мнению сына. Он сходился с людьми только близкими ему по духу.
Георгий покачал головой:
– Надо же… Юра мне тоже нравился, и… М-да, нечего добавить.
Он умолк.
В прихожей хлопнула входная дверь, послышалось шарканье шагов по коридору. Вернулся Малышев-отец. Вероника Николаевна молча прислушивалась к его шагам. Не заглядывая в гостиную, он скрылся в своей комнате, раздраженно хлопнув дверью. Снова стало тихо.
– Он сюда не зайдет, – сказала Вероника Николаевна, успокаивая неизвестно кого, то ли гостя, то ли саму себя.
Не называя имени, негромко заговорила о муже в третьем лице:
– У него всегда был тяжелый характер. Порой жалею, что в молодости не разошлась с ним. Время было такое, человеку с его положением нельзя было разводиться, а я не хотела ломать ему жизнь. Если бы тогда я проявила характер, может быть, все было бы теперь по-другому и Юра сейчас был жив? – И добавила: – Он застрелился из наградного пистолета отца…
Наверное, эта мысль ни на минуту не оставляла несчастную женщину.
– А кто… ваш муж? – спросил Георгий.
Вероника Николаевна смахнула прядь со лба:
– Бывший министр культуры. До девяносто первого года…
Гольцов не сразу соотнес эту дату с вехами современной отечественной истории, но для семьи Малышева она казалась красноречивее любых пояснений.
Девяносто первый год! Август… Горбачев в Фаросе. По телевизору идет балет «Лебединое озеро». Кто-то из жильцов их дома – наверняка молодежь! – выставил на подоконник открытого окна радиоприемник, принципиально настроенный на волну «Голоса Америки», включенный на полную громкость. Весь двор слушает свежие новости, прорывающиеся в эфир сквозь треск и шипение глушилок. Весь мир застыл в ожидании: что происходит сейчас в Москве?
В Москве – три дня великой истории.
Юра со школьным приятелем забежали на несколько минут домой, взять бутерброды. Они перемазаны землей и какой-то машинной смазкой, радостно возбуждены и полны впечатлений.
С порога кричит:
– Мама! На улицах танки! Мы с ребятами помогали строить баррикаду, пришлось разбирать тротуарную плитку.
Она сунула ему в карман куртки кулек с бутербродами.
– Мама, я не приду сегодня ночевать, – сообщает Юра. – Дай мне куртку. Мы будем дежурить на баррикаде.
Она в растерянности всплеснула руками:
– Ни в коем случае! Я сойду с ума, если тебя не будет дома.
– Я же не один! Нас там тысячи!
У Юры горели глаза. Танки на улицах Москвы… Она не стала его останавливать.
Целых три дня – у каждого! – ощущение личной причастности к Истории. У них на глазах происходила гибель империи. Три исторических дня: Ельцин на танке, гибель людей, эйфория победы и радостное ожидание перемен.
Двадцать первого августа Андрей Виссарионович вернулся домой пьяным в стельку. Таким Вероника Николаевна не видела мужа давно.
Мать с сыном обедали. Юра взахлеб делился впечатлениями, что ему довелось пережить и увидеть за три дня, проведенные на баррикадах возле Белого дома. Андрей Виссарионович остановился в дверях столовой. Слушал Юру, тяжело дыша, и лицо его наливалось свекольным румянцем. Вдруг он подошел к сыну и со всего размаха влепил ему пощечину. От неожиданности Юра уронил на пол ложку и замолчал на полуслове. Вероника Николаевна обомлела.
– Чему радуешься, щенок? – крикнул Андрей Виссарионович, зло глядя на сына.
Юра стал бледен, только на левой щеке алел отпечаток отцовской ладони. Он молчал, глядя в пол.
– Андрей, – вмешалась мать.
– Заткнись! – рявкнул он на жену и, обращаясь к сыну, повторил: – Чему ты радуешься?!
Юра молчал, но не опускал глаза, смотрел прямо на отца. Алый отпечаток пятерни на его щеке побледнел, щеки порозовели. Он закусил губы и молчал.
– Бестолочи, чанкайшисты! Сами под собой рубите сук! Не понимаете, что вот этого всего у вас уже не будет! Вот этого всего, – широким жестом Андрей Виссарионович обвел рукой столовую, – больше не будет!
– И не надо, – тихо прошептал Юра.
– Что?! – повернулся к нему отец. – Не надо, говоришь? Тебе ничего этого не надо?
Юра упрямо молчал.
Одним бешеным взмахом руки Андрей Виссарионович смел посуду со стола. С жалобным грохотом разбились, упав на плитку, тарелки с бутербродами, чашки, блюдца, тоскливо зазвенели ложки и серебряная сухарница, рассыпаясь в разные стороны, словно разбегаясь от хозяйского гнева.
– Андрей! – ахнула Вероника Николаевна.
– Что, зажрались? Жить по-старому надоело? Валите вон! Новая власть накормит, только рот подставляй!
Хрустя осколками битой посуды, Андрей Виссарионович ушел к себе, хлопнул дверью. Вероника Николаевна сдерживалась, чтобы не расплакаться при сыне. Натянуто улыбнулась, встала из-за стола и стала подбирать осколки. Юра остановил ее:
– Не надо. Пускай лежит. Пусть видит, нам от него ничего не надо.
– Нельзя так говорить, это твой отец.
– Да, и я его люблю не за сервелат из спецзаказа. Пусть не думает, что купил мою любовь. На свое мнение я имею право.
Вероника Николаевна растерянно смотрела на осколки посуды, подумала: и в самом деле, надоело! – и бросила все на пол.
Пусть убирает тот, кто это сделал.
– Идем в кино? – предложил Юра.
Она улыбнулась:
– Идем.
И они поехали в маленький кинотеатр у Никитских ворот. А потом гуляли пешком по бульвару от Никитских до Арбата, и Веронике Николаевне нравилось, что ее сын – такой взрослый, красивый, что на него уже посматривают девушки, – не стыдится гулять под руку со своей мамой.
В октябре девяносто первого министр культуры Малышев был отправлен в отставку. Он не стал принимать предложений о новой работе, гордо написал заявление о выходе на пенсию по состоянию здоровья – и в пятьдесят лет остался не у дел. Может быть, ему казалось, что о нем еще вспомнят, еще придут и попросят, но никто не вспоминал, не приходил и не просил. О нем все забыли.
Вероника Николаевна заставила сына первым подойти к отцу, попросить прощения, и формально они примирились… Но это была такая же видимость, как у нее – видимость счастливого брака…
Андрей Виссарионович не скрывал раздражения новой властью. Казалось, ему доставляло удовольствие при сыне издевательски бросить мимоходом:
– Слышала, Вера? Поляков стал банкиром. Банкир! Сука продажная. Я этого банкира узнал, когда он в зале для делегаций в аэропорту Гандера, на глазах у всех, сгреб в свою сумку со стола все пакеты с орешками. Это то же самое, что тебя запустить в зал для заседаний, а ты первым делом собираешь в свою сумку бутылки с минеральной водой. Называется, пусти свинью за стол, а она и ноги на стол… Банкир! Его папаша – директор химкомбината в Воронеже. Сидел в середине восьмидесятых за взятки. Его жена в Комитет советских женщин к Терешковой обращалась, чтобы амнистировали старого хрена. Вот сейчас у таких людей в руках власть…
Юра молчал и никогда не вмешивался в разговор, но Вероника Николаевна чувствовала, что у сына свое мнение, свои взгляды. И когда после окончания института он пошел на работу в милицию, а затем в «Интерпол», она не удивилась – Юра поступал согласно со своими принципами.
Андрей Виссарионович, узнав о решении сына, издевательски заметил:
– Вор у вора палку украл. Кого защищать будешь?
Юра промолчал.
– В нашей семье ментов не было, – бросил провокационное замечание отец.
– Так что, предлагаешь мне сменить фамилию? – ответил Юра.
Андрей Виссарионович, казалось, только этого и ждал.
– Раз ты так решил – пожалуйста! – заявил он. – Продался с потрохами, так зачем же имя марать?
– И чем же я твое имя замарал? – сжав губы, спросил Юра.
– Перестаньте! – со слезами крикнула Вероника Николаевна, чтобы прекратить этот дурной разговор. – Вы оба с ума сошли! Хватит, замолчите, за что вы мучите меня?! Перестаньте!
Мужчины замолчали, разойдясь по своим комнатам, но что это меняло, что?!
Мира в доме не было. Была вражда с мелкими уколами и подковырками, ядовитыми замечаниями при напускной и подчеркнутой вежливости. Юра молчал, терпел, но любил ли он отца, как любил его в детстве? Нет. В нем тоже что-то умерло, очерствело, и Вероника Николаевна с болью наблюдала, как отдаляются друг от друга муж и сын, и все ее попытки сблизить их разбивались, как волна о каменный мол.
– Не понимаю, за что он меня так ненавидит? – спрашивал порой Юра и не верил, когда она убеждала его, что отец его по-прежнему, и даже сильнее, чем в детстве, любит и переживает за него.
Юра иронично улыбался:
– Ну если это называется любовью!..
И не верил.
Между тем Андрей Виссарионович действительно любил сына и по-своему переживал за него.
– Вырастил – и кого?! Хама! – часто сокрушался он. – Ни уважения к отцу, ни благодарности. Что я ему плохого сделал? Кормил, учил, растил, одевал, обувал… А теперь отец у него плохой, теперь отец у него дурак?
Все переломилось. Словно были две жизни – жизнь до и после.
Вот что такое был для Малышевых девяносто первый год…
Георгий окинул взглядом комнату.
– Надо же, министр, а я и не знал. Юра никогда ничего о себе не рассказывал.
Вероника Николаевна кивнула – да, сын не любил выставляться родством.
– А сейчас он чем занимается?
Вероника Николаевна ответила со вздохом.
– Теперь? Ничем.
– А как же вы живете?
– Пенсия, – развела руками Вероника Николаевна.
И, смутившись, поспешно добавила:
– Конечно, маленькая, но нам хватает. Какие у стариков особые расходы? Дети, внуки, но у нас их нет.
Голос ее осекся. Она улыбнулась через силу.
– Вы пейте чай, Георгий, совсем остыл. Может, подогреть?
Прикасаться к чужой беде порой просто невыносимо. Бессмысленны слова, и любые утешения не приносят облегчения душе. Да и что сказать?
– А кто это на той фотографии, рядом с Элизабет Тейлор? – спросил Гольцов первое, что пришло в голову. – На Красной площади?
Вероника Николаевна повернула голову и посмотрела на снимок в рамке. Усмехнулась:
– А вы в детстве в кино бегали?
– А как же, – подтвердил Георгий. – Я помню эту актрису, только имя… Вера Кадочникова?
– Она самая.
– Вы на нее похожи.
– В самом деле? – неестественно натянутым тоном произнесла Вероника Николаевна, дернула бровью, и вдруг до Георгия дошло – так вот почему ее лицо казалось ему знакомым! Не только потому, что она похожа на Юру.
– Это вы?!
– Что, не похожа?
– А я голову ломаю весь вечер, ну кого же вы мне напоминаете! А почему Кадочникова, и Вера, а не Вероника?
– Кадочникова – это моя девичья фамилия, а имя… В ту эпоху было модно бороться с космополитизмом, а имя Вероника звучало для наших чиновников из Минкульта слишком по-западному. Видите, какая я древняя старуха? Пора в музей восковых фигур.
– Вы ничуть не изменились! – хотел сказать приятное Георгий и поздно понял, что сморозил глупость.
Вероника Николаевна добродушно рассмеялась:
– Вы хотите сказать, что я и в молодости выглядела не лучше? Бедные мои зрители.
– Нет-нет, вы красавица!
Вероника Николаевна порозовела.
– Хватит врать.
– Честное слово!
Она отмахнулась от комплимента, но с искренним интересом спросила:
– А и детстве на мои фильмы бегали?
– Еще бы!
– А на какие?
В пионерский лагерь кино привозили раз в неделю, по воскресеньям, и показывали на открытой эстраде, когда темнело, и потому – очень поздно. Тогда имя актрисы ничего не значило для них, десятилетних мальчишек. Они запомнили название фильма, написанное наискось на листе ватмана: «Крутой вираж». Вожатая трудилась над плакатом все утро, и теперь вывешенный на доску объявлений шедевр каллиграфии потрясал воображение. Выведенные тушью и сухой кисточкой буквы казались острыми, шероховатыми и… опасными. Сразу чувствовалось – привезли фильм не хуже, чем «Пираты XX века», который они смотрели на прошлой неделе.
Это был детектив с назидательным сюжетом: о подростках, попавших под влияние матерых уголовников. Но не назидание интересовало их, десятилетних зрителей, а лихо закрученное действие с гонками по горному серпантину, разбитыми автомашинами, фальшивыми рублями и не фальшивыми алмазами. Они не запомнили имени актрисы, игравшей главную роль, но запомнили ее героиню – Лялю.
Возвращались они после просмотра в спальный корпус притихшие, обалдевшие от впечатлений, а главное – от Лялиной преданности и любви, какая бывает только в кино. Огромная, как подсолнух, луна скользила вдоль тропинки над озером, провожая их от эстрады до лагеря. И долго они не могли уснуть той ночью, жгли карманные фонарики, шушукались на всю палату, обмениваясь впечатлениями.
…Узнав об этом, Вероника Николаевна рассмеялась.
– Да, помню тот фильм. Съемки в Крыму… Мне было двадцать шесть, а играла я восемнадцатилетнюю девчонку. Со мной снимались Женя Жариков и Джигарханян.
– Точно, бандита играл.
– После этой роли мне письма мешками приходили от поклонников. Одно письмо, помню, написал весь личный состав подводной лодки.
– В любви объяснялись?
– И в любви, и замуж звали.
– А почему вы сниматься перестали?
– Снималась, но редко. Семья, дом, ребенок… Быт заел, а может, ролей интересных не предлагали… Не знаю. Все это было так давно. В другой жизни.
– Юра вами гордился?
– Нет.
– Нет? – не поверил Георгий.
– Он не любил смотреть мои фильмы. Говорил: я не люблю, когда ты целуешься с другим мужчиной, а не с папой. Я ему объясняла, что это только понарошку, но он все равно ревновал. Юра с детства был очень преданный и однолюб… Скажите, у Юры были на работе девушки? – резко поменяв тему, вдруг спросила Вероника Николаевна.
– Да, – ответил Гольцов. – Коллектив у нас почти наполовину женский.
– Нет, я не это имею в виду. Юре нравился кто-нибудь с работы?
– Не знаю. Не замечал. А что?
– Почему он уволился?
– Не задавался этим вопросом. У нас часто бывают увольнения. Сами знаете, работы много, денег мало, вот и бегут.
Вероника Николаевна сделала жест рукой, означающий, что она намерена сказать нечто очень важное и просит собеседника выслушать ее внимательно.








