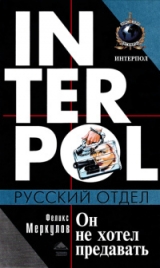
Текст книги "Он не хотел предавать"
Автор книги: Феликс Меркулов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц)
Ольга потихоньку вернула рисунок на прежнее место и подавила в себе желание признаться Юре, что проникла в его тайну.
После Нового года они увиделись еще раз – случайно, мимоходом, в метро. Оля торопилась на лекцию, вошла в вагон на «Чистых прудах» и сразу увидела его. Он сидел с задумчивым видом, понурившись. Ольга заколебалась: стоит ли к нему подходить? Но в это время Юра поднял голову и увидел ее. Лицо его осветилось неподдельной радостью. Он встал, протиснулся к ней. Сказал, широко улыбаясь:
– Привет!
– Привет.
Он спросил, как дела. Она ответила, что все в порядке.
– Как учеба?
– Очень хорошо. На лето предлагают стажировку в Штутгарте.
– Соглашайся.
– Я подумаю.
– Мама спрашивает, куда ты пропала? – сказал он, умолкнув на полуслове.
Ольга так и не поняла, что он имел в виду: то ли просил навестить его родителей, то ли что-то еще.
– Скажи, что у меня грипп, – ответила она. – Тебя что, в детстве врать не учили?
Юра рассмеялся как раньше, когда они часто подтрунивали друг над другом. Но Ольга видела, что все не так, все не как раньше и прежнее никогда не вернется.
– А ты как поживаешь? – спросила она.
Юра пожал плечами. Вдруг признался с ироничной полуулыбкой, словно стыдясь:
– Тяжко…
– Жить тяжко или так на душе? – в той же шутливой манере уточнила она.
– И так и сяк.
– Может, поговорим?
Он упрямо помотал головой, а на словах так ничего ей и не ответил. Помолчали, глядя друг другу в глаза, словно смотрели и не могли насмотреться. Оле даже показалось, он хочет запомнить ее такой, какая она сейчас, и ловила себя на недостойной мысли: ага, миленький, значит, прижала тебя та, другая?
– Я выхожу, – невесело сказал Юра, когда объявили название следующей станции.
Все с тем же внутренним торжеством Оля подумала, что с ней Юра вернулся в свое беззаботное прошлое, в те времена, когда у него было легко на душе.
– Хочешь, я выйду с тобой? Посидим в кафе? – быстро предложила она.
Юра посмотрел на часы. Сейчас он был похож на человека, которому объявили об отсрочке казни.
– Хорошо, у меня еще есть полчаса.
Они вышли из метро, зашли в первое попавшееся на глаза бистро. Есть не хотелось. Хотелось взять его за руку и держать, не отпуская, сжимать его руку так, чтобы белели косточки пальцев.
– Когда молчишь, время тянется медленнее, – улыбнувшись, заметил Юра.
Ей хотелось сказать: «Не уходи!» – но сразу вспомнилась пошлая фраза из цыганского романса, который поют надрывным контральто: «Не уходи-и, побудь со мно-о-ю!» – и слова застряли в горле.
– Ты хочешь чего-нибудь? – спросил Юра. – Хочешь мороженого?
Она не любила мороженое, но Юра оживился:
– Надо же, а ведь я тебя ни разу еще мороженым не угощал!
Сбегал к стойке и принес ей мороженое с дыней.
Она обиженно подумала: ему кажется, что я маленькая девочка, люблю мороженое, а я не маленькая девочка, я женщина, и мне не нужно мороженое, мне нужен он! Но сказать это вслух казалось невозможным. Она ковыряла ложечкой сливочную горку, а Юра сидел напротив и смотрел на нее. Но время от времени он поднимал глаза и устремлял взгляд куда-то поверх ее головы. Оля знала: это он смотрит на часы над входной дверью.
– А ты не можешь никуда не ходить? – едва слышно спросила она, не поднимая глаз.
– Извини. Я должен… – Юра оборвал на полуслове, помолчал и повторил, словно про себя: – Я обязан.
– Это из-за твоей работы?
– Да, это работа.
– А как у тебя в личной жизни? – умирая от стыда, смогла выговорить она.
Юра усмехнулся и с наигранной бодростью, пресекающей любые поползновения вторгнуться на его личную территорию, ответил как отрубил:
– Все просто замечательно!
Оля оскорбленно замолчала. А потом Юра решительно встал и вдруг попросил ее:
– Не забывай мою мать. Она тебя очень любит.
Она удивилась такой просьбе. Юра положил свою руку на ее ладонь, сказал:
– Пока! – улыбнулся на прощание и вышел из кафе.
А через два дня она узнала о страшном…
Она не ведала о том, что между ними произошло – между Юрой и той, другой женщиной. Не любила она его? Но как можно не любить такого, как Юра? Это просто невозможно…
На похоронах Ольга всматривалась в лица всех молодых женщин, выискивая: кто же из них JI.?! Кто она такая?!
Никто. Ни одна из присутствующих не могла быть автором того послания. Все они были или слишком стары, или слишком некрасивы, или приходились Юре ближайшими родственницами… Той женщины среди них не было. И после похорон никто посторонний не навещал могилу Юры. Никто здесь не бывал, кроме родителей и ее, бывшей невесты. Так что, если бы Ольга не знала о существовании той загадочной Л., ей бы и в голову не пришло, что был кто-то еще в его жизни. И в комнате Юры не оставалось больше никаких следов существования той, другой. Тайник в «Динамике айкидо» оказался пуст. Если и были письма, Юра их уничтожил. Он никого не захотел впустить в свою жизнь.
3
Во второй половине дня над Новыми Черемушками разразился настоящий весенний ливень с раскатами молодого грома. В кабинете генерал-майора Полонского стало темно. Пришлось зажечь режущий глаза верхний свет. Вода мутными потоками бежала по оконным стеклам – словно волны накрывали капитанскую каюту. Казалось, еще немного – и смоет весь восемнадцатый этаж здания Главного информационного центра МВД, на котором располагался офис Российского национального центрального бюро Интерпола.
Директор НЦБ генерал-майор Владимир Сергеевич Полонский, откинувшись на спинку кресла, изучал документы. Выражение его лица оставалось загадкой для Гольцова. В тишине шуршали перелистываемые страницы. Наконец шеф сдвинул на кончик носа очки для чтения и поверх них взглянул на собеседника.
– М-да… – протянул он. – Ты понимаешь, Георгий, что все это для нас значит?
Вопрос чисто риторический. Ответить «да» – показать, будто ты умнее шефа. Ответить «нет» – показать, будто вовсе дурак. Вернее всего промолчать. Вроде есть кое-какие мысли, но хотелось бы узнать ваше мнение…
– Это значит, что всем нашим бумажкам теперь грош цена!
Генерал-майор хлопнул по столу плотной стопкой запросов.
– Где гарантия, что это единственный наш прокол? А если таких липовых ответов мы отослали не один, а три, пять, двадцать пять? Годы работы, годы – псу под хвост, если нет к нам доверия. А откуда оно возьмется, если у нас и далее будут такие вот мелкие, досадные, а главное – на пустом месте, проколы!
– Как вы думаете, может, стоит на всякий случай перепроверить и остальные дела, с которыми Малышев работал перед увольнением?
– Да, перепроверь лично. Не привлекая особого внимания. Незаметно.
– За какой срок? То есть я хотел сказать, какой давности дела перепроверять? За месяц до его увольнения, за три, за полгода?
Полонский задумался. Его большая, как у ротвейлера, голова склонилась над документами. Короткие, крепкие пальцы по привычке взъерошили жесткую щетку седых волос надолбом. Словно вспомнив что-то неприятное, шеф с досадой повертел шеей в тугом воротничке светлой рубашки и, расслабив галстук, расстегнул верхнюю пуговицу.
– Февраль, январь, декабрь, – пробормотал он, машинально загибая пальцы. – Давай пока за три месяца. Если все нормально, то отбой, и слава богу. А если вскроется еще хоть один ляп, доложишь мне – и будем проверять дальше… Надо же знать, в конце концов, что у нас тут творится? Чтобы больше никаких сюрпризов.
– Владимир Сергеевич, а почему никто не знает о смерти Малышева? – спросил Георгий то, о чем давно собирался спросить.
– Почему – никто? Я знал.
– А мне вы не могли сообщить?
– Ты что, Гольцов, обиделся?
– Нет, но, согласитесь, не очень красиво получается, когда вот так звонишь родителям и узнаешь…
– Да, действительно, – не возражал Полонский. – Извини. Как-то так вышло… Сразу не хотелось тебя впутывать, а потом к слову не пришлось. Не обижайся, Гольцов, не сказал не потому, что тебе не доверяю. Дело – дрянь.
– А что такое?
– Да ничего особенного, просто, когда людям охота найти виноватых, козел отпущения всегда найдется.
Георгий не понял, что шеф имеет в виду, но задавать вопросы посчитал лишним.
– Известно, почему Малышев это сделал? – спросил он.
– Неизвестно.
– Он что, записки никакой не оставил?
Полонский подошел к сейфу, нашел среди аккуратно сложенных папочек одну, черного цвета, и подал Гольцову лист ксерокопии:
– Читай.
Рукой Юры на листе было написано: «Никого не винить, я сам».
Гольцов нахмурился:
– И все?
– Все.
– А причины?
– Дурь в голове завелась, вот и все причины! – гаркнул в сердцах Полонский. – Сплошные обиды на жизнь – что у него, что у его папаши. Все им жизнь не угодила, и кругом все мерзавцы и негодяи. Знаю я эту касту обиженных новой властью. Упиваются своим несчастьем.
Георгий кашлянул.
– Все-таки перед семьей неудобно, Владимир Сергеевич. Могли бы им помочь, поддержать… Должны были…
Полонский уставился на Гольцова неподвижным, не предвещающим ничего хорошего взглядом.
– Чем ты лично собирался помочь семье в такой ситуации?
– Чем обычно, – пожал плечами Георгий. – Похороны, венки… Проводить в последний путь. А то ведь никто из наших даже не пришел на похороны.
– Это кто тебе сказал, что никто из наших не был на похоронах?
– Мать его сказала.
Полонский усмехнулся: ну и люди!
– Я самолично был на Троекуровском, – объявил он. – И венок от имени Интерпола принес, и некролог в ведомственную малотиражку послал. Соболезнование выразил.
У Гольцова брови поползли вверх.
– Тогда почему?..
– Потому что есть такое гнилое чувство, Гольцов, – обида называется. Обидишься на весь свет и сидишь, гордый, и все перед тобой чем-то виноваты. Короче, не стоило тебе на похороны соваться, только нервы себе трепать. Хватит и того, чего я наслушался. Давай на этом поставим точку. И не говори никому. Понял ты меня?
– Так точно, Владимир Сергеевич.
– Да и не работал уже у нас Малышев к тому времени.
– Да, я знаю…
Полонский посмотрел на Гольцова:
– Расстроился?
Георгий неопределенно повел плечом. Ему вспомнился тот день в середине февраля, когда Малышев неожиданно, когда и так не хватало рабочих рук и ног, положил перед ним на стол заявление об уходе. Георгий пробежал его глазами и удивленно уставился на Малышева:
– Юра, совесть-то имей! Может, потерпишь? Сам видишь, какая у нас запарка…
Малышев коротко ответил:
– Нет.
Выглядел он как обычно: такой же спокойный, замкнутый. Только в глаза старался не смотреть.
– Что случилось? – спросил Георгий.
– Ничего.
– Что-то произошло?
– Нет.
– Дома?
Юра отрицательно мотнул головой.
– Тогда в чем дело? К чему такая спешка? Да говори ты, не телись!
Юра поднял глаза, во взгляде светилась обида и… ненависть.
– Вы подпишете заявление, товарищ майор?
Гольцов, стараясь казаться равнодушным, сухо ответил:
– Это не ко мне. Это в приемную к Полонскому.
– Слушаюсь!
Юра забрал заявление и вышел. Ни объяснений, ни оправданий… Гордый.
За то годы, что Гольцов проработал в Интерполе, личный состав сотрудников здорово поменялся, и редко кто уходил без объяснения причин, разве когда гнать надо было такого работничка в шею. При увольнении все чувствовали себя немного виноватыми перед коллегами и напоследок старались расшаркаться. Бросаю, мол, работу, но не родной коллектив. Малышев отличился. Взял и ушел, не сказав никому ни слова. А мог бы и объясниться: так, мол, и так, хорошая работа подвернулась, жаль упускать шанс, войди в мое положение… Ведь знал, что у Гольцова к нему отношение скорее дружеское, чем деловое. И тем не менее…
В бюро на его увольнение никто не обратил особого внимания. Исчез человек и исчез, нашел какое-то другое место. Всем известно: рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше – и за это не осуждают. А Георгий тогда обиделся на Малышева, хоть виду и не подал. Да, было обидно, потому что Малышев бросил не просто работу, а именно – людей.
Вот и все, что знал Гольцов до сегодняшнего утра.
– Не подписал я тогда его заявление, – объяснил Полонский. – Дал время подумать до конца февраля, пока догуляет очередной отпуск. Я так понял, что у него что-то случилось. Может, конфликтовал с кем-то из наших? Поссорился? Ты ничего такого не замечал?
– Нет, – подумав, ответил Георгий. – Не припоминаю. Не похоже на Малышева.
– То-то и оно, что непохоже. Хотя в тихом омуте, сам знаешь… Как он того хмыря из министерства осадил?
– «Не надо путать хамство с принципиальностью»! – процитировал Георгий. – Как же, классика.
Эта Юрина фраза, произнесенная тихим, спокойным тоном, когда на него попытался повысить голос кто-то из министерских чинов, вошла в словарный фонд сотрудников НЦБ. Ее теперь часто повторяли. А Полонский между тем продолжал:
– В положенный срок Малышев на службу не вышел. По моей просьбе Зиночка, секретарша, звонила ему домой, но Юра к телефону не подходил. Честно скажу, Гольцов, разозлился я на него и первого числа подмахнул заявление. А второго утром мне сообщают, что Малышев застрелился. Нашли его на даче. Стрелялся из наградного пистолета отца. В рот… Обнаружили тело на вторые сутки. Приезжал ко мне следователь, брал показания. Ну что тут скажешь?!
Полонский тяжело вздохнул, взъерошил двумя руками короткий, с сильной проседью, ежик волос, как всегда делал в те минуты, когда мысли были заняты чем-то неприятным и беспокойным. Черное офисное кресло скрипнуло под его грузным телом.
– Совсем еще мальчишка, двадцать шесть лет. Единственный сын. Разделяю родительское горе, понимаю, сам это пережил… Но нельзя же, как его мать, на всех набрасываться с обвинениями. Нет в этой истории виноватых, Гольцов, понимаешь? Нет.
– Согласен, Владимир Сергеевич. Но и мать понять можно.
– Прямо беда… Ладно, ты иди, срочно с Таганской прокуратурой разберись. Съезди к ним, лично поговори со следователем. Ну ты меня понимаешь? Потом доложишь.
Георгий утвердительно мотнул головой: есть!
На выходе из кабинета Гольцов поймал на себе взгляд Зиночки. Секретарша Полонского обладала сверхъестественной способностью знать обо всем, что происходит за дверью кабинета шефа. Георгий кивнул ей и вышел из приемной.
Проходя мимо знакомой двери, Гольцов не удержался и заглянул внутрь. В кабинете, где раньше работал Малышев, за столом теперь сидел другой сотрудник. Здесь все оставалось так же, как и при жизни лейтенанта. Только со стола исчезла красная пластиковая кружка с надписью «Юрий» и керамическая пепельница в виде бравого солдата Швейка, которую Юра привез из Праги и всегда держал на своем столе, хотя и не курил. Его часто отправляли по работе в Чехию. Юра Малышев знал немецкий, французский и чешский. И всегда удивлялся, почему в Праге так гордятся домом Франса Кафки, но нет экскурсий по пивнушкам, которые посещал жизнерадостный Йозеф Швейк.
Как обычно, Полонский принял на себя основной удар, подставился как щит, оберегая своих людей от неприятных эмоций. Не отправил никого вместо себя (а ведь мог бы!) – нет, лично поехал на кладбище. Добровольно взвалил на себя кошмар материнских рыданий, незаслуженных обвинений. А теперь, пережив это, перетерпев, хочет, чтобы на этом все и закончилось.
Что ж, он имеет на это право…
Над Юриным столом, рядом с фирменным календарем Росвооружения, висели цветные любительские фотографии, на которых все обычно выходят с кроличьими глазами. Ба, знакомые все лица! Георгий подошел ближе и сразу вспомнил, когда и где это было снято: 13 января сего года в баре «Лес», где они по чистому совпадению коллективно отметили старый Новый год. На одном из снимков он узнал самого себя в обнимку с Зиночкой. У него на голове прицеплены уши Микки-Мауса, на Зиночке – очки с красным носом, страшна как смерть. Вот и Юра. Как всегда, задумчиво повесил голову и смотрит в никуда, словно в эту минуту мыслями далеко-далеко.
Георгий отколол фотографию, поднес к глазам. Ему хотелось разглядеть что-то такое в Юре, что дало бы понять, каким он был на самом деле. Высокий, красивый темноволосый парень. Но о чем он думал, когда сидел на ночных дежурствах вот за этим столом или когда веселился тогда в «Лесу» на староновогодней гулянке?
Уж наверняка не о том, что скоро будет лежать в могиле на Троекуровском кладбище…
Почему, ну почему он это сделал?
Ведь должна быть причина. Ни с того ни с сего люди не стреляются. Узнал, что смертельно болен? Бред, он был здоров. Занимался спортом, регулярно проходил медкомиссии.
Георгий рассматривал фотографии одну за другой, и ему вспоминались различные моменты жизни, связанные с Юрой Малышевым. Как-то вскоре после Юриного увольнения он спускался в лифте с одним из сослуживцев, и разговор у них случайно зашел о Малышеве.
– Если честно, мне он не нравился, – признался сослуживец. – Слишком тихий. Такие люди всегда вызывают подозрение, особенно мужики. Они или педики, или…
– Или кто?
Сослуживец пожал плечами, видимо не найдя подходящего сравнения. «А что, – сказал Георгий – если бы он морально разлагался и сморкался в два пальца, то тем самым был бы ближе народу?» Сослуживец, понятное дело, обиделся.
Оба они тогда даже предположить не могли, что Юры уже нет в живых.
После увольнения Малышева многие отзывались о нем нелестно. Тем, кто его плохо знал, он казался даже туповатым. Если открывал рот, то говорил тихо, как мямля, иной раз приходилось на него прикрикивать. А Гольцову Юра был симпатичен как раз теми чертами, которые отталкивали других: замкнутостью, сдержанностью, умением молчать. Несколько раз они вместе занимались решением кое-каких проблем, и Малышев никогда не подводил. Это был очень надежный человек, в любых ситуациях остающийся ровным, спокойным, немногословным. Казалось, он начисто лишен эмоций. И с коллегами никогда не прибегал к повышенным тонам. «Не надо путать хамство с принципиальностью»…
И еще Юра умел жертвовать личными интересами, что особенно ценно в коллективе, где небольшие зарплаты, ненормированный рабочий день, а задача – ни больше ни меньше как спасать мир…
Выйдя из кабинета, Георгий столкнулся с Зиночкой. Она будто ждала его, спросила грустно:
– Переживаешь?
– Переживаю.
– Хороший он был мальчик, правда?
Для Зиночки все они были «мальчиками», даже усатые дядьки, обремененные детьми и долгами. И всех их она любила как своих младших братьев, заботилась о них, считала своим долгом смягчать отношения между «верхами» – шефом, и «низами» – коллективом.
Зиночка была из числа немногих сотрудников, пришедших в НЦБ почти с момента его создания. Пришла, да и прикипела к месту, к людям – и осталась здесь навсегда. Сменялись директора, менялась внутренняя и внешняя политика бюро, приходили и уходили молодые офицеры, а Зиночка оставалась такой же, как в первый свой рабочий день…
Нет, конечно же не такой. Более умудренной и опытной. И потому немного грустной.
– Да, правда, – согласился с ней Гольцов.
– А для родителей его какая трагедия!
Она сказала так, будто смерть Юры Малышева стала и ее личной трагедией. Зиночка о своих чувствах никогда не рассказывала, но почему бы не допустить, что Юра нравился ей самой. Это они, молодые офицеры, привыкли видеть в Зиночке только товарища, собрата, так уж «исторически сложилось», как пишется в учебниках по истории. Зиночка сама могла бы написать учебник по истории Российского бюро Интерпола.
– Прямо беда, – повторила она слова Полонского. – Все-таки вы, мужчины, такие ранимые, хоть и хорохоритесь, и притворяетесь циниками. А на самом деле…
– Что?
– А на самом деле вам надо бы поучиться плакать, вот что!
– Это еще зачем?
– А затем, – серьезно глядя на Гольцова, ответила Зиночка. – Меньше всякой дряни будете накапливать здесь. – Она похлопала себя ладонью полевой стороне груди. Добавила: – Женщинам легче. Поревешь, вот и отлегло от сердца. А вы всё в себе держите. Держите, держите, а потом – вот. Зиночка кивнула на дверь кабинета, в который больше никогда не войдет Юра Малышев. – Как натянутая струна, – объяснила она. – Однажды обрывается.
– Не понимаю, зачем он это сделал? – сказал Георгий. – Ведь не психопат. Нормальный, здоровый парень. Уж кто-кто, но Малышев!.. Никогда бы не подумал. Как считаешь, почему он это сделал?
Зиночка покачала головой, глядя на Гольцова почти с упреком:
– А то ты не знаешь, из-за чего стреляются в двадцать шесть лет.
– Не знаю.
– Правда не знаешь?
– Правда не знаю.
– Гоша! В двадцать шесть лет стреляются из-за любви.
– Ты точно знаешь или это так, женская интуиция?
Зиночка сердито тряхнула светлыми кудряшками:
– Не прикидывайся старым циником, Гольцов. Тебе это не идет.
Повернулась и пошла по коридору, сердито постукивая каблучками.
Георгий и не притворялся. Он вправду не верил.
В двадцать шесть лет разве думаешь о смерти? Да, кажется, скорее мир перевернется, чем ты перестанешь существовать!
Сколько раз Гольцов встречал рисковых парней, на которых, что называется, шкура горит. И все они были уверены, что уж с ними-то точно ничего не случится. Жизнь фонтанировала в них, била ключом, они просто не могли умереть и чувствовали это. В двадцать шесть легко бравировать и рисковать жизнью, потому что ты уверен – на самом деле все это только игра и жить ты будешь долго и счастливо. В эту пору легко забываются проблемы, легко прощаются обиды, легко принимаются ответственные решения, и в будущее смотришь с оптимизмом, потому что веришь: в любой момент все можно повернуть вспять, начать сначала. Судьба лепится пальцами, как жирная глина, в любой момент ее можно смять и начать лепить заново.
Елки-палки, до чего же здорово живется в эту пору, с какой силой страдается, любится, дышится, не спится по ночам!..
Ну из-за чего, из-за чего можно в двадцать шесть лет пустить пулю в рот, если даже в трагедии наслаждаешься собственными страданиями, потому что по-щенячьи уверен: никто до тебя ничего подобного не переживал!
Вообще, из-за чего люди добровольно уходят из жизни?
Из-за опустошенности, разочарования, отчаяния? Но откуда было всему этому взяться у молодого, здорового, красивого, благополучного во всех отношениях парня, откуда?
4
Яцек Михальский, друг и коллега еще по КГБ Литвы, а теперь глава частного охранного агентства «Кондор», ожидал Георгия в Центре ветеранов ВДВ. Друзья давно не виделись. Михальский по делам на месяц уезжал в Южную Америку и теперь – здоровенный, бритоголовый – выделялся на фоне бледнолицых москвичей колониальным загаром.
– Привет! – Яцек поднялся навстречу Георгию, жестом представил своего собеседника: – Подполковник Исидро Карпентер, наш человек в Гаване. А это мой друг майор Георгий, стало быть, по-испански Хорхе Гольцов.
– Комо эстас? – спросил Георгий, протягивая кубинцу руку.
Исидро рассмеялся. Ответил по-русски:
– Неплохо.
Судя потому, что на столе стоял ром «Гавана-клаб», хозяином застолья был кубинский подполковник.
Яцек мимоходом объяснил:
– Кубинцы предлагают свою базу в районе Кайо-эль-Буканеро для очередного тренинга. Не знаю. Надо подумать.
– Что означает «буканеро»? – поинтересовался Георгий.
– Пират. Корсар, – объяснил подполковник. – А «кайо»…
– Остров, я знаю.
– Вы бывали на Кубе, Хорхе?
– Бывал.
– Где?
– В Гаване.
– Мне знакомо ваше лицо. Мы с вами не встречались?
– Не знаю. У меня плохая память на лица, – слукавил Георгий. – А что, кубинцы заинтересованы в участии в антитеррористическом тренинге?
– О да, конечно, – растягивая гласные, ответил подполковник. – Проблема международного терроризма очень остро стоит перед нашим народом уже более сорока лет. Начиная от попыток физического устранения главы нашего правительства Кастро Руса…
– О да, это классика, – с едва уловимой иронией вставил Яцек.
– …До международной торговли наркотиками, в чем нас обвиняют американцы.
– Разве генерал Очоа не торговал наркотиками? – наивным тоном спросил Георгий.
– Генерал Очоа был предателем, – очень серьезно ответил кубинец.
– Насколько я помню, его расстреляли?
– Да, он был приговорен к смертной казни, – еще серьезнее сказал кубинец и пошел к барной стойке.
Георгий вспомнил, где он встречался с подполковником Карпентером. Год назад на американской военной базе в Гуантанамо, куда Гольцов летал в составе делегации на опознание одного из арестованных американцами афганских террористов – по данным Интерпола этнического татарина родом из-под Казани. Подполковник Карпентер сопровождал делегацию от гаванского аэропорта Хосе Марти до городка Гуантанамо в восточной, беднейшей части острова, где под палящим солнцем ржавыми маскировочными сетками тянутся плантации табака.
– Ты чего, не в настроении? – шепнул Яцек. – Проблемы?
– Как всегда, все просто замечательно. Слушай, может, оторвешься от своего кубинца, съездишь со мной кое-куда?
– Что, прямо сейчас?
– Да.
– Поконкретнее можешь сказать, куда именно?
– На Троекуровское кладбище.
Привыкший ко всякому, Яцек не стал больше задавать вопросов. Посмотрел на часы и шепнул:
– Жди на выходе. Я сейчас.
После дождя небо над Москвой поднялось высоко-высоко, словно с города сорвало крышу. По ультрамариновому фону быстро бежали лиловые гряды облаков, отражаясь в темных водах Сетуни. Над голыми кронами кладбищенской рощи высоко возносился шпиль колокольни церкви Николы Чудотворца.
Из всех людей, которых знал Георгий, только с Яцеком Михальским можно было вот так внезапно взять и приехать на кладбище к погибшему другу.
Не другу, поправил себя Гольцов. Сослуживцу. Они просто не успели ближе сойтись. Всегда так, пока человек жив, многое откладываешь на потом. Это вроде как со знакомой красивой девушкой: думаешь пригласить ее на свидание, но все откладываешь и откладываешь, пока однажды не узнаёшь, что она вышла замуж…
В конторе администрации они спросили номер участка. Наглый кладбищенский чиновник, гладкомордый, словно пользовался не бритвой, а дамским кремом для депиляции волос, выпучив глаза, орал при них на пожилую просительницу: «За что я вам дам место? За ваши красивые глаза?»
«Если он сейчас повысит на меня голос, я не выдержу и его придавлю», – подумал Георгий. Покосился на Яцека и понял: друг думал о том же. Но, вопреки ожиданиям, кладбищенский паук остался жив и даже начертил им на самоклеющемся листке схему, как пройти к нужному участку.
Малышев был похоронен в старой части кладбища, на семейном участке за кованой чугунной оградой. На иссиня-черном мраморном кресте вызолоченными литерами была запечатлена печальная хроника одной семьи:
Аполлинарий Поликарпович Малышев 1887–1959
Елизавета Андреевна Малышева (Спасская) 1913–1979
Виссарион Аполлинарьевич Малышев 1910–1995
Юрий Андреевич Малышев 1975–2001
Со стороны реки дул пронизывающий ветер. В воздухе висела изморось. Было сыро и холодно. Георгий достал из внутреннего кармана плаща плоскую бутылку, разлил водку в пластиковые стаканы:
– Давай помянем хорошего парня.
Яцек взял стакан.
– Кого поминать будем? – спросил осторожно.
– Вот его, – Георгий кивком указал на крест, – Юрия.
Опустив глаза. Яцек смотрел в свой стакан:
– Сослуживец?
– Да.
– Погиб?
– Да. Глупо так. Двадцать шесть лет…
– Как?
– Сам…
– Сам?
– Да. Застрелился.
Яцек поднял глаза. Посмотрел на Георгия, на могилу.
– Когда?
– Месяц назад. А я узнал только сегодня. Такая вот хреновина, – вздохнул Георгий. – Ну, как говорится, пухом ему земля!
Они выпили. Яцек спросил:
– Так, у вас теперь шухер из-за него?
Он вообще умел ловить ситуацию с полуслова.
– Нет, – ответил Георгий. – Кроме меня и шефа, никто ничего не знает. В принципе и не обязаны. Он уволился незадолго до того…
– Странно, – заметил Яцек. – Что-то произошло?
Георгий пожал плечами: не знаю.
За могилой с любовью ухаживали. У подножия креста в вазе стояли свежие гвоздики. Деревянная скамейка в ограде недавно была окрашена в цвет ранней зелени. Георгий просунул руку сквозь прутья решетки, положил на край каменного бордюра свой букет.
Все равно в голове не укладывается, что Юра – там. Еще недавно Георгий мог, не кривя душой, заявить: я хорошо знал Юру Малышева. Сегодня – нет. Нет, он плохо знал Юру! Очень плохо, ведь если бы знал хорошо, то заметил бы, что с Юрой что-то происходит. Человек не стреляется без причины. Юра работал с ним бок о бок и ничем не вызвал подозрений. Может быть, в ту минуту, когда они молча доигрывали отложенную партию в шахматы, Малышев думал о том, что позже совершит?
И этого Георгий тоже не мог себе простить.
Неужели Малышев правда застрелился из-за любви? «Из-за такой ерунды? – подумал Георгий и сам себе подтвердил: – Именно из-за ерунды и стреляются в двадцать шесть лет». Сейчас ему самому тридцать пять… Каким он был девять лет назад?
И как всегда, когда пытаешься вспомнить не событие, а свое внутреннее состояние в то время, оказывается, что не можешь. Кажется, что всегда ты таким и был, как сейчас, – тертым калачом, стреляным воробьем, которого на мякине не проведешь. И уж тем более на такой ерунде, как большая, но чистая… Господи!
Только это было не девять лет назад. Девять лет назад он попал в свою первую командировку в Чечню. А Чечня – это не то место, где пробивает на любовь. Возвращался из командировки в Москву к жене – она радовалась, что живой, он радовался, потому что видел сына. Сын – бутуз с соской, в голубых штанишках на лямках, хлопал глазенками, не понимая, кто это хватает его из теплой кровати и тянет подбрасывать под потолок.
– Осторожно! Уронишь!
– Не уроню.
– Он недоспал, опять будет капризничать.
– Я же его сто лет не видел!
– Ну видишь? Он уже ревет. Не пугай ребенка.
– Он меня не боится. Ну, не боишься, правда? Я твой батя, узнаёшь?
Сын улыбался, роняя соску.
Потом снова отъезд в Чечню и слезы жены перед расставанием, а потом – уже ее тихая злость, и сквозь зубы процеженные слова, и кто знает, что еще… Это когда уже все стало плохо.
А ведь когда-то любил. И сейчас любит, наверное.
Ведь было когда-то то самое большое чувство, жгучее, щемящее, тревожащее, не дающее спать по ночам?
И стоило только об этом подумать, как сразу же в памяти всплыл образ Ройзен – рыжеволосой ирландки с очень нежной молочно-розовой кожей. Вспомнились ее зеленые с коричневой крапинкой глаза… Лондон, бар в районе порта, куда он заходил… Запах сигаретного дыма, гудки, доносящиеся из дока… Все вместе это составляло образ Ройзен – официантки в белых носках и высоких солдатских ботинках, которая легко разносила между столиками тяжеленные бокалы портера. Только было это не девять лет назад, а чуть раньше, и он не любил Ройзен, и всегда знал, что не любит ее… Но вот сколько лет уже прошло, а стоит подумать о ней – и встает перед глазами, словно вчера было. И кажется – окажись сейчас в районе Лондонского порта, зайди в тот бар, и увидишь ее, все такую же…
А тогда он рвался из Лондона домой, к жене, оставшейся в Вильнюсе. Ей в те дни довелось испытать на себе все прелести роли жены «опасного государственного преступника»! Вильнюс после августовского путча… «Оккупанты, вон!» Бежать пришлось внезапно, спасибо Михальскому, по-дружески предупредил: литовцы отдали приказ о его аресте. Хотя Георгий, собственно, к штурму телецентра и гибели гражданских лиц никакого отношения не имел, но так уж обстоятельства сложились – срочно требовались козлы отпущения, и он подвернулся под руку… Тогда судьба и закинула его на гостеприимные берега туманного Альбиона. Насчет «туманного» – давно вранье. Климат в Британии, как и во всей Западной Европе, за последний век сильно изменился, и никаких «лондонских туманов» за свое почти годичное пребывание Гольцов не припомнит.








